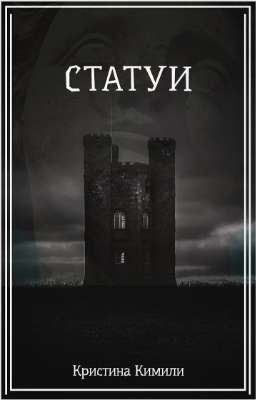Глава 6
Брелок от ключей в виде обкоцанной пластмассовой розочки громко стукнулся о столешницу, да так и затих, неспособный выразить свой упрёк.
Фьора сбросила ботинки и прислонилась к стене. Её любимая уютная квартирка сейчас напоминала одинокую пещеру, в которую давным-давно перестало заглядывать солнце. По пути в спальню Фьора стянула с себя водолазку, стащила джинсы и отправила всё в корзину для белья. Не то, чтобы одежда была грязной, но почему-то очень хотелось отстирать её на самом мощном режиме.
Надев домашние штаны со старой футболкой, Фьора машинально прошлась по комнате, собирая то, что лежало в беспорядке – комикс, тарелку из-под чипсов, пустые стаканчики и шкурки от бананов, которым так вообще было место в мусорном ведре. Она умылась и долго смотрела в зеркало на своё лицо. Зелёные радужки блестели в тусклом свете, и Фьора в который раз за последнее время никак не могла понять, что же она хочет увидеть в собственных глазах.
Мысли метались, не давая шанса остановиться ни на одной конкретной. Она просидела в доме Фабио до двух часов ночи. Тот больше не просыпался, провалившись в ещё один глубокий сон, но Эттори сказал, что им не о чем беспокоиться. Уго отвёз Фьору домой. Они долго сидели внутри машины и молчали, но не потому, что им не о чем было говорить.
– Прости, – сказал Уго, когда, наконец, они выбрались на свежий ночной воздух.
– За что?
– Я понимаю, почему ты не хочешь, ну, идти мне навстречу, – он засунул руки в карманы и смущённо поднял голову. – С моей стороны даже глупо просить об этом. И всё-таки я не хочу, чтобы ты смотрела на меня волком. Особенно теперь. Так что прости меня за всё. Правда, прости.
– Всё в прошлом. – Ей хотелось сказать больше, намного больше, но она просто не смогла.
Она знала: он хочет понять. Хочет выяснить, что она ответила на вопрос «зачем». Хочет помочь. Когда-то он был ей такой опорой, что она в шутку называла его Атлантом. Не было смысла возвращать те времена. Ей просто было грустно, что они прошли.
Уго кивнул и подождал, пока она не зайдёт в подъезд. После этого он ушёл. Из маленького мутного окошка Фьора смотрела, как его широкая спина то выплывала в свете фонарей, то снова пряталась неясным призраком под ночным покрывалом.
Включив настольную лампу, Фьора подошла к книжному шкафу, самому надёжному другу в квартире и в целом по жизни. Когда-то в нём стояли школьные учебники, библиотечные издания и старые мамины книги, постепенно вытесняясь новыми экземплярами и альбомами с репродукциями, которые стоили просто баснословных денег. Но это были те сокровища, на которые она была готова спустить последнюю стипендию просто потому, что они давали ей взамен больше, чем любые развлечения, любая одежда и походы в кино.
Фьора потянулась к центральной полочке и достала небольшой, довольно истрёпанный томик. Перед тем, как ложиться в постель, ей хотелось утихомирить свои мысли. Книга, которую она держала в руках, была причиной множества долгих размышлений, порой слишком тяжёлых и слишком будоражащих, но совершенно точно отвлекающих от реальности. Прямо сейчас Фьоре отчаянно захотелось вновь в них погрузиться.
Она села в кресло, открыла первую страницу и прошептала, больше наизусть, чем действительно читая слова:
– «Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои…»*
* * *
В тот день было пасмурно с самого утра. С трудом заставив себя съесть хотя бы банан, Фьора стояла у раскрытого настежь окна и глубоко дышала свежим набухшим воздухом. Тучи лениво наползли на небо, да так и застряли, не в силах сдвинуться от собственной тяжести. Казалось, стоит только взмахнуть рукой невидимому дирижёру, и потоки воды хлынут на истосковавшуюся по влаге землю.
Фьора очень любила такую погоду и обязательно провела бы этот день в парке с книгой и зонтом, если бы не предстоящая встреча. Теперь же вместо стаканчика кофе она сжимала пальцами холщовую сумку, лежавшую на коленях, и тряслась в битком набитой машине в нескольких десятках километрах от города.
Качнувшись на повороте, она задела плечом Джианни.
– Прости.
Губы юноши тронула мягкая улыбка.
– Волнуешься? – спросил он, снизив голос до полутона, что было совершенно ни к чему: Мирелла и Эттори были погружены в какую-то словесную игру, а Фабио, хоть и сидел совсем рядом, казалось, был глубоко увлечён чем-то в телефоне.
– Да, немного.
Фьора в третий раз за поездку вытащила из сумки бутылочку воды и сделала глоток. Храбриться было ни к чему. Она до сих пор не могла в полной мере осознать, куда в действительности сейчас направляется.
Джианни сочувственно поджал губы и проследил за ней взглядом.
– Знаешь, а ведь к этому невозможно привыкнуть.
– По тебе и не скажешь, – попыталась улыбнуться Фьора.
Джианни пожал плечами.
– Страшно тогда, когда не знаешь, что тебя ждёт. Я же говорю о другом. Ощущения. Они слишком… как бы сказать? Специфичны.
– Так больно?
– Нет-нет, я не про то, – поспешно ответил Джианни, видя выражение её лица. – Как раз-таки боли и нет вовсе, ну разве что во время прокола, первые пару секунд. А потом…
– А потом тебе покажется, что ты будто заново родилась, – Фабио наконец оторвался от телефона и весело подмигнул Фьоре.
– Да, – улыбка Джианни была более сдержанной, словно существовала только ради приличия, однако глаза смотрели действительно по-доброму. – Очень сложно передать это словами в полной мере.
– Ты просто умрёшь от удовольствия, – серьёзно сказал Фабио.
– Пожалуйста, давайте сегодня никто умирать не будет.
От голоса Эттори Фьора вздрогнула. Его глаза скользнули по ней в зеркале заднего вида, и она заметила это.
– Ты позавтракала?
Фьора неуверенно промычала в ответ.
– Я буду совсем рядом. Да и ты будешь не одна. Беспокоиться, не о чем, правда. Хотя я, конечно, понимаю, что для тебя эти слова сейчас звучат совершенно бесполезно.
Мирелла откинула голову на спинку сиденья и лениво скосила глаза.
– Ты девственница?
Вопрос прозвучал слишком громко в наступившей тишине.
– Что?
– Я спросила, ты девственница, Фьора?
– Зачем ты спрашиваешь её об этом? – нахмурившись, бросил Эттори.
Мирелла пожала плечами и отвернулась к окну.
– Лично мне это напомнило ощущения после первого раза. Может, так ей будет понятнее.
– Да ты извращенка! – Фабио пихнул кресло Миреллы коленом. – Ты забыла, как выглядит этот твой Джакомо? Он на вид старше всего человечества. И ненасытный к тому же.
Мирелла вытянула вверх руку и показала Фабио изящный средний пальчик с тёмно-красным ноготком.
– Уж чья бы корова мычала… Втюрился, как мальчик.
– Я хотя бы в красотку втюрился, а не в старого перд…
– Прекратите, – громко сказал Эттори. – Мы подъезжаем.
* * *
Шины мягко прошуршали по земле и остановились. Стало прохладнее. Поросль старых деревьев не защищала от бушующего ветра. Юбка светлого платья Миреллы в стиле лолли-долл задиралась под его порывами, и она машинально придерживала её руками. Эттори открыл багажник и вытащил под завязку набитый рюкзак. Внутри звякнуло стеклом. Помимо рюкзака в багажнике лежал большой термос и два бумажных пакета с проступившими пятнами жира от бургеров.
– Я, как обычно, постараюсь справиться побыстрее и обойду вас всех. Фьора, к тебе загляну первой.
Девушка кивнула и с интересом посмотрела на тёмную жидкость в маленькой стеклянной бутылочке. Сверху маркером были написаны имена. Эттори перепроверил наличие каждого.
– Почему он не даст их вам… то есть, нам сразу же? – шепнула Фьора Джианни, когда они подходили к дверям.
Парень замялся.
– Я бы не сказал, что он нам совсем не доверяет, – протянул он. – Скорее, просто хочет проконтролировать всё самостоятельно. У него, кстати, и другие штуки есть, на случай, если что-то пойдёт не так.
– А что может пойти не так?
– У меня, например, показания гемоглобина на нижнем пороге. Я не могу отдать много крови, иначе потеряю сознание. У Миреллы та же проблема, поэтому мы идём за одного.
– Вы идёте за одного, потому что Джакомо ест за двоих, – вклинился в разговор Фабио. Он закатывал рукава нарядной бежевой рубашки, которая оттеняла его загорелую кожу. «Очень практичный выбор», – подумала Фьора, но вслух ничего говорить больше не стала. Волнение охватило её с головой.
«Так, вдох-выдох. Обмороки сейчас точно ни к чему. Я должна быть спокойной».
– Ну что же, – Эттори обвёл всех взглядом. Он хотел было продолжить и сказать что-то ещё, но передумал и молча потянул на себя дверь.
Их уже ждали. Едва они вошли внутрь, как откуда-то из сереющей глубины донеслись звуки неторопливых шагов. Послышался низкий и неожиданно громкий голос:
– Клянусь, в следующий раз я твою тарахтелку закидаю камнями!
В проёме, отделявшем тесную прихожую от просторного зала, служившего когда-то местом для проведения служб, показалась фигура в тёмных одеждах. Половину её лица скрывал капюшон, под которым белел массивный подбородок.
– И я рад видеть тебя, Фаусто.
Эттори улыбнулся и шагнул фигуре навстречу. Они порывисто обнялись.
– Я ведь серьёзно, мальчик, – без тени дружелюбия в голосе строго сказал Фаусто.
– Я учту и в следующий поставлю машину подальше.
– Каждый раз вздрагиваю от мысли, что это могут быть заблудшие крестьяне… или как ты их там называешь? Туристы?
Фабио шумно фыркнул и отвернулся, пряча улыбку. Фаусто поднял голову выше и его лицо, наконец, открылось для окружающих.
Оно не было похоже на лицо мертвеца, даже не казалось каменным, как представляла себе Фьора после рассказов остальных. Просто зрачки застыли на месте, а мимика была тягучей и неповоротливой. Бледная кожа, оттеняемая чернотой балахона, напоминала прозрачную нежную кожу Миреллы, и вполне могла сойти за человеческую.
– Здравствуйте, – кивнул Фабио, прежде чем Фаусто успел что-то сказать. – Смотрите, у нас новенькая. Давайте вы промоете косточки ей, а я пока пойду.
С этими словами он слегка подтолкнул Фьору вперёд, и она с возмущением оглянулась на него.
– Джулия в своей келье, – бросил вампир, и Фабио, проворно обогнув его, скрылся в проёме.
Фаусто смотрел на Фьору и молчал. Она растерялась. Ей было не по себе от этих неподвижных глаз, словно её гипнотизировал хищник, собираясь поужинать. По спине пополз страх. В голову совершенно некстати стали лезть картинки кровавых жертвоприношений и мысли о том, что её заманили в ловушку.
– Как тебя зовут, дитя? – Ровный голос не выражал никаких эмоций.
– Фьо… – она проглотила окончание своего имени.
– Благодарю тебя за то, что ты здесь.
Фаусто слегка склонил голову и замер так на несколько мгновений.
Эттори воспользовался ситуацией.
– Вам удалось его уговорить?
– С трудом, но да, – ответил Фаусто. – Он сильно ослаб за это время. Ты ведь знаешь, здесь практически нет живности, очень редко удаётся поймать какую-нибудь полёвку. На их крови невозможно существовать в полной мере, но и заснуть нельзя. Так что он совсем плох. И очень голоден.
Эттори нахмурился.
– Может, мне стоит пойти с ней?
– Нет. Исключено. Он даже меня не хочет лишний раз видеть. Упрямец, – Фаусто покачал головой. – Он знает, что другого выхода нет. И засыпать, конечно же, отказывается, всё толкует про своё бремя. Держится на одной воле. Но она же разжигает в нём и жажду.
Он вновь тяжело посмотрел на Фьору.
– Ты должна пойти одна.
Его голос набатом отражался от высокого потолка и стен.
– Не бойся того, что увидишь. Каким бы он сейчас ни был, он не причинит тебе большого вреда.
Фьора прикрыла глаза и вздохнула, собираясь с мыслями.
– Как его зовут? – спросила она.
– Амори.
* * *
По наказу Фаусто Фьора вновь вышла на улицу, с некоторой опаской обогнула высокое, почерневшее словно от пожара дерево и обошла монастырь с другой стороны. В паре десятков метров от него, немного наискось, располагалось полуразрушенное одноэтажное строение. Его потолок вполовину обвалился, обнажая небу то, что было внутри. Это была первая временная постройка, которую Фаусто возвёл для себя и рабочих перед тем, как взяться за монастырь. Стены развалин, поросшие сорняками и сильно потемневшие от времени, напоминали скорее причудливую пещеру с зияющим чернотой ртом вместо двери.
Фьора остановилась у большого булыжника и вытянула шею, пытаясь заглянуть внутрь. Конечно, эта попытка оказалась провальной. Она обернулась к монастырю и вновь повторила про себя слова Эттори о том, что он будет рядом, однако внутренний голос скептически заметил: для того, чтобы убить, достаточно всего секунды времени.
Очередной порыв ветра донёс до её ушей звонкий женский смех. Фьора вгляделась в высокие витражные окна. В одном из них мелькнули рыжие волосы.
Тело стало мёрзнуть.
«Никто не осудит меня, если я откажусь. Никто ничего мне не сделает. Но я всё равно не могу туда не пойти».
Она осторожно ступала между камней, стараясь не угодить в какую-нибудь щель и не подвернуть ногу. Постепенно основания стен спрятали её от промозглого ветра, сгущая вокруг глубокие тени. Повернув вправо, Фьора окончательно скрылась от серого дневного света и несколько мгновений ступала в абсолютной темноте, держась рукой за шершавые пыльные кирпичи. От камней исходил леденящий холод, и Фьора поёжилась под тканью тонкой кофточки.
Постепенно то тут, то там стали появляться расщелины. Хоть Фьора и шла очень медленно, весь путь занял от силы пару минут, растянувшись до бесконечности в её воображении. Она вышла к относительно просторному помещению. Уцелевшие стены закрывали его от остального мира, подставляя под власть неба, а разрушенный угол открывал неожиданно красивый вид на шуршащие травой холмы.
Посреди камней стоял обитый тёмно-красной материей стул с широкой спинкой и резными витиеватыми ручками. Он был пуст. Рядом находился маленький столик из дерева такого же оттенка. Когда-то изящный, теперь он напоминал скорее забытый сувенир из самой старой антикварной лавки в городе. На столике валялось несколько листков хрупкой коричневой бумаги, засушенный цветок, потрёпанная книга в оборванной обложке и ещё какие-то мелочи.
Фьора застыла у входа и лихорадочно соображала, что ей нужно делать дальше. Фаусто предупредил её, чтобы она по возможности ничего не трогала. Она осторожно двинулась вдоль стен, украдкой заглядывая в разные углы в надежде, что найдёт там что-то особенное. Наконец, поколебавшись, она приблизилась к стулу и опустилась на него, чувствуя, как у неё дрожат ноги.
Она сидела с напряжённо вытянутой спиной несколько долгих минут. Ветер завывал где-то вверху, по полу гулял сквозняк. Фьора размяла быстро затекающие ступни. Она посмотрела на вещи, разложенные на столике. Среди бумаг виднелись аккуратно ровные строчки с завитушками букв, которые невозможно было разобрать.
Изо рта вырвалось маленькое облачко пара. В то же мгновение чьи-то тяжёлые руки легли на её плечи и притянули вплотную к обивке стула.
Сердце в безумстве заколотилось в груди.
– Прекрати, – донёсся из-за спины чей-то шёпот. Он был настолько тих и невесом, что она с трудом расслышала его.
Фьора дёрнулась, пытаясь вырваться из хватки, но тщетно. На её коже как будто сомкнулись каменные щипцы. Прекратив попытки, девушка собрала все остатки мужества и тихо произнесла:
– Можно мне взглянуть на тебя?
Вампир молчал. Он продолжал держать её и ничего больше не делал, но она чувствовала, как подрагивают от возбуждения его пальцы.
– Тогда, пожалуйста, – осмелилась попросить Фьора, покорно прикрывая глаза, – сделай это побыстрей.
В тот же миг её шею с левой стороны обожгло огнём. От неожиданности Фьора ахнула и машинально потянулась рукой за спину, ощутив под пальцами мягкие спутанные волосы.
Сердце пропустило несколько ударов, и боль утихла так же внезапно, как и появилась. Тело постепенно наливалось тяжестью, но тяжесть эта была приятной, словно после неторопливого, сладкого пробуждения в выходной день. Мысли стали путаться, замедляться, улетая в высокое небо над головой. От места укуса исходили мощные пульсирующие импульсы, бившие по вискам, добиравшиеся до самых кончиков волос. Фьора разжала ладонь, её рука безвольно опустилась вниз. Веки сами собой закрылись, лицо осветили тёплые солнечные лучи, которым просто неоткуда было взяться в этот пасмурный, холодный день.
* * *
Он исчез столь же быстро и бесшумно. Фьора сидела на стуле и пыталась привести в порядок дыхание. Её сморила приятная слабость, и в то же время неудовлетворённое любопытство заставило раскрыть глаза и осмотреться. Ни намёка на чьё-либо присутствие, ни шевеления тени, словно всё ей только привиделось. Ветер всё так же тихонько перебирал бумаги на столике, играясь с ними, как ребёнок с забытыми кем-то безделушками.
Фьора дотронулась пальцами до шеи. На них отпечаталась красноватая влажная капелька. Она застыла на миг, позволяя себя рассмотреть, а затем шустро скатилась по коже, оставляя еле различимую дорожку.
Эттори не заставил себя ждать. Он осторожно выглянул из-за полуразрушенной стены и, увидев, что Фьора совершенно одна, ступил на каменный пол. Опустившись на колено, он достал какие-то баночки и промокнул ранку прозрачной жидкостью с едким запахом, напоминающим антисептическое средство. Фьора молча наблюдала за ним широко распахнутыми глазами, но, казалось, совсем его не замечала.
Эттори взял девушку за руку и вложил в ладонь склянку, на которой было написано её имя. Он тихо позвал её, и она, словно влекомая его голосом, отозвалась.
– Да?
– Ты должна это выпить, Фьора.
– Да… Хорошо.
Она поднесла склянку ко рту и без каких-либо мыслей опорожнила её одним глотком. Жидкость не имела ни ярко выраженного вкуса, ни запаха, лишь отголоски чего-то землистого, тяжёлого почувствовались на кончике языка. Фьора поморщилась и с удивлением оглянулась по сторонам. Постепенно кровь приливала к лицу, стены вокруг становились чётче, и она наконец-то смогла сосредоточить взгляд на лице того, кто сидел перед ней.
– Эттори?
– Да?
– Я не успела… не успела его разглядеть.
– Это ничего. Может, даже и к лучшему.
– Почему?
Эттори пожал плечами и не ответил. Он помог ей подняться.
– Он ждёт, когда мы уйдём. Пошли.
Напоследок она обернулась, но так никого и не увидела. Лишь порыв ветра ласково пронёсся навстречу и растрепал ей волосы на прощание.
Эттори думал, что она откажется. Что больше не станет приходить. Он не сомневался в том, что Фьора принадлежала к числу тех людей, кто всегда будет держать язык за зубами, если посвятить её в тайну, которая касается не только её одной. Однако первый опыт, судя по всему, был не слишком удачным, и Эттори видел это в зелёных глазах, ловя в них отголоски разочарования и так и не заданных вопросов. И всё-таки он знал Фьору хуже, чем думал.
Несколько ночей подряд она ворочалась в своей постели, вновь и вновь возвращаясь к незримой руке, прижимавшей её к старой выцветшей обивке. Вновь и вновь она уходила в себя в попытках повторить те ощущения, что испытала сразу после укуса. Мальчики говорили правду: боли не было. Но было кое-что, что она смогла осознать лишь спустя несколько дней после случившегося. Озарение было столь неожиданно, столь захватывающе, что Фьора от волнения села на кровати и накрыла рукой разогнавшееся сердце.
Она видела его.
Вампир не показывал своего лица, не показывал даже намёка на своё существование, однако Фьора могла поклясться всем, что имела: она видела его. Она чувствовала между пальцев его спутанные от ветра волосы и знала, точно знала, что они были такого же иссиня-чёрного цвета, как ночное небо над холмами вдали от городских огней. Она не слышала его голоса, но была уверена, что если бы он сказал ей что-нибудь в следующий раз, его тембр определённо показался бы ей знакомым. Его лицо в её снах было столь отчётливо, как если бы он стоял напротив наяву. Их дороги пересеклись всего лишь раз, однако Фьоре казалось, что они знают друг друга вечность.
Позже она спросила Эттори об этом. Он ответил, что это хорошая реакция. Он сказал, что, насколько он может судить по остальным, укус вампира создаёт некую психологическую связь с тем, кого он кусает. Вкупе с отсутствием боли и сладким подобием обморока это чувство должно расслаблять жертву, уводить её разум от ощущения опасности, от слишком быстрого сердцебиения, которое вредно для вампира, спящего без пищи так же долго, сколько спал Амори.
– Это, конечно, приятно, – сказал Эттори, прислоняясь к бамперу своей машины и задумчиво провожая взглядом снующих по парковке студентов. – Да что там… Это одно из самых лучших антидепрессантов, которые я пробовал в своей жизни, – он хмыкнул, сужая взгляд на сигарете в своих пальцах. – Так действует их яд, ты словно сливаешься с мыслями вампира, принимаешь его душу и отдаёшь свою.
– Разве у них есть душа?
– У них есть разум и есть чувства. Им доступны сострадание, привязанности, пороки и добродетели, всё, кроме ограничений человеческого тела. Даже физическая боль, пусть и в гораздо меньшей степени. Так что, да. Я уверен, что есть.
Кто-то из парней пробежал сзади так стремительно, что, не заметив, задел Фьору плечом. Эттори придержал её за локоть, посылая вслед пареньку взгляд, полный презрения.
– Только я должен предупредить тебя, Фьора. Организм умеет адаптироваться. Чем дальше, тем больше он будет привыкать к яду Амори. Боль не придёт, нет. Но придут… как бы сказать? Видения.
– Галлюцинации?
– Нет, скорее сны. В обычных условиях, – он невольно усмехнулся при этих словах, – ты бы встретилась с вампиром лишь раз, и если бы тебе удалось выжить, его яд изменил бы клетки, структуру твоего тела. Ты сама стала бы такой же, как он.
– А как же… Я думала, для этого нужно выпить их кровь, – улыбнулась Фьора.
– Это, поверь мне, излишне, – Эттори поморщился, выпуская в сторону тоненькую струю дыма. – Но я даю тебе и остальным противоядие. Оно блокирует разрушительное действие яда, но не отменяет его воздействия на психику. Это позволяет быть укушенным одним и тем же вампиром множество раз кряду. И покуда это происходит, его сознание, его прошлое, воспоминания будут сливаться с твоими. К сожалению, – Эттори сделал паузу и посмотрел Фьоре прямо в глаза, – это уже приятно далеко не всегда. Но это необходимо для того, чтобы снять проклятие. Оно завязано на чувстве вины, и для освобождения необходимо получить прощение от человека, который займёт, пусть мысленно, но добровольно, место жертвы.
Фьора выдержала его взгляд, а затем скользнула вниз, к его свободной руке, опиравшейся на пыльную поверхность тёмного автомобиля. Эттори любил носить множество чёрных колец и имел привычку крутить их на пальцах всякий раз, когда беспокоился о чём-то. Так происходило и теперь.
– Почему, – спросила Фьора, поднимая голову, – ты говоришь мне об этом только сейчас?
Эттори резко выдохнул остатки дыма и, бросив сигарету под ноги, растоптал её пяткой ботинка.
– Потому что я боялся, что ты испугаешься.
– А сейчас не боишься?
– Да, Фьора, – он развёл руки в стороны, открываясь перед ней. – Прости меня. Я поступил не совсем честно. Просто я видел, как ты переживала, и не хотел сразу же терять союзника в твоём лице. Но, поверь, произошедшая встреча не нанесла тебе никакого вреда, и ты можешь отказаться прямо сейчас. Кроме молчания другого условия у меня нет. Ты вправе решать сама.
Фьора изучала его взглядом, словно желала подольше помучить. Она уже знала, что не откажется. Не сможет, даже… нет, особенно после всего, что ей открылось.
Их было четверо, и к выбору каждого Эттори подходил с особенной тщательностью. Кроме разве что Фабио, который сдружился с преподавателем ещё на первом курсе. Со стороны их дружба выглядела необычно. Фабио не шибко умел соблюдать субординацию. Он часто шутил на занятиях, выкручивался на сессиях за счёт хорошо подвешенного языка и откровенно флиртовал с юными аспирантками, постигающими азы преподавательского ремесла. С ним было легко завести беседу, зависнуть в студенческом баре, прогулять пару и даже излить душу – правда, в последнем случае у собеседника иной раз возникало подозрение, что на самом деле его слова проходят мимо. Но даже тогда какая-нибудь ободряющая, всегда совершенно к месту брошенная фраза развевала все сомнения.
Эттори был совершенно другим. Его редко можно было заметить в компании кого-то из коллег, в университетской столовой он вообще не появлялся, а по коридорам ходил быстро и с тенью раздражения на бледном лице. Более-менее близким общением с ним могли похвастаться только завсегдатаи курилки за парковкой велосипедов. Он всегда выглядел так, будто вот-вот свалится на пол от смертельной усталости, носил тёмную кожаную одежду и иногда отпускал студентов за полчаса до окончания занятий. А ещё он каждый семестр выигрывал в шуточном конкурсе «Любимый преподаватель», которую проводил студенческий совет.
Фьора никогда не спрашивала, но подозревала, что Фабио присоединился ещё тогда, когда Эттори и сам слабо представлял, что и зачем нужно делать. Она знала, что всё началось со смерти никогда ею не виденного старика, что он оставил Эттори в наследство большой дом где-то на окраине города и все пожитки, что в нём находились. А ещё множество разрозненных, хаотичных записей, с первого взгляда напоминавших скорее полёт фантазии слишком увлечённого делом писателя.
Они-то и положили начало всему. И неизбежно настал тот момент, когда Эттори, который привык всегда разбираться со своей жизнью самостоятельно, стало разрывать на части от обилия информации и тайн, что на него свалились, и он испытал острую потребность поделиться странной находкой с единственным человеком, которому ему захотелось об этом рассказать. А Фабио… Что ж, Фабио поехал за ним без всякой задней мысли, просто потому, что любопытство потянуло его в неизвестное место, которое невозможно было отыскать просто так.
И встретил там Джулию. Статую в виде девушки с невероятно плавными, словно бурный поток, локонами, которые впоследствии оказались такими яркими, как будто их при рождении поцеловало жаркое солнце. Он не знал о ней ничего, кроме её чудовищного естества, и всё равно его отдача была так самозабвенна, что у Фаусто и Эттори, наконец, зародился план.
Им нужны были люди, ещё не отпустившие за хвост юность, люди, которые пришли бы добровольно и приняли кошмарный дар от каждого из запертых в монастыре существ. Те, кто молчал, даже если бы им пришлось не по душе то, что они увидели. Найти таких было очень непросто – в конце концов, Эттори не имел научной степени по психологии и не то чтобы виртуозно умел разбираться в людях. Он предпринял три или четыре попытки, и однажды ошибка чуть не стала фатальной – даже пришлось разворачивать автомобиль на середине пути, потому что Маурицио, коллега по кафедре, вдруг достал телефон и начал «записывать влог, чтобы было потом что вспомнить». Из-за таких ситуаций приходилось много осторожничать, ходить вокруг да около, не сообщая о своих истинных намерениях, что неизменно приводило к тому, что собеседник либо крутил пальцем у виска, либо сам Эттори, вздыхая, вычёркивал его имя из воображаемого списка подходящих кандидатов.
Фьора не знала, в какой момент Эттори познакомился с Миреллой, и могла только догадываться о действительном характере их связи. Мирелла и Джианни изучали архитектуру, были на два года старше всех остальных, не посещали лекций по истории литературы и практически ни с кем не общались. Каким образом произошло их знакомство с профессором Риччи, для Фьоры оставалось загадкой. Как и то, почему Эттори безоговорочно доверился взбалмошной блондинке и её тихому, всегда вежливому братцу.
Мирелла быстро вошла во вкус, словно всю жизнь только и ждала того момента, когда её повезут на кормёжку к старому вампиру. Его звали Джакомо, он ходил в рясе священника и имел прескверный характер; Фьора сторонилась его. Вечно голодный взгляд не становился мягче даже после проведённого со студентами времени; казалось, будто он до сих пор не мог смириться с тем кошмаром, в который превратилось его существование. В то время как Фабио сам выбрал Джулию для пробуждения, Джакомо очнулся, едва почувствовав вокруг себя шевеление жизни, которая посмела идти без него. По словам Эттори, он был ужасен: живой камень, требующий крови, который поначалу приходилось запирать при каждом визите, благо сил у только пробудившегося от многолетнего сна вампира было не так уж и много.
Мирелла же ступила в его объятия легко и естественно. Вначале она не хотела впутывать в это дело Джианни, но то оказались пустые надежды. Они всегда были вместе. Джианни был незаметным парнем с привлекательными, мягкими чертами лица; всякий раз, когда его волосы отрастали ниже плеч, незнакомые люди принимали его за девушку.
Фьора стала тем самым единственным человеком, кому удалось пройти так называемый отбор. На неё Эттори указал Фабио, охарактеризовав как «бывшую одноклассницу, повёрнутую на искусстве». Эттори присматривался к ней очень долго, иногда вызывая к себе в кабинет и вовлекая в пространные долгие разговоры на самые разные темы. Фьора нравилась ему; он ловил её глубоко вдумчивый взгляд на каждой лекции и чувствовал, что на неё можно положиться. В конце концов, ему удалось отыскать верную нить в их разговорах, за которую можно было тянуть без страха, что она порвётся. Едва поняв это, Эттори спросил прямо:
– Увидеть истинный дух истории… Стоит ли заходить ради этого далеко?
Фьора подняла на него большие, по-детски любопытные глаза и вдруг улыбнулась:
– Конечно, стоит!
– Но ты ведь даже не спрашиваешь, насколько далеко.
– А в чём смысл называть себя исследователем, если ты не хочешь идти до конца?
– Всё зависит от того, чем чревата такая самоотверженность.
– И чем она чревата?
Впервые за все их встречи Эттори растерялся. Тогда он ещё не собирался выкладывать всё как на духу, но сам позволил Фьоре загнать себя в тупик. Несколько мгновений он рассматривал её лицо, нервно постукивая пальцами по столешнице, а затем сказал:
– Давай представим, сугубо теоретически, такую ситуацию…
* * *
За несколько последующих недель Амори так и не показался Фьоре на глаза. Она чувствовала, как растёт его сила, но он никогда не позволял себе демонстрировать её в открытую. Он старался лишний раз не прикасаться к девушке и всегда брал меньше, чем ему было нужно, проявляя недюжинное самообладание. Фьора знала это так же хорошо, как если бы сама стояла позади себя и пила собственную кровь.
Она предпринимала попытки заговорить с ним, но он молчал. Ей оставалось довольствоваться лишь отрывочными словами, которые шёпотом проникали в её голову с каждым укусом. Всякий раз Фьора старалась ухватиться за них, запомнить, отыскать какой-нибудь смысл, но безуспешно – она забывала обо всём, стоило только сладостному теплу охватить её тело и мысли. Физически она переносила эти встречи довольно легко – место укуса не болело и быстро затягивалось благодаря каким-то мазям, которые давал ей Эттори; к специфическому вкусу противоядия она тоже в конце концов привыкла. Оставалась лишь моральная неудовлетворённость: ей нестерпимо хотелось задать бессмертному существу множество самых разных вопросов. Она ощущала его древность каждой клеточкой, словно её и впрямь касалась ожившая античная статуя, и это вселяло такой трепет, что иногда Фьора проводила целые часы, ворочаясь в постели и думая обо всём.
В её мыслях никак не могло уложиться то, с чем она столкнулась. Эттори рассказал ей о последнем спящем в монастыре вампире – девушке, которая и не думала просыпаться сама, а Фаусто просил не будить её, пока не найдётся нужный человек. Фьора выронила из рук бутылку с водой, когда услышала её имя. То же было и с Джулией. Но историю Амори Фаусто наотрез отказался раскрывать, лишь отмахиваясь от Фьоры, которая, наплевав на скромность, обрушила на старого алхимика всё своё любопытство.
– Я одарил его бессмертием, думая, что он нуждается в нём, – однажды бросил он в сердцах, не в силах более бороться с девушкой. – И я сильно ошибся в своих суждениях. Это всё, что я могу тебе сказать.
И Фьора сдалась. Она перестала задавать вопросы. Перестала хвататься за ускользающие слова и пытаться рассмотреть строки в бумагах, лежавших на маленьком столике. Вместо этого она начала рассказывать сама.
Вначале это были ничего не значащие реплики – о погоде, о том, что в очередной раз выкинули Фабио или Мирелла по дороге к монастырю. У неё было на это всего лишь несколько мгновений, прежде чем Амори касался ледяными пальцами её шеи и прокусывал нежную кожу. Постепенно паузы стали увеличиваться. Фьора слышала, как он тихо ходит позади неё, и чувствовала, что лучше не оборачиваться. Она стала говорить о книгах, которые прочла, и о лекциях в университете. Иногда она рассказывала что-нибудь о себе. Постепенно она привыкла начинать свой монолог, как только опускалась на стул, и знала, что Амори слышит и слушает её.
Однажды она зашла в комнату и увидела, как он сидит на её месте, сгорбившись и комкая в руках исписанный листок бумаги. Он почувствовал её присутствие лишь через несколько мгновений, молниеносно вскочив и скрывшись среди камней. Фьора не смогла удержаться от смеха:
– Амори, – сказала она. – Ты как солнечный луч, что выглянул ко мне из-за облаков.
– Солнце и так светит слишком часто, – послышалось в ответ, и у Фьоры перехватило дыхание.
В следующий раз она взяла с собой книгу. Можно было лишь догадываться о возрасте нового друга, а потому она выбрала вечную классику – томик с сонетами Шекспира.
Она читала вслух о бессмертной любви и прислушивалась к тишине вовне своего голоса. Сонет за сонетом, строчка за строчкой – они бежали так быстро, что Фьора перестала ощущать время. Наконец, устав, она закрыла книгу и огляделась по сторонам. Амори нигде не было. В этот день он так и не появился.
В следующую субботу она хотела сделать то же самое, но, едва открыла нужную страницу, безумный вихрь выбил книгу у неё из рук, и над самым ухом раздался полный страдания голос:
– Зачем ты читаешь мне это?!
Фьора задрожала, чувствуя, как стремительно замерзает её тело. Возглас был до того страшным и отчаянным, что девушка впервые осознала – позади неё стоял вовсе не друг и не вампир из книжки; это было настоящее, живое, страшное, неведомое ей существо.
– Тебе не нравится Шекспир? – Фьора выдавила из себя слово за словом, сжав пальцами обивку сидения.
– Кто?
Позади раздался тихий вздох.
– Не важно. Прости… Прости меня.
– Ничего страшного.
– Нет. Я напугал тебя. Я не хотел. Прости.
Послышался шорох обуви по полу. Фьора подняла глаза. Амори вышел из-за стула и остановился прямо перед ней.
Он был красивым и на вид совсем юным – ровесником Фьоры или даже немного младше, если не считать тех сотен лет, проведённых в бессмертном теле. Каштановые волосы завивались у кончиков ушей, а чуть раскосые глаза были столь тёмными и глубокими, словно в них затаилась печаль всего человечества. Они влекли за собой, приглашали раствориться в обманчивой тишине, которая обернулась бы криком, стоило только подойти ближе.
Он был в точности таким, каким она его себе представляла.
Амори поднял отброшенную книгу и задержал взгляд на обложке. Книга была не новая – Фьора обожала букинистику. Взгляд Амори смягчился, он аккуратно смахнул с переплёта пыль и пролистал страницы:
– «…Ты – мой грех и ты – мой вечный ад».**
Он помолчал и отдал книгу Фьоре. Какое-то время он рассматривал девушку – с таким любопытством, словно видел в первый раз. А затем спросил:
– Зачем тебе это?
Фьора моргнула. Она перестала осознавать своё присутствие в этой комнате.
– Чтобы узнать…
Амори подождал, пока она закончит, но нужные слова так и не приходили.
– Что ты хочешь знать? – спросил он.
Фьора вздохнула, собираясь с мыслями.
– Всё, что знаешь ты. Но прежде всего – твою историю.
Амори шумно выдохнул воздух. Слегка покачнувшись, он вдруг опустился перед девушкой на колени и наклонился вперёд так, что его лицо почти коснулось её.
– Я расскажу тебе всё, но в следующий раз. Сейчас у меня нет сил.
– Хорошо, – произнесла Фьора одними губами.
– Спасибо, что делаешь это.
– Да...
Вампир одной рукой приобнял её за шею и, до последнего не разрывая зрительного контакта, прильнул к коже.
* * *
– Возможно, ты удивишься, но я не помню, какой точно был тогда год. Мир наш перевалил за полторы тысячи лет; кто-то возлагал большие надежды на новый век, но мне, признаться, было всё равно. Я не чувствовал жизни, сердце моё страдало: я любил девушку и, к сожалению, любил безответно.
Как же она была прекрасна! Строгий взгляд, ещё детский румянец на щеках, волосы цвета коры вековых каштанов. Весь её вид говорил о благородстве и пышущей жизни. Бывало, я видел её, когда проходил мимо большого дома её родителей: вот она сидит у открытых дверей балкончика и читает, вот нюхает цветы, распустившие свои бутоны ей навстречу… Чаще всего она не замечала моего присутствия, но когда это происходило, улыбка её всегда была для меня подарком на целый день. Я бережно хранил в сердце все изменения её лица, каждый оттенок голоса, что произносил всего несколько слов. О, она не могла и вообразить, сколь многим для меня были эти слова!
Её родители были людьми знатными – этакая зажиточная семья с древней фамилией и наследием предков. Они так беззаветно любили свою дочь и желали ей доброй жизни, что не замечали, как своими помыслами отбирают её свободу. Впрочем, что рассуждать? Так уж устроен этот мир. Или был устроен. Я не вступал в его объятия вот уже пять сотен лет, не видел ничего, кроме пустоты и боли, и иногда мне кажется, будто я вовсе перестал существовать. В каком-то смысле, так и случилось. Но обо всём по порядку.
Я был грамотен, умел изъясняться на нескольких языках, но из-за природной застенчивости и склонности к излишним размышлениям для меня всегда невероятную сложность составляло открыть другому человеку то, что теплилось у меня в сердце. Будем честны – я не особенно и стремился к этому. Сейчас, как ты видишь, это прошло; мне просто стало безразлично, кто меня слушает и зачем. Хотя, признаться, это несколько непривычно, ведь за столь долгие годы моим единственным собеседником был только холод моей собственной оболочки. Можешь себе представить, за сегодняшний день я уже сказал больше, чем за последние несколько веков.
Так что, да, она даже не догадывалась о моих чувствах. Но и я прекрасно видел, что мне не стоило рассчитывать на взаимность. У меня был друг, наши семьи дружили, сколько я себя помнил. И она любила его больше жизни.
Знал ли я об их тайных свиданиях? Да. Знал ли о тех словах, которые она ему говорила? Да, потому что видел письма, написанные её рукой. Мой друг был абсолютно счастливым человеком, и он осознавал своё счастье едва ли не так же остро, как осознавал его я.
Можешь догадаться, к чему я веду, зачем говорил о её родителях? Благополучие детей, увы, вещь тонкая – кто посмеет сказать, что он не желает добра собственному ребёнку? Моя любимая достигла того момента, когда её красота, словно роза в центре цветущего сада, распустилась в полную силу. Думал ли я о том, чтобы попытаться её сорвать? Ведь, в сущности, это так просто – зайти в сад, подойти поближе, наклониться к нежным лепесткам и сказать: «Я хочу, чтобы ты была моей».
Я дошёл до такой степени отчаяния, что был почти готов сделать это. Я знал прекрасно, что друг мой мне не соперник – их семьи если и не враждовали в открытую, но грозно бренчали друг перед другом оружием по какой-то старой, всеми забытой причине. Её родители ни за что не отдали бы дочь замуж за этого человека.
Я вижу смятение на твоём лице. Тебе это что-то напоминает, верно? Подожди, пока я не дойду до заключительного акта!
Друг мой, хоть и был всегда горячего нрава, смог меня удивить. Как только пошла молва о поисках подходящего жениха, он сразу взял ситуацию в свои руки. Под каким-то предлогом им удалось оказаться вдвоём в исповедальне одного доброго монаха-францисканца, где он и объявил их души связанными воедино на веки вечные.
Ты и представить не можешь, как зол я был тогда, насколько бессильным ощущал себя! Я не мог никому сказать об этом, чтобы не причинить зло ей. Я слушал его речи, его мысли и не мог вымолвить ни слова в ответ, и мир дрожал передо мной, словно его грызли тысячи голодных мышей.
Распаляясь, привыкая друг к другу всё более, они потеряли всякую осторожность. Как наивно с его стороны! В одну из ночей их разговоры дошли до ушей брата девушки. Подумать только, в какое безумство он пришёл! Он ворвался в её покои, выхватил меч с намерением зарубить новоявленного мужа, однако тот, к сожалению или, быть может, к счастью, его опередил. Поднялась суматоха, шум и гам на всю округу. Не знаю, как моему другу удалось удрать оттуда незамеченным, однако всё же ничуть не удивляюсь этому. Помню, как он прибежал ко мне запыхавшийся (наши дома стояли по соседству) и просил лишь одного: присмотреть за любимой, не давать её никому в обиду, писать ему при любой возможности. Он пообещал отправить мне весточку, как только доберётся до безопасного места, а после его спина растворилась в темноте узенькой улицы. Я до сих пор помню, какими тихими были его шаги.
Я не выдал его. Я хотел уважать её выбор, уважать нашу многолетнюю крепкую дружбу. Конечно же, ко мне явились сразу, не дожидаясь рассвета, но я солгал, я всем солгал ради того, чтобы уберечь тайну, медленно убивающую меня самого. Мне пришлось перешагнуть через собственную скованность и войти в дом той, чьё имя я не могу произнести теперь. Она приняла меня без радости, впрочем, она воспринимала так всех и всё, что видела после той роковой ночи. Улучив момент, я рассказал ей о том, что было мне известно. Мне было приятно видеть, как её глаза оживают, каким взволнованным становится её лицо. Это было словно наваждение для меня, которым я беззастенчиво пользовался, приходя к ней всё чаще и чаще, пользуясь своим положением, а также тем, что я стал для неё единственной нитью, соединявшей их сердца.
Тем временем разговоры о свадьбе пошли пуще прежнего, и чем дольше шло время, чем чаще я видел её приветливую улыбку, чем крепче становился наш духовный союз, тем настойчивее посещала меня невероятнейшая мысль: что, если бы я занял место своего друга? Конечно, как я уже сказал, это было немыслимо. Брак священен, и я не пошёл бы против таких фундаментальных устоев. И всё же… Стоило этой мысли хоть раз обосноваться в голове, как я уже не мог противиться её греховным чарам. Я думал вдруг, что желаемое совсем рядом, ближе, чем когда-либо, что я уже занёс руку над прекрасной розой и мои пальцы коснулись её лепестков.
Ах… В то время на слуху была одна скандальная рукопись – быть может, она дошла и до вашего времени. Некий Сарленитанец был её автором. Одна из новелл напомнила моей милой её собственную ситуацию, и, воодушевившись предложенным там способом исправить положение, она вновь обратилась к знакомому монаху. Тот, конечно, принял её слова без воодушевления. Шутка ли – изготовить средство, дарующее мнимую смерть? Какими же навыками и познаниями нужно обладать для этого? Однако девушка так умоляла его, что он согласился попробовать. Происходящее казалось мне таким чудовищным! Я не представлял, как она могла пойти на это, откуда взяла смелость для того, чтобы разыграть столь страшный спектакль? И тем не менее, она была готова. Она была готова даже умереть по-настоящему в случае провала, ибо жизнь, как она говорила мне, покинула её дни вместе с возлюбленным.
Я сопровождал её всюду. При разговоре с францисканцем, при написании письма. «Иди, – сказала она перед тем самым вечером, – иди и не бойся за меня. Если суждено мне жить в счастье, то лишь с ним, а без него и жить не стоит. Возьми письмо, возьми и доставь ему лично в руки – я хочу, чтобы он узнал всё от меня. И помни: я безмерно, бесконечно благодарю тебя за всё».
В те дни я больше всего беспокоился о том, что изготовленное зелье причинит моей любимой непоправимый вред, однако же оно было изготовлено весьма успешно. Перед тем, как дать его ей, монах опробовал столь невероятное действие на себе. Всё было в порядке, всё было решено. И я отправился в путь. Я знал, где обосновался мой друг, я чувствовал огромную тяжесть ответственности перед ними обоими и не имел возможности передать эту просьбу кому-то другому. И всё же, чем дальше я был от неё, от моего цветка, от моей улыбки, тем плотнее сгущались тени в моей душе. Я понял вдруг, что бегу стремглав навстречу своим страданиям, вечному отчаянию – ха, какой же глупец я был тогда! Вечное страдание! Помни, всегда помни об этом – невозможно скрыться от своей судьбы. Так или иначе она настигнет тебя, и порой даже в худшем виде, чем ты сможешь предположить. Настигнет! Всё равно.
Итак, друга я разыскал. Он вёл скрытную, тихую жизнь в ожидании момента, когда смог бы вернуться в родной город и исправить своё положение. Он встретил меня с отчаянной радостью, словно я был ангелом, посланным к нему с доброй вестью. В какой-то мере так оно и было. Вот только я ничего ему не сказал. Письмо, написанное столь любимой мною рукой, лежит теперь рядом с тобой. Возьми же его, посмотри, прочти! Оно так и не дошло до адресата. И вина за это лежит полностью на мне.
Да, я не отдал ему письмо, но я и не смог объяснить словами, что случилось. Он заглядывал мне в глаза, а я вдруг понял, что мне невыносимо больно смотреть на него в ответ. И я отвернулся, в слезах и отчаянии, а он, конечно же, по своему истолковал мой жест. Он решил, что его супруга умерла, умерла неподдельной смертью.
Он выказал решимость отправиться назад. Я пытался отговорить его. Запустив кошмарный механизм, я продолжал следовать за собственной ложью и предательством, хватаясь за призрачные надежды. Само собой, он не стал слушать меня.
Думаю, тебе прекрасно известно, что было потом. Они погибли – мой близкий друг и моя возлюбленная. Погибли по моей вине.
Мог ли я предугадать такой исход? Пожалуй, что мог бы, если бы хоть немного подумал. Но в тот момент мной завладел такой эгоизм, такая жалость к себе и горечь от невозможности изменить ход судьбы, что я потерял всякую способность к состраданию. Отчаянная, холодная решимость – вот, чем я был. Я рассчитывал, что он увидит её мёртвой и покинет город уже навсегда. Я надеялся, что она, со временем склеив – разумеется, не без моей помощи – осколки разбитого сердца, сможет вновь смотреть по сторонам тем самым любопытным, жадным до жизни взглядом, который я видел в своих снах и мечтах о ней. Да, я вижу, что ты обо мне думаешь. Ты права. Я был бесчестным, грешным, мелочным человеком.
Я прятался неподалёку, когда они оба находились в склепе, и всё ждал, когда же друг мой выйдет в эту несчастную ночь и сообщит, что всё кончено. Я ждал до тех пор, пока к склепу не пришёл францисканец. По всей видимости, он хотел проверить, всё ли идёт по плану. Он не видел меня, и я отчётливо помню, как сильно боялся, что он вдруг услышит громкие удары моего сердца. Затаив дыхание, я ждал ещё, ждал до того момента, пока время, спотыкаясь всё чаще и чаще, и вовсе не остановило свой ход. И тогда я почти рванулся с места, как вдруг услышал плач.
Это были не причитания дражайшего друга, не жаркие слёзы девичьей обиды. То плакал старик, тихонько и горько, так, как плачут мудрецы над роковой глупостью детей.
Позже на склеп набрела городская стража, поднялась суета, разговоры, объяснения. До меня стал доходить смысл всего произошедшего, но, честно говоря, плач монаха был первым, что сообщило мне обо всём. Просто я не хотел ему верить.
Наверное, я умудрился несколько раз упасть по дороге домой, потому что смутно помню свои испачканные землёй ладони, которыми зажимал рот, удерживая внутри крик скорби. Я чудом не разбудил никого из домашней прислуги и, шатаясь от наваждения, добрался до спальни и рухнул на кровать. Осознание ошибки, которую ты никогда не сможешь исправить, ошибки, которая затрагивает не тебя самого, но жизни (жизни!) других – вот чувство, захлестнувшее меня в ту ночь. Я кусал свои руки, как животное, рвал волосы – и всё в оглушительном безмолвии, ибо мои родные давно уже видели безмятежные сны.
На следующий день, когда страшная новость достигла всех домов города, моя семья отправилась в церковь Сан-Франческо на отпевание. Я не пошёл вместе с ними, сказавшись больным. Я был уверен в том, что стоит мне лишь занести ногу над порогом святого места, как пол тут же разверзнется и раскроет передо мной горячие объятия ада. Я не стал бы противиться этому, но, словно напакостивший ребёнок, боялся напрямую столкнуться с результатами своих деяний. Я боялся увидеть на себе взор бедного монаха, боялся, что он подойдёт выразить своё сочувствие, ведь он не знал о том, что письмо было передано через меня. Какой-нибудь особо резвый слуга был бы куда более подходящим человеком для этого, не правда ли? Но она доверилась мне. Своему новообретённому другу, дорогому, понимающему и бесконечно влюблённому; другу, который никогда не смог бы её предать.
Когда я остался в доме наедине с самим собой, мой разум всё ещё был затуманен болью. Я шатался по пустым комнатам и всё думал о том, что больше никогда не увижу её глаз и не услышу его весёлого голоса. В кармане всё ещё лежало злополучное письмо; несколько раз я порывался достать его, но мои пальцы обжигались от всякого прикосновения к проклятой бумаге. Не помня, как и зачем, я стал хватать всё, что попадалось мне под руку: кусок хлеба, какие-то деньги и другую мелочь, затем вышел на улицу и оседлал ещё не успевшего отдохнуть с дороги коня. В исступлении я скакал, глотая дорожную пыль, прочь из города, пока не достиг следующего. Я отправился бы и дальше, но тело моё уже не могло держаться в седле: оно просило пищи и воды, просило отдыха, а я всё думал о том, как несправедливо оно стремится жить, когда как судьбы других оборвались по его вине.
Вина… Она определила сущность моей жизни в тот момент, когда я позволил низменному наваждению увлечь меня за собой. Она продолжает быть моим спутником и теперь. Оглянись вокруг, Фьора. Сплошные развалины, как и мы сами. Вина живёт в этих стенах, точит их, но не даёт умереть. Не таков ли ад на самом деле? Жить вечно с этим чувством, зная, что ты никогда не сможешь его искупить?
Я оставил коня у ворот большого богатого дома, который так был похож на мой собственный, и побрёл дальше. Я не хотел прощаться, слишком большой роскошью казались мне тогда любые потакания собственным прихотям. Пошатываясь от слабости, я добрёл до какого-то трактира и спустил там все деньги, что у меня были, на выпивку. Это была моя последняя надежда, но и она мне не помогла. Меня втягивали в пустые разговоры, повсюду был смех и ругательства, а я даже не мог думать о том, что же мне делать дальше.
На городок уже опустилась глубокая ночь, когда я, стоя на четвереньках у задней стены трактира, посреди маленькой, невзрачной, грязной улицы, изливал на землю всё выпитое. Чувствуя спиной холодные камни, я надеялся, что, быть может, найду опору в них, но стена лишь нависала надо мной, словно кара небесная, грозясь раздавить свои громадным телом мой жалкий дух. Впрочем, я был бы этому только рад.
Какая-то собака подошла ко мне и уткнулась носом в колени, но я отогнал её. Я смотрел на свои руки и думал о том, что они натворили; в грязевых разводах мне чудились узоры её лица. Прижав ладони к сердцу, я закричал, не сдерживая себя, впервые за последний день позволил боли выйти наружу. И крик мой подтолкнул уплывающий разум к нужной мысли: я вдруг вспомнил, что в моём кармане лежит нож.
Это был обычный кухонный нож маленького размера, не слишком острый, но достаточно наточенный для того, что я собирался сделать. Не знаю, зачем я взял его собой. Несколько мгновений я созерцал его лезвие. А затем поднёс к коже пониже кисти.
Боль и отупение, привкус слёз и тяжёлый запах – всё смешалось, когда я закрыл глаза. Не знаю, сколько я там просидел; подозреваю, что не очень долго. Сквозь мутную завесу до сознания моего долетели чьи-то шаги: кто-то направлялся ко мне, не слишком торопливо, но достаточно, чтобы я ещё успел почувствовать прикосновение чьих-то ледяных пальцев к своим рукам.
Очнулся я в какой-то комнатушке. Позже выяснилось, что это был далеко не самый лучший постоялый двор. До сих пор помню, как моё тело изнывало от жары, как мышцы ломало от долгой неподвижности, а голова раскалывалась от криков пьяниц с нижнего этажа. Я поднёс к глазам руки – кожа была невыносимо бледна – и обнаружил, что порезов нет, что они причудились мне, словно дурной сон.
Впервые я увидел Фаусто под утро, когда он зашёл, чтобы меня проведать. Он разложил на шатком столике какие-то склянки и пучки трав и долго копошился с ними, а затем дал мне какой-то отвар красноватого цвета и приказал выпить. Я подчинился, стараясь не обращать внимания на непривычный, странный, но невероятно сладкий вкус. Пока я пил, он стоял надо мной и всё говорил, говорил о том, как повезло ему встретить меня прошлой ночью, говорил о спасении и жалости, которую он испытал, увидев умирающую юность в моём лице.
Постепенно силы возвращались ко мне, как будто я вливал их в себя вместе с питьём. Перед глазами разворачивалась картина произошедшего, но я всё равно не мог собрать воедино всех её кусочков. Я стал задавать Фаусто вопросы, а он отвечал на них так, словно рассказывал страшную сказку; и тем не менее, я слушал его, не перебивая, а разум мой послушно впитывал любое исходящее от него слово.
Вот так я и стал вампиром. Когда я понял, что на самом деле стоит за моей новой сущностью, то пришёл в настоящий ужас. Я отказывался воспринимать такую действительность. И дело было даже не в особенностях питания – отвар тот был, как оказалось, разбавленной кровью – я сходил с ума от одной мысли о том, что мне предстоит жить вечно.
Фаусто рассказал мне об этом монастыре, и я попросил его проводить меня сюда. Тогда он путешествовал, хотел посетить родные места своих предков, поэтому довольно неохотно согласился возвращаться назад. Дорога не заняла много времени: мы могли не прерываться на сон, подпитываясь силами других. Иногда мы брали лошадей, чтобы не вызывать подозрений днём быстрыми передвижениями. Мне казалось, я сам не понимал, что творю: мои руки и так были грязны, теперь же они по локоть увязли в чужой крови, и я отказывался принимать это со страшной отрешённостью ушедшего в себя человека. Я думал, что это и есть моя преисподняя – крысы да отвратительные трущобы, где Фаусто выискивал насильников и убийц не хуже нас самих. Мы были вынуждены медленно высасывать из них жизнь, не оставляя ни малейшей надежды на то, что они придут в себя, в противном случае мир пополнился бы ещё одним порождением ужаса.
Фаусто категорически запрещал мне проявлять милосердие к нашим жертвам и обращать их в вампиров, он всегда тщательно осматривал человека после моей трапезы, дабы убедиться, что тот действительно мёртв. Он питал ко мне симпатию, но мы были знакомы ещё так недолго, что он не мог доверять мне до конца. К тому же, моё поведение настораживало и печалило его. Когда мы прибыли сюда, я и вовсе отказался покидать монастырь. И сильно разозлил этим Фаусто, ведь здесь уже была Симонетта, за которой ему приходилось присматривать. Она не хотела выходить с ним на охоту, лишь бродила по залам, рассматривая тускнеющие фрески, или сидела у камина и думала о чём-то своём. Случайно я узнал от монахов, что за несколько лет до моего появления её посещал один человек. Кем он был, почему Фаусто позволял ему свободно приходить сюда и, что ещё любопытнее, покидать эти стены, так и осталось для меня загадкой.
Какое-то время я пытался завершить то, что начал там, у грязных стен трактира, но у меня ничего не выходило. Я умолял Фаусто раскрыть мне способ того, как я мог бы покинуть этот мир, но он наотрез отказывался говорить мне об этом. «Жизнь, – негодовал он, – самое ценное, что только может быть у любого существа, как смеешь ты над ней так бесстыдно насмехаться?!»
«Но ведь ты убиваешь людей ради их крови», – возражал я.
«Я убиваю лишь тех, кто отбирает её сам – преступников и негодяев, не знающих ни жалости, ни раскаяния, и я делаю это так редко, насколько могу выносить. Я видел, что такое смерть, я знаю, каково это, когда пытаешься ухватиться за непрожитые годы и вымолить у них хотя бы ещё одну минуту!»
«А что, если я и есть преступник и негодяй?»
Я напомнил ему о своём недалёком прошлом, но даже тогда он отказался помочь мне. «Не стану и не проси, – сказал он. – Я вижу в тебе смятенную, стремящуюся к свету душу, я услышал её зов той ночью и пришёл на него. И пусть я заблуждался, думая, что этот шанс станет для тебя подарком; но покуда я дал его тебе, воспользуйся им с умом, живи так, чтобы искупить вину страдающего сердца. Я давно приучился смотреть на свою жизнь, как на выживание и служение людям – это самое малое, что я могу сделать, чтобы оправдать своё существование и не упасть в реку забвения. Приучишься и ты».
Шли годы, Фаусто приносил мне человеческую кровь и порой поил меня насильно – я же принимал голод, как спасительную муку, избавление от радости, которой я был недостоин. В некоторые тяжёлые ночи, ведомый инстинктом, я выходил в окрестности и охотился на животных – кабанов да мелкий скот. В деревнях начинали ходить разговоры, что непременно выводило из себя Фаусто. Он не представлял, как оставить меня и Симонетту одних, ведь его, как настоящего носителя своей фамилии, вновь тянуло в дорогу.
В конце концов, между нами было принято решение: по нашей просьбе монахи вынесли всю утварь из одного из подвальных помещений, и Фаусто запер нас там. Видишь ли, когда вампир долгое время не получает совершенно никакого пропитания, он засыпает: кожа его становится серой и тусклой, тело каменеет, живость исчезает из движений – в конце концов, он просто застывает, подобно статуе, до тех пор, пока близость крови вновь не заставит его проснуться. Однако чтобы прийти к такому состоянию, для начала приходится прорваться сквозь древнюю силу жестоких инстинктов. Когда голод наш достигает критической точки, мы повинуемся безумию, превращаясь в зверьё, и в таком состоянии можем погубить множество жизней, которым не посчастливится возникнуть на нашем пути. Так произошло с Фаусто, когда он впервые встретил Симонетту. Он оставил её в живых, но убил молодого монаха – и позже ужасно об этом сожалел. Остальные братья не стали покидать монастырь. Они знали о скверном характере мальчишки, который сам впустил сюда юную девушку, желая ценой её жизни пробудить существо, которое могло бы даровать ему бессмертие. В его помыслах не было веры, и тем не менее, монахи проводили его достойно – ты всё ещё можешь отыскать его могилу там, за дальней стеной.
Итак, мы с Симонеттой оказались запертыми в смежных помещениях тёмного подвала и вовсе перестали видеть солнечный свет. Я каждый день слышал, как она плачет, зовёт своего «милого друга», и, как ни странно, плач это придавал мне мужества. Я вспоминал о своей загубленной любви, представлял её слёзы, виденные мной так много раз, что они до сих пор не истёрлись из моей памяти. Я говорил себе, что лишь забвение может избавить меня от страданий, но вскоре осознал ошибку своего выбора, пусть и слишком поздно: я хотел страдать. Я ненавидел себя и хотел предаться вечному раскаянию. Я не испытывал никакой жалости к себе и в конце концов пришёл к мысли, что стал именно тем, кем было суждено – отвратительным созданием, чёртом, бродившим по растрескавшимся камням преисподней. Мы с Фаусто были карой для виновных, и сами же несли своё бремя. Не знаю, как его совесть мирилась с этим, наверное, он думал таким же образом. Не раз я замечал, как он, считая, что я не вижу, достаёт из-за пазухи детскую игрушку – маленький кораблик из потемневшего дерева – и подолгу смотрит на неё, погружаясь в неведомые мне мысли.
Я плохо помню те моменты наваждения, когда голыми руками пытался разбить каменные стены, окружавшие меня. Казалось, я вопил так громко, что мог бы докричаться до погибших друзей. Порой они мне отвечали. Они являлись ко мне, держась за руки, и смотрели, как я мучаюсь. Я падал перед ними на колени и просил прощения; оказывается, я тоже умел плакать.
Ещё я слышал голос. Мне чудилось, будто кто-то посещает меня, пытается со мной говорить. Неизвестный гость не был ни человеком, ни вампиром, ни кем-либо ещё из земных существ; я чувствовал его сверхтонкую, едва ли не божественную ауру. Он тоже говорил мне о страдании, о боли, которую он разделяет вместе со мной, он словно исходил из самого моего разума – и в конце концов я понял, что то был тёмный ангел, приходивший, чтобы оплакать остатки моей сгоревшей души.
Возможно, я сходил с ума. Я не помню, сколько это продолжалось, но однажды всё закончилось. Спасительный сон пришёл к Симонетте, а вскоре затих и я. Это состояние, если тебе интересно, подобно тому, в котором находится человек под толщей ледяной, тёмной воды, смотря на лучи солнца, пробивающиеся с поверхности. Их тепло не греет, но человек точно знает, что стоит ему всплыть, и он вновь почувствует его. Темнота и обрывки редких звуков – вот чем был мой мир на протяжении сотен лет, пока я вдруг вновь не почувствовал, что монастырь возвращается к жизни.
Ах да, и ещё кое-что. Когда мы с Фаусто держали путь к этим землям, мы ехали через Градиску – чудесное местечко, тогда ещё не переданное австрийцам. Помню, по дороге нам встретились люди, нёсшие военную службу, судя по одеждам. Их было трое. Фаусто разговорился с одним из них, а я молча плёлся на коне следом, слушая их речи. Именем того человека было Луиджи, и он ехал вместе со своими людьми в сторону родной Виченцы.
Я немного оживился, когда до моих ушей долетело упоминание Амура – причём, упоминание в далеко не лестном ключе. «Плачевны его итоги», – так, кажется, сказал тогда Фаусто в ответ на причитания Луиджи о недоступном ему сердце любимой дамы. Какая злость охватила меня тогда! Я подъехал к ним ближе и оборвал их на середине фразы, предложив на суждение свою историю. Разумеется, я умолчал об именах – как ты видишь, и теперь я всё ещё не в силах их произнести, превратить в действительные звуки. Человек тот остался весьма впечатлён моим повествованием, и даже испросил разрешения облечь их в написанные слова. Мне нечего было терять, и я согласился. Позже мы свернули на другую дорогу.
Тогда Фаусто ничего не сказал мне насчёт того, что услышал. Вне всякого сомнения, он знал о произошедшем – слухи и сплетни дошли далеко за пределы моего города. Скорее всего, он решил, что я просто пересказываю эту историю с чужих слов. Но по прошествии многих лет он принёс мне несколько листков, исписанных моими воспоминаниями, и притом весьма искусным языком. Однако тот военный изменил многие детали, пожалуй даже слишком многие – он фактически вычеркнул меня из списка действующих лиц. Я вновь ощутил горечь от того, что грех мой так и остался невысказанным, потерянным среди старых звёзд, развёл огонь и бросил в него бумагу.
Такова моя история, Фьора. Я чувствую, что сердце у тебя доброе, в отличие от моего, и мне невыносимо причинять тебе боль. Но, быть может, Фаусто прав, и нам действительно удастся вырваться из когтей страшного цикла жизни, что повторяется год за годом и не даёт нам обратиться спасительным прахом. Я вижу, как он измучен, нынче он совсем не так бодр, как раньше. Пусть меня судит иной суд, нежели собственная совесть, потому как её шёпот просто невыносим. Я пойму, если ты не захочешь более видеть меня, не сможешь выносить даже упоминания моего имени. Но спасибо тебе за то, что выслушала мой рассказ.
* У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Пролог. Перевод Б. Пастернака
** У. Шекспир. Сонет 141. Перевод С. Маршака