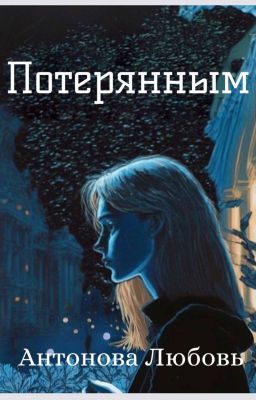Интерлюдия. Маленькая Хозяйка
«Раз стежок - год жизни срок,
Два стежка - годок и два,
Три стежок - за годом год,
Строчка жизни всё идет.
Шьет рубаху жизни День,
Тёмный месяц ткет им тень»
(Колыбельная)
Встать с правой ноги.
Обходить черных кошек.
Показать язык отражению, если пришлось вернуться.
Плюнуть через левое плечо, если уронила ключи.
Развернуться и пойти в обратную сторону, не оборачиваясь и не сворачивая, если заплутал.
Постучать по стеклу: «куда ночь туда и сон», если приснился кошмар.
Не брать оставленных вещей.
Спрятать фигу в кармане, если чувствуешь чей-то взгляд на себе.
Они стучат дважды и под любым предлогом попытаются получить приглашение войти — не открывать дверь незнакомцам, а если всё же так случилось, не впускать на порог.
И главное! Если видишь, как шевельнулась тень — сделай вид, будто не видела, и прочти тихонько молитву, одними губами.
«Господь так проверяет самых светлых людей», — говорила бабушка.
Отец не верил ни в Господа, ни в дьявола, только в силу науки и медицины. Но если ад и дьявол существовал, то был в этих бесконечно длинных коридорах, пах лекарствами, дурманящими разум и убивающими чувства и краски, носил строгий белый халат, имел мягкий голос и совершенно не вяжущийся с таким тембром холодный взгляд. Он прожигал, от него невозможно было спрятаться, взгляд вторгался в грудную клетку, туда, где от ужаса заходилось сердце. Холод электродов, провода, тянущиеся к аппарату, — черные, красные. Тишина, вымученная, усталая и безысходная, запутавшаяся в жестком посеревшем постельном, не пахнущим ничем и всем чужим одновременно.
Иногда в ушах начинало звенеть, и сквозь этот звон все звуки доносились, как будто издалека. Перед глазами всё плыло, свет раздражал и причинял боль, но тьма пугала гораздо сильнее, от нее невозможно было укрыться. На ночь гасили свет в палатах и в коридоре, если хотелось в туалет, невозможно было пройти через темноту. Они приходят по ночам. Оставалось, задыхаясь от стыда и страха, лежать в мокрой постели до утреннего обхода. А потом целый день носить клеймо позора на себе.
— Это святой мученик Пантелеймон, — бабушка подводит бледную внучку к иконе, на ней юноша с печальным взглядом, в руках у него коробочка. — Видишь, у него шкатулка — это лекарства, совсем как у тебя. В них божественная сила, нужно их пить, и кошмары уйдут. Помолись ему, попроси, чтобы помог излечиться.
Кудрявый юноша с иконы протягивал открытую коробочку в руке, но в пляшущем пламени свечей невозможно было разобрать, что там внутри. Бабушка говорила, внутри лекарство — избавление от недугов. Но в свете живых огоньков на дне открытого ларца пряталась тьма. Было ясно, что там нет белых таблеток и капсул с красным боком, которые появлялись по утрам на маленьком блюдечке с тонкой золотой каймой. Молчаливые, они ждали, когда дрожащая рука закинет их в рот, и побледневшие губы сомкнутся в тонкую линию. От этих таблеток отмирал страх, но вместе с ним потухали радость, смех и всё остальное. Летний солнечный день становится серым, бесцветным, осевшим тяжелым горьким привкусом на языке. Запахи превращались в один тошнотворный аромат гнили и лекарств. Сама кожа начинала пахнуть иначе, словно тело было чужим, переставало слушаться.
Жить так было невозможно, поэтому девочка придумала игру. Таблетки исчезали под матрасом, и мир снова обретал краски, в нем рождались прекрасные запахи, звуки, сотни восхитительных мелочей, подсвеченных дневным светом, а ещё невероятная легкость во всем теле, ноги быстрые, руки ловкие. Вверх через одну ступеньку и вниз перепрыгнуть две — ничего нет лучше этого чувства! Вкус возвращался яркими фейерверками во рту, и тонкая линия губ превращалась в счастливую улыбку.
Несколько счастливых дней всегда лишь передышка, время, взятое взаймы у коварной болезни. И она всегда брала свое, резко обрубая начинавшую налаживаться жизнь. Кошмары возвращались, а память как рассыпавшаяся книга с картинками — номеров страниц нет, и всё наспех собрали неправильно.
— Я давно не видела соседскую девочку, ту, что над нами живет... — вдруг спросит она, а бабушка смотрит тревожно.
— Какую девочку, моя хорошая? У соседей сверху нет детей....
Опять всё спутано. Она силится вспомнить, дергает за отросшую до ушей прядь, но не получается. Была ли эта девочка или приснилась ей в одном из немногих хороших снов? В одном из тех счастливых видений, где изъетая молью отцовская шапка стала черным котом. Когда от страха нет сил заснуть, когда каждая тень живет своей жизнью, когда никто не видит то, что стоит поздним вечером в арке, тогда приходится сдаться. Потому что уже нет сил сдерживать крик, потому что снова на край кровати кто-то присел, кто-то, кого не должно быть в комнате. Сдаваться с каждым разом сложнее, потому что кошмары становятся страшнее, больничные коридоры длиннее, лекарства горше.
И тем сильнее хотелось снова вынырнуть из этого дурманящего, вязкого плена. Снова эта игра, нужно спрятать таблетки в матрас, и юноша будет следить с печальным укором. Бабушка говорит, если помолиться, он поможет. Сколько раз нужно помолиться? Она не отвечает, и девочка решает, пусть это будет девять, если получится вспомнить и прочитать загаданное число раз молитву, значит, юноша её услышал. Значит, он забрал болезнь, спрятал её во тьму своего ларца вместе с таблетками и кошмарами. Она сбилась на четвертый. Нужно начать сначала, иначе случится что-то плохое.
В короткий эпизод от спрятанных таблеток до первого кошмара нужно уместить всё, до чего только можно дотянуться. И больше игр, смеха, вкусной бабушкиной еды! Добавка! Ещё одна! Ещё один вкуснейший бутерброд с яблочным вареньем! Уже не хочется есть, но стоит подумать о том, что болезнь явится за ней в одну из ночей, как она навалится всей тяжестью тьмы ей на грудь, как внутри всё начинает противиться и твердить — нужно успеть, распробовать, запомнить! И когда её выворачивало прямо в кровати, девочка улыбалась как безумная, потому что ещё чувствовала во рту вместе с горечью вкус варенья и подгнивших яблок.
Она не смогла прочитать молитву девять раз подряд, поэтому тайник с таблетками обнаружили. Поэтому отец избил её, но больнее всего было от удара, который достался бабушке, вставшей между ней и отцом. Она плакала и прижимала опухшее от пощечин лицо внучки к груди. И грохот отцовского крика стихал, умирал между ударами её доброго сердца. В тепле шершавых ладоней, что гладили покрывшийся испариной лоб. У девочки слез не было, осталась только тупая ноющая боль в области сердца, там умирали любовь и вера. Отец её не любил, ему нравилась та бледная девочка с полным желудком таблеток, та девочка, глядящая в одну точку, не способная долго читать или следить за рукой хмурого врача со страшным взглядом. Тогда она тоже перестала любить отца.