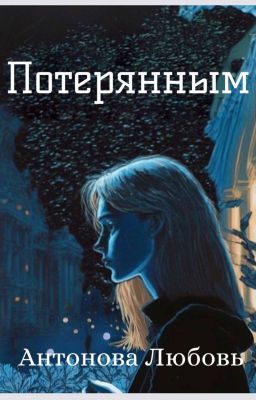Глава 6. Ненастоящие воспоминания
Спустившись с крыши, мне так хотелось горячего чая, но, обнаружив на кухне оставленный альбом и кучку вырезанных из журналов рук и ног, желание пропало.
В этих обрезках что-то жуткое, ненормальное, от чего холодок пробегает между лопаток. Вместо чая выбираю горячий душ, долго сижу на краю ванны, дожидаясь, пока вода станет теплее. Только сейчас чувствую, как сильно устала. В теплом и душном нутре квартиры сразу клонит в сон, усталость вместе со странным запахом проникает через ноздри в мозг, оседает в легких и замедляет кровоток, наливая веки свинцовой тяжестью.
Такую усталость не смыть, она уже глубоко под кожей. Меня только больше разморило от горячего пара.
Забравшись в постель, накрывает тёмное ничто, я проваливаюсь в него и, не чувствуя тела и мыслей, выключаюсь.
Когда просыпаюсь, обнаруживаю, что день давно перевалил за середину. Есть хочется так, что сводит желудок, но я лежу, прислушиваясь к звукам квартиры. Тишина.
Давящая, затаившаяся, готовая выпрыгнуть оглушительным звоном разбившейся чашки. Она растягивается минутами и часами, разбавляется звуками с улицы, тоскливым криком чайки, пролетающей над окнами, гудком автомобиля, чьим-то невнятным бранным окриком и всё же остается мутной субстанцией, наполняющей комнаты от потертого паркета до потолочной лепнины. Даже дышать тяжело и тревожно. Не могу вспомнить, что за знакомый запах чувствую последние несколько дней, он впитался в вещи и куда бы я ни пошла, ношу эту тревожную недосказанность с собой в карманах среди мелочи, скомканных чеков, облезлых фантиков и спутанных наушников.
Я вспоминаю про них и тянусь к наброшенной на спинку стула куртке, выуживаю из кармана белый пластиковый клубок. Как давно я не слушала музыку? В последний раз, кажется, ещё в самолете, а приехав, я так боялась не услышать звонка, объявлений в метро или ещё чего-то важного, что забыла про этот спутанный щит от реальности.
Я уже начинаю их распутывать, как снова слышу это. Похожий на звук радио или оставленный телевизор монотонный гул, невнятное бормотание, наполненное до краев тревогой и липким страхом. Кажется, я уже слышала этот звук где-то на грани сна и бодрствования, я узнаю его, он мне знаком. Узнаю по всхлипываниям, которые прерывают это монотонное гудение, но не могу вспомнить, откуда.
Прислушиваюсь, но не могу понять, откуда он исходит, встаю и выхожу в коридор, стараясь не шуметь.
Под потолком снова клубится сизый дымок, и я зажимаю нос. Пахнет жженым сахаром и смолой, удушливо, сладко и едко. Створка дверей в комнату Хозяйки открыта, оттуда и запах, и звук, в котором среди монотонности я и различаю её голос — это она является источником звука, слов не разобрать. Осторожно ступаю по коридору, и паркет предательски скрипит. Бубнеж обрывается, и я слышу её шаги, осторожные, как у меня. Слышу, как грязные ступни прилипают к полу, и каждый шаг сопровождается противным звуком. Шлеп. Шлеп. Шлеп.
От этого волоски на руках поднимаются, как наэлектризованные. Её тень приближается, я вижу расплывающийся силуэт сквозь мутное стекло створок, через мгновение Хозяйка выглядывает в щель двери, и её воспаленный глаз смотрит на меня всего секунду, и дверь закрывается. Силуэт с тем же шлепающим звуком удаляется. А я так и стою в паре шагов от хозяйской спальни.
Беспокойство, как скользкая атласная лента, разматывается внутри, и я никак не могу свернуть его обратно.
Помявшись у дверей, разворачиваюсь к кухне, пустой желудок уже сводит. Альбом и вырезки исчезли со стола, остались только крошки и мелкие обрезки. От моей шоколадки осталась только серебристая фольга, жаль, я планировала съесть хотя бы кусочек. Из кружки с бесцветно-серым пакетиком чая пахнет каким-то отвратительным лекарством. Тошнотворный комок поднимается к горлу, и я, не дыша, переношу кружку в забитую посудой раковину.
Когда успело столько накопиться?
Думая о том, чем лучше перекусить, бутербродом или сырком в шоколадной глазури, ставлю чайник на замызганную плиту и открываю холодильник.
Пусто.
Я замираю, пытаюсь понять, шарю глазами вокруг. Отодвигаю целлофановый комок, понимая, что мне не показалось. Моей еды нет. На остальных полках лежат увядшая почерневшая зелень, покрытая белым пушком морковка и сморщенное яблоко.
Холодильник пуст. Я уверена, что ещё вчера в нем что-то было. Взгляд рассеяно блуждает по кухне. Чайник на плите закипает, выключаю комфорку, и синий огонь с щелчком пропадает. Кроме чайника на плите пузатая кастрюля, поднимаю крышку, чтобы заглянуть, но тут же кидаю ее обратно. Внутри гниль и плесень. Остатки овощей. Последнее, что готовила Хозяйка, тогда она была странной, но веселой, болтливой, а потом что-то щелк... Стены кухни, казавшиеся раньше уютными, вдруг навалились всем весом так, что стало трудно дышать.
Мотаю головой, стараясь отогнать подальше дурное предчувствие и мысли, что настойчиво лезут в голову, в которой заевшей пластинкой вертится чужое имя, слетевшее с её губ. Имя моей пропавшей подруги.
Уже не хочется есть или пить чай, я возвращаюсь к себе и запинаюсь о порог комнаты, под ногами какой-то комок пыли. В нем есть что-то странное. Это не пыль. Это тёмная шерстяная нитка, обмотанная вокруг маленького пучка сухой травы и залитая воском.
Отдергиваю руку. Каким-то внутренним чутьем знаю, что трогать такие вещи нельзя. Что это? Для чего хозяйка оставила это здесь и как давно?
Оглядываю порог, в небольшой щели между паркетом и старым деревянным порожком небольшой зазор. В нем этот сверток и лежал, пока я не споткнулась, и он не выскочил, зацепившись за тапочек.
Я знаю, что вещи, найденные под порогом, не сулят добра. Идти к Хозяйке? Я и так знаю, что это её рук дело. Но зачем?
Кошмары и странные звуки по ночам как-то связаны с этим мотком ниток?
Кусочком туалетной бумаги я аккуратно подбираю тёмный сверток и смываю в унитаз. Сухие листочки крутятся в водовороте и уносятся вниз по трубам. Мне становится немного спокойнее, избавиться от этой странной вещи было правильным решением.
Потом долго и обстоятельно мою руки, хоть я и не прикасалась к ниткам голыми руками, кажется, что на пальцы что-то налипло, что-то, от чего хочется немедленно очиститься. Все мои неудачи начались, стоило пересечь порог этой квартиры. Лена перестала отвечать, мне виделась всякая чертовщина, и снились кошмары, может быть, в этом причина? Может, не город, а я схожу с ума, надышавшись этим горелым смрадом. Вспоминаю объявление, оно и правда было странным, только тогда мне показалось, что я выиграла в лотерею:
«Удобное расположение в историческом центре города, просторная чистая комната. Сдам желательно на длительный срок, но можно договориться. Внимание, комната сдается только девушкам! Требования: аккуратность, отсутствие вредных привычек, порядочность. Цена по договоренности».
Нужно было сразу заподозрить неладное, но у меня был очень ограниченный бюджет, и я подумала, что вытянула счастливый билет. Почему я решила, что пожить в чужом городе с незнакомым человеком — это хорошая идея?
Меня мутит от этих стен, всё в доме затаилось и ждет, боясь, что я всё пойму раньше времени. Кажется, даже из розетки, соединяющей комнату Хозяйки и мою, кто-то непрерывно следит за мной.
Распихав всё самое необходимое по карманам, тихонько выхожу на площадку, нужно всё обдумать, а в квартире у меня вряд ли это получится.
Свет курит, усевшись на подоконнике, его расслабленный вид с ржавой банкой пепельницей в руках успокаивает. Он живет здесь давно, может знать, что творится в этой квартире.
Я киваю парню, и он, улыбаясь, машет мне рукой с тлеющей сигаретой, зажатой длинными пальцами.
— Ты не знаешь, кто тут жил до меня? — спрашиваю я, устраиваясь на подоконнике рядом с ним.
— У неё часто меняются жильцы, — Свет покачал головой. — Все девушки, скорее всего студентки. Я ни с кем из них не был знаком.
— А последнюю ты случайно не помнишь? Как её звали или как выглядела?
— Последняя, кстати, долго продержалась, год или около того. Обычно они съезжали месяца через два, три... Но имени не знаю, выглядела вроде обычно: невысокая такая, волосы вроде бы длинные, не очень приглядывался, если честно...
— А почему съезжали? Она сказала, что последняя у неё жила, вроде бы, три года... — что-то тут не клеилось, и от неприятных подозрений в груди болезненно сжалось.
Свет усмехнулся. Смешок получился странным, он словно спрашивал: «Ты серьезно не понимаешь? Хозяйка странная, с ней что-то не так, кого угодно такое если не напугает, то точно насторожит. Мне она опасной не кажется, но что если...»
— Три года? Нет, так долго тут никто из них не задерживался! — отмахивается Свет.
Неужели? Зачем она тогда рассказывала про эту девушку, пока показывала квартиру? Почему была такой любезной?
— А ты видел, как они уезжали? — не знаю, зачем задаю этот вопрос. Мне просто нужно удостовериться, что с ними ничего не случилось.
— Я почти не общаюсь с соседями. Просто видел, что жильцы в этой квартире меняются...
Спустя час я сижу в небольшой кофейне на набережной реки Мойка. Разложив перед собой смятую квитанцию авиабилетов, две хрустящие тысячные купюры, четыре потасканные сотенки и горстку мелочи, понимаю, что дела мои плохи. За чайник черного чая, два треугольничка сэндвича и кусок торта, который я уже наполовину прикончила, отдам пятисотку, останется всего ничего... Только что я смогла дозвониться до службы поддержки авиакомпании, где мне сообщили, что поменять билеты нельзя. А судя по оставшимся деньгам, застряла я не только в городе, но и в квартире, и продержаться нужно ещё неделю. Очень хочется выть, и если бы не было свидетелей, я бы отлупила себя по щекам до цветных пятен в глазах. Но вокруг люди, а я не знаю, куда деть эту неупокоенную злобу. Прикусываю палец, но боль облегчения не приносит, только больше нервирует.
Ладно, допустим, Хозяйка поехала кукухой и что-то подкинула мне под дверь. Это уже не такая безобидная хрень, как и все эти её свечки и мантры. Но мне придется ночевать в квартире, идти-то больше некуда. Утешаю себя тем, что комната запирается изнутри. Но возвращаться не хочется, и я сижу, цедя остывший чай и ковыряя бисквитный бок заветрившегося торта, оттягиваю момент.
Когда к моему столу подходит официант и уже в третий раз спрашивает, хочу ли я заказать что-то ещё, понимаю, что пора уходить.
Вечер уже обнимает улицы, накинув прозрачный шелк сумерек. Над крышами медленно темнеющее небо с облаками — клочками сахарной ваты, подсвеченными розовыми лучами.
Вспоминаю про тёмную тень, стоявшую в арке вчера, и невольно прибавляю шаг. Темнеет медленно, но с каждым днем всё ощутимее. Белые ночи прошли, их светлый шлейф ещё тянется, но ткань его истончается. Подобно свечному огарку они тлеют закатным огнем на горизонте, но он становится всё тусклее и меньше.
Я почувствовала себя странно на третьем повороте, переходя через мостик канала Грибоедова — за мной кто-то шел.
Слегка повернув голову на переходе, я увидела мужчину, обычного, но сердце бешено заколотилось в груди от жуткого страха. Уже стемнело, фонари, протянутые над дорогой, раскачивались от ветерка, искажая реальность непостоянством света.
«Мне показалось!» — твержу себе и поворачиваю влево, мысленно умоляя незнакомца пройти прямо, но он сворачивает за мной. Ускоряюсь, и его шаги становятся отчетливее — догоняет. На улице никого. Только недавно я свернула с оживленного пяточка, почему здесь так тихо?
Едва не срываясь на бег, опять поворачиваю на следующем перекрестке и оказываюсь перед небольшим супермаркетом. Возле входа возится с пакетом молодая пара. Я останавливаюсь и чувствую болезненный толчок. Это он. На секунду показалось, что схватит меня, но мужчина делает пару шагов и останавливается немного поодаль. Жмется пару секунд, понимая, что я не иду, и опускается на корточки завязать несуществующие шнурки.
Он ждет. Ждет, что я пойду дальше.
Если бы у меня был выбор свернуть в арку со страшной тенью или пойти вперед, я бы, не мешкая, выбрала первое. Потому что неизвестность гораздо приятнее всех тех вариантов, связанных с мутным типом, притворяющимся обычным прохожим.
Решила было броситься к этой молодой паре, попросить помощи, но вдруг представила, как глупо это будет выглядеть. Этот человек скажет, что я больная, лгу, и он вовсе не шел за мной. Вдруг я правда себе надумала это? В последние дни всё как-то не в порядке... Пара, взявшись за руки, проходит мимо. Думать больше нельзя. И я спешу следом, обхожу их, чтобы быть впереди, как раз в тот момент, когда они идут мимо мужчины, преследующего меня. Я слышу, как он цедит сквозь зубы:
— Сука... — и сплевывает на землю.
Пара, идущая за мной, оборачивается к нему, но мужчина уже шаркает в сторону магазина. Я судорожно выдыхаю и срываюсь на бег. Только на лестнице, когда за мной со стальным щелчком закрывается домофонная дверь, перевожу дух. Тяжело дыша, поднимаюсь на четвертый этаж, уже подходя к квартире, чувствую, что запаху, привычно висевшему там, стало тесно, и он уже выбрался на лестничную клетку.
В коридоре привычно горит свет, лампочка, светящая без перерыва, едва слышно гудит, будто от натуги, и помаргивает, отчего по блеклым обоям пляшут удлиненные тени. Зияющая дыра в стене на месте выключателя как рана с вырванными торчащими сосудами-проводами.
В зале трещит телевизор, выдавая попеременно аплодисменты и смех, на низкой громкости эти звуки искажаются и становятся похожи на предсмертные хрипы загнанного зверя.
Хозяйка в зале, сквозь бусины занавески вырисовывается её силуэт, освещённый высоким торшером на металлической ножке.
Я здороваюсь, но та даже не шевелится. Лежала на диване и остекленевшим взглядом смотрит куда-то сквозь экран. Картинка в телевизоре меняется, и на её лице, казавшемся застывшей восковой маской, пляшут синеватые отсветы — зрелище жутковатое, и я спешу в комнату и на всякий случай закрываю дверь на шпингалет.
«Будет хорошо, если Хозяйка пролежит так всю неделю до моего отъезда», — думаю я. Мне и раньше не хотелось с ней пересекаться, она была слишком навязчивой и странной.
«Главное, что не буйная», — шепчет гаденький голосок внутри, когда я сажусь на расправленный диван. Любопытно, почему она назвала меня Леной? Есть ли какая-то связь между моей подругой и девушкой, жившей здесь до меня?
Моток черных ниток не выходит из головы, и я осматриваю комнату на предмет странных вещей, но ничего не нахожу. Как и следов того, что здесь жил кто-то до меня, да ещё и больше трех лет, как утверждала Хозяйка. Может, она специально так сказала? Если вспомнить, тогда мы как раз осматривали квартиру. Может, это чтобы усыпить мою бдительность? Ведь и в тот момент мне показалось, что слишком всё тут чистое, новое, будто не живое. На всем должны присутствовать следы присутствия, даже в гостиничных номерах остается что-то от гостей. В комнате же было пусто, только мои вещи. Расковыряла заусенец, и палец теперь противно ноет, но я продолжаю давить ногтем на ранку. Это помогает отвлечься от мрачных мыслей о том, что неудача, прицепившаяся ко мне со дня приезда, не унеслась с потоками воды в канализацию, а продолжает ходить по пятам, привязанная шерстяной ниткой, скрепленной не узлом, а воском.
Подтянув ноги к груди, я поглубже зарываюсь в одеяло. Оно пахнет чужой жизнью и не греет. Сколько девушек так же засыпало под этим одеялом в этой квартире?
Сон долго не идет, а стоило, наконец, провалиться в зыбкую дрему, как под подушкой вибрирует мобильный.
Номер неизвестный, неужели?
— Мелкая? Что за дела? — из трубки раздается раздраженный голос брата.
— В смысле? — чувствую, как надежда сдувается, словно воздушный шарик.
— Корамысле, — перебивает он. — Ты чего звонки матери игноришь? Они тут с бабушкой на панике.
— Я в музее была, не могла ответить... — нужно хотя бы попытаться оправдаться.
— Да кому ты лечишь! — теперь старший брат в бешенстве. — Прямо круглые сутки ты в музеях!
Я не знаю, что сказать, меня ловит на лжи самый страшный человек.
— Так, че там у тебя? Ты с подругой встретилась? — торопливо интересуется он.
— Нет, не получилось.
— В смысле?
— Долго объяснять, — теперь растерянность меняется на раздражение, я не хочу рассказывать ему, что произошло. Они с мамой и так считают, что я ещё не выросла для поездок в одиночку.
— Слышь, мелкая! Ты эти фокусы прекращай, матери позвони, скажи, что была в Третьяковке или как её там.
— Третьяковская в Москве, — я спешу поправить его.
— Да хоть где! Мать переживает...
— Хорошо. Ты сам-то где? — кажется, будто кидаю камешек в воду. Плюх. И вокруг расходятся радиоволны раздражения, я чувствую их. А ещё чувствую удовлетворение, словно даю сдачи.
В какой-то пропущенный мной момент они с мамой будто поменялись местами, и теперь уже не он искал её по дворам и квартирам новых мутных знакомых, а она, сидя на тумбочке в прихожей, уткнувшись в висевшие на крючках куртки, ждала сына ночами. Сначала он приходил поздно и ненадолго, а потом совсем пропал, взяв с собой только старую брезентовую сумку и несколько вещей из шкафа. Я знала, что брат оставался в городе, был где-то рядом, ходил по тем же улицам и ездил в тех же автобусах, но связаться с ним было трудно, его телефон почти всегда недоступен. Иногда он звонил, чаще мне, просто спрашивал, как дела, иногда приходил домой и оставлял продукты в холодильнике, но чаще в наше с мамой отсутствие, словно не хотел пересекаться с ней и со мной. Был эдаким неприкаянным призраком, привязанным к месту, будто не мог его покинуть и продолжал возвращаться.
— Где надо! — обрывает он меня, и повисает такая тишина, что кажется, будто звонок сейчас сорвется, но в трубке только вздохнули. — И это... Ты, может, домой поедешь? — в голосе брата не осталось больше раздражения, только усталость.
— Нет, билеты невозвратные, — качаю головой самой себе. К щекам приливает горячий стыд. В груди противно заныло от желания обнять его, уткнувшись в теплое плечо, вдохнуть знакомый запах сигарет и стирального порошка. Пожаловаться на всё, что тут происходит, рассказать, как тревожно из-за подруги, которая не выходит на связь уже неделю, и из-за арендодательницы, что ведет себя подозрительно. Снова быть спасенной им.
— Ну и фиг с ними, ты скажи, если что, денег достану. А хочешь, приеду? — вдруг вырывается у брата, и тут же нам обоим становится так неловко, что это чувствуется через все тысячи километров.
— Влад... всё в порядке.
И я чувствую, как на том конце кивают, самому себе коротко и недоверчиво.
— Че ты там хоть делаешь? — неловко интересуется он.
— Хожу по городу, гуляла вот по крышам...
— Каким крышам? — не понимает он.
— Ну Питерским!
— Одна что ли?
— Да нет же, с соседом!
— С каким ещё соседом? — Влад снова закипает.
— Да успокойся, тут парень на лестничной клетке живет, вот и позвал.
— Так, малая, ты там не гуляй с незнакомыми людьми!
— Да всё нормально, он хороший, — отмахиваюсь я и зачем-то добавляю. — Мне показалось, он музыкант...
— Хороший... Как же! Музыкант? Это он сказал?
— Нет, просто у него руки такие... Ну знаешь, как у папы... — вырывается у меня, на том конце на несколько секунд повисает молчание. В груди царапается сожаление, кто меня за язык тянул? Уже открываю рот, чтобы сказать хоть что-то, перекрыть вырвавшиеся слова, те, что я вовсе не собиралась говорить, но Влад опережает меня.
— Можно подумать, ты помнишь, какие у него были руки... — едва слышно хмыкает он и, спохватившись, снова наседает на меня. — Так, чтобы матери звонила раз... Нет, два раза в день! Иначе я приеду, поняла?
— Поняла! — я почти выкрикиваю это, выходит визгливо и обиженно, по ту сторону усмехнулись и сбросили звонок. Я, сжимая нагревшийся мобильный в руке, откидываюсь на покрывало и, глядя, как свет автомобильных фар скользит по потолку, шепчу в темноту:
— Всё я помню...
Закрываю глаза и снова вижу его.
Мрачный больничный коридор с облупившейся зеленой краской на стенах. За окном темнота зимнего вечера. Жесткие скрипучие стулья вдоль стены, разномастные с полинявшей и затертой до неузнаваемости обивкой на сидушках. Раздражающий запах хлорки, лекарств и боли. Мне пять, а брату одиннадцать. Мы пришли к папе. Я сижу, раскачиваясь взад вперед, вцепившись в края стула, до боли прижимая ладони к сидушке, чувствую, как в левую впивается гвоздь сквозь прохудившуюся обивку. Жужжание кассетного плеера у старшего брата в руках и его теплый бок. Неясный металлический шепот, бегущий по проводам к наушникам-капелькам.
Всё вокруг кружится в какой-то невнятной карусели из запахов и звуков, от которых перехватывает дыхание и мутит. Свет в коридоре тусклый, лампа над нами то и дело с противным цоканьем мигает. В толстых шерстяных рейтузах очень жарко. Гвоздь давит в ладонь, кажется, стоит ещё нажать, и он проткнет кожу, я давлю сильнее. Пульсирующая тупая боль скрывает звуки и запахи, которые невозможно перетерпеть, отводит их на второй план. Мы сидим так уже целую вечность, брат косит взгляд на двери дальше по коридору, стучит ногой в такт своей музыке, молча, сжав губы так, что они превращаются в тонкую тревожную линию. Мне странно, я не понимаю, почему мы не уходим, ведь здесь никому не нравится.
Скучно, и я то и дело дергаю его, задеваю плечом, болтаю ногами и раскачиваюсь на стуле. Влад протягивает мне наушник. В мозг полилась незнакомая мелодия со словами, которые невозможно разобрать, и дурацкая карусель замедляет ход, ладони перестают потеть, и гвоздь уже не давит. Я помню, как разглядывала след от шляпки и теснее прижималась к брату, так, чтобы тонкий черный проводок-пуповина не натягивался слишком сильно, грозясь разорвать эту связь. Песни сменяли друг друга, динамики дешевых наушников уютно шипели на высоких нотах, а мы так и сидели под мигающей лампой.
Всё начинается с этого воспоминания, других, более ранних, будто и нет, а более поздние будто замотаны толстым слоем прозрачной пленки, мутные и невнятные. Они выцвели на фоне этого. Больничный коридор по какой-то причине выдавил из головы все остальные фрагменты детства. Они иногда всплывали неясными образами, как засвеченные фотоснимки — невозможно понять, что на них происходило. Почему из многих моментов мой мозг решил сохранить с такой подробностью именно этот кусочек? Почему единственное четкое воспоминание о папе то, в котором его нет. Где он ещё есть, но его присутствие скрыто за одной из многочисленных дверей в этом длинном коридоре, и я не помню, за которой. Не помню, как отец выглядел и что говорил в этот день. Может, он уже ничего не мог говорить. Сколько бы я ни пыталась, ничего не могла вспомнить, кроме этого краткого момента, между тем, как шляпка гвоздя больно впивается в ладонь, и тем, как музыка в наушнике накрывает плотным куполом, отрезая от реальности.
Я знаю, что происходит после, не помню, а именно знаю. Потому с этого начинается кошмар. Дальше черный разлом, крепко связавший брата и маму, только их. Мне не позволили разделить эту скорбь. Я была слишком маленькая для этого большого горя. Похороны и некоторое время после них остались смазанной вереницей лиц, прикосновений, обрывков слов утешений, которые, как нелепые вещи, не нужны, но отказываться не принято.
Я много раз спрашивала брата про это воспоминание, по его словам, мы часто так сидели и слушали музыку, потому что я начинала капризничать, и мать выгоняла нас из палаты в коридор, заставляя брата сидеть со мной. Но я не помню других таких моментов, остался только один — этот. И меня до сих пор мучает, почему именно он запомнился? Мне это воспоминание кажется неточным, ошибочным, дело в том, что в нем мы слишком близки.
Я видела папу на фото, это было странно — я не узнавала его, страшное чувство. Ещё страшнее было ощущение, что в тех немногих размытых воспоминаниях я вдруг не могла разобрать, взаправдашное ли оно, или это образ, составленный по чьим-то чужим воспоминаниям, украденный из альбома со снимками в силу скудности моей памяти. Было это на самом деле, или я увидела это на фото, а потом выдумала себе воспоминание?
Я не помнила папу, и все это знали. Но я помнила его руки, такие же белые и шершавые, как больничное белье, с синеватым рисунком просвечивающих вен. Я боялась к ним прикасаться, они казались бумажными, чужими.
Руки отца я помнила. Осознала, что это воспоминание точно настоящее, когда увидела, как Свет открывает пачку купленных мной сигарет. Вспомнила, когда смотрела, как огонек зажигалки лижет оранжевыми отсветами его ладони. Вспомнила очень отчетливо.
Я не боюсь темноты. Потому что её всегда можно прогнать светом, а ещё смехом и музыкой. У меня есть воспоминание-подменыш, я его придумала по рассказу соседки. Когда выключали свет во всем доме, все с площадки собирались у нас. Несли с собой сладости, что-то с ужина и белые хозяйственные свечки, пахнущие домом и парафином. Рассаживались везде, где хватало места в зале, вокруг пианино, и папа, окруженный светом множества свечей, играл старинные романсы, и соседка из квартиры напротив подпевала тонким сопрано. Мрак отступал, а в районе солнечного сплетения становилось светло и очень тепло, на лицах появлялась самая добрая улыбка. Когда электрический свет неожиданно вспыхивал, волшебство распадалось — все задували трепещущие огоньки, и они исчезали, превращаясь в белые струйки дыма, тянущиеся к небу. И всё становились будто обычными и расходились по квартирам и комнатам, но уносили внутри теплые живые огоньки.
Мне снится это воспоминание.
Сквозь сон слышу, как кто-то скребётся в дверь, мне не страшно. Сижу в окружении соседей и в трепещущем свете свечей, а в коридоре темнота, и я знаю, что дверь закрыта, её невозможно открыть снаружи.
Щелчок.