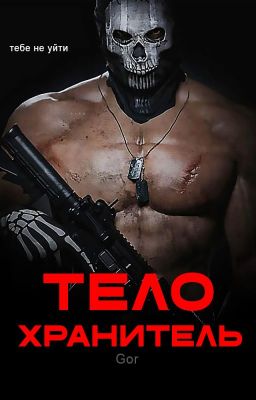Часть 25
ГОУСТ \ САЙМОН
Кошмары вернулись. Некоторые считают, что они про чудовищ, про тени с когтями и дыхание в темноте. Но в его снах не было чудовищ. Только люди. Те, кого он любил. Самые близкие. Только мёртвые.
В кошмарах было одно и то же: он открывает дверь и возвращается в прошлое. Дом встречает его гнетущей тишиной и чувством ужаса, от которого подкашиваются ноги.
С коридора видны блики гирлянд. Маленькие огоньки мигают на еле. Под ней нетронутые коробки с подарками. Весь дом застыл в ожидании. И в этом ожидании — смерть.
Он идёт дальше. И там, в гостиной, он находит их.
Они лежат как-то неправильно. Тела изогнутые. Глаза пустые. Маленькие носочки племянника в крови. Запах крови въелся в обои с рисунком в цветочек. Воздух стал вязким, как патока. И ёлка всё ещё горит. Огоньки мигают.
Он никогда не успевает. Ни в одном сне. Ни в одной из ночей. Всегда приходит на секунду позже. На вдох позднее. И каждый раз что-то внутри него ломается заново.
Они вынесли ему приговор еще там, в его доме, насквозь провонявшем смертью.
...Но в этот раз что-то изменилось.
Там, под ёлкой, виднеются раскиданные пшеничные пряди волос, светлая, персиковая кожа — почти прозрачная. Маленькие босые стопы. Изящные, как у танцовщицы, пальцы. Красные туфли в крови. И лицо... её лицо. Такое красивое, что больно смотреть.
Его девочка. Рори. Мёртвая.
И она больше не пахнет вереском.
Он падает на колени и из горла вырывается крик. Жуткий, надломленный. Трясущейся рукой срывает с себя маску и она впервые видит его лицо. Только вот не видит. Глаза то уже не смотрят.
А он всё кричит и кричит... Только не она... Только не она... Нет. Нет. Нет.
Сдёргивает перчатки, лихорадочно нащупывает пульс. Его нет. Хрупкая, кристальная кисть с тонкими венками — ледяная.
Боль нестерпимая, пронзает до костей. Он сам подыхает. Заживо сгорает. Он хочет умереть. В конечном счёте, он умрёт. Просто вытащит пистолет и выстрелит себе в висок. Прямо сейчас.
И пока он пытался дышать, пока тянулся к кобуре за Глоком, внутри него — в том тёмном, закопанном погребе, — раздался голос.
Его собственный голос.
— Вот, что с ней будет, если она останется с тобой.
Пауза. Медленная. Холодная, как лёд под ногами.
— Всё, к чему ты прикасаешься, рано или поздно начинает истекать кровью.
— Нет. Только не она. Я... никогда. Моя девочка...
— Что Я, Саймон? Ты — машина для убийств. Без души и без лица. С кровавой дорожкой, тянущейся за тобой. И её туфельки уже в этой грязи. Она ещё не поняла. А ты — понял.
И дрожащие пальцы замирают на кобуре.
— Саймон...Лучше сделай это. Убей себя. Только не тащи её за собой.
— Иначе что, Гоуст? — процедил он. — Что ты сделаешь? Ты же так ратуешь за справедливость. Такой правильный, чёткий военный, который делит всё на чёрное и белое. И Рори ты тоже уже поделил — на то, что можно использовать. На тело. Красивое и тёплое. Ты же не собираешься её любить. Нет. Ты просто кинешь девку, воспользовавшись ею. Кинешь грязно и трусливо. Не попрощавшись.
Гоуст стиснул зубы.
— Ты собираешься сделать ровно то же самое, что и три года назад. Удобно тебе, да? Всё по инструкции.
— Но я её успокою, — продолжал голос. — Я ей подарю то, чего ты не дашь никому и никогда!
— Только попробуй, мальчик. И моё гребаное чувство справедливости деликатно отвернется, пока я из тебя кишки доставать буду. Она моя.
— Ты весьма оригинально даёшь ей это понять каждый раз, когда говоришь о том, что оставишь её, — голос усмехнулся.
— Оставлю.
— Сам себе противоречишь. Начал страдать шизофренией, старик? Это прям вишенка на торте нашего совместного рандеву.
— Любовь — не твоя категория, Саймон. Не придумывай себе того, чего нет. Смерть, боль, ярость... Это то, чем ты живешь. Ты дышишь только благодаря им. Если бы не эти «ферменты», то доктор Хэллоуэй ещё двенадцать лет назад поместила бы тебя в грёбанную психишку, из которой ты бы не вышел.
— Но я туда не попал.
— Потому что тогда появился я. Тот, кто прикрыл твоё гнильё. Я — фильтр. Я — то, что позволило тебе выжить. Я и есть ты. Только честный.
— Как знать...как знать, Гоуст.
— Тебе никогда не разбавить свой «кислород» долбаной любовью. Такие, как ты, не умеют любить.
Саймон фыркнул.
— А ты умеешь, Гоуст?
Он не ответил. Потому что не умел любить.
Саймон вдруг рассмеялся и резко смолк.
— А я умею, — сказал он. — До тебя я многое умел.
— Действительно?
— Я ещё помню, каково это — уметь кого-то любить.
Пальцы насильно потянулись к кобуре. Медленно. Как под гипнозом извлекли Глок.
— Неееет! — вскрикнул тот, что остался внутри. Поздно.
Выстрел в висок. Кровь, вперемешку с мозгами, брызнула на ветви. Гирлянда всё ещё мигала. Зелёный. Красный. Жёлтый. Мёртвое Рождество.
***
АВРОРА
Саймона бросает то в жар, то в холод. Простынь под ним промокла насквозь, пот впитался даже в бинты, обмотанные вокруг его торса. Голова дёргается, он шепчет что-то невнятное. Кажется, моё имя.
— Проснись!
Обхватываю его лицо ладонями, сквозь горячую маску чувствую, как сильно он сжимает челюсти.
— Это лишь кошмар... — шепчу, дотрагиваясь до его маски. — Ну же... Открой глаза. Я рядом. Слышишь? Я рядом...
И он распахивает глаза. Я вижу их в полумраке — блестящие, воспалённые. Он ещё там. В своём кошмаре. Ещё не вернулся. Смотрит сквозь меня, будто я часть сна. Потом резко взгляд фокусируется на мне.
Он тяжело дышит. Почти судорожно. Маска вибрирует от воздуха, вырывающегося из лёгких. Через ткань я вижу, как ноздри расширяются на вдохе.
— Я тут... — прошептала. — Всё хорошо. Ты проснулся.
И вдруг его рука. Без перчатки. Шершавые пальцы скользят к моей шее, нащупывают пульс. Давят чуть сильнее, чем надо. Будто проверяет — живая ли я.
— Я рядом.
А он всё ещё смотрит, будто не может поверить. И не отпускает. Боится, что исчезну. Да. В его глазах — страх.
— Живая... — он хрипло прошептал. Сдавленно.
— Д-да... — прижимаю его руку к своей шее. — Саймон...
Воздух вышел из лёгких, когда он резко навалился на меня сверху. Его глаза — тёмные, как грозовая туча, — сверкают яростью. В них нет пощады.
— Саймон сдох.
Чужой, жуткий голос. И пальцы на шее не отпускают, горят огнём. Если бы он не опирался на вторую руку, он бы раздавил меня своим весом.
Смотрю в эти глаза и страх поднимается по позвоночнику, как ледяная змея. Глаза, от которых кровь стынет в жилах. Они слишком жгучие, слишком жестокие, безжалостные.
Внезапно пальцы разжимаются. Он медленно поднимается с матраса, легко, словно не чувствует боли, не помнит, что его тело изранено и перемотано. Шатаясь, с трудом держась на ногах, он проходит к двери. Не говорит мне ни слова. Ни взгляда.
Я так и не увидела его больше этой ночью. До самого утра.
***
Чужая жизнь... Раньше мне казалось, что она как книга. Не из тех, что приятно листать наслюнявленным пальцем, наслаждаясь каждой главой, а бесконечная стопка страниц — исписанных, пустых, смятых, заляпанных кофе или кровью. Какие-то — забиты рутиной, обрывками фраз, ничего не значащими деталями. Другие — хранят в себе тайны, которые никто не рискнёт прочесть вслух.
Я думала, что достаточно открыть правильную страницу — и поймёшь человека. Или хотя бы почувствуешь направление.
Но потом появился Гоуст.
И я поняла: чужая жизнь — это не только книга. Иногда она может быть лабиринтом. Глухим, пугающим, без выходов и правил. Лабиринтом, выстроенным из боли, молчания и полунамёков. Там можно плутать вечно, даже если клянешься, что знаешь его наизусть. Даже если бьёшься об стены до крови, веря, что вот-вот найдёшь выход.
Саймон — не история, которую можно прочитать. Он — то, в чём можно заблудиться. И пропасть.
Я стояла в душевой и смотрела, как капли воды стекали по телу, скручивались тонкими, прозрачными нитями и исчезали в потоке. Пар оседал на кафель и на шторку.
Прокручивала в голове события последних дней, что мы провели на базе. Они растянулись для меня, исказили время — казалось, я провела здесь год.
Испугало ли меня то, что произошло ночью? Да. Но куда сильнее меня испугал вид его окровавленного тела после двенадцати часов неизвестности.
Мне нужно уйти отсюда. Уехать. Одной или вместе с ним. Я уже начала бродить по этому лабиринту. Лабиринту, которое носит его имя.
И мне нужно найти выход для нас обоих.
Я потянулась к смесителю, чтобы выключить воду, как вдруг свет в душевой резко погас. Стало темно, хоть глаз выколи.
И тогда я уловила движение за шторкой.
Огромная тень — массивная, но бесшумная.
— Саймон... это ты?
Острые мурашки побежали по низу живота. Но чего я боюсь? Саймон не причинит мне вреда. Не должен. Я ведь знаю его. Это Саймон Райли... Мой Гоуст...
Предательские мурашки резанули ещё сильнее. Дошли до спины ледяной струёй.
Знаю... ли я его?
Шторка отодвигается, я это слышу. Ткань шуршит в сторону, воздух меняется.
— С-саймон? —повторяю.
— Да, это я, — отвечает тень его голосом. Он встаёт под душ прямо ко мне.
Вода льётся сверху, струится по нам, горячая и тяжёлая. И через её шум я слышу его дыхание. Он не трогает меня. Не протягивает руку. Это делаю я. И он вздрагивает.
Кончиками пальцев касаюсь его груди, правого плеча. Шрамы под кожей, знакомые, как родные.
Он запрокидывает голову назад, и я чувствую, как напрягается его шея. Сухожилия, натянутые под кожей. Он весь как пружина.
Прижимаюсь к нему. Мои острые соски, касаются его груди. Пальцы скользят выше, и с каждым сантиметром я всем телом, каждой наэлектризованной клеточкой ощущаю...
На нём нет маски.
— Оооо.... — вырывается из моей груди вместе с хриплым выдохом.
Он опускает голову вниз — не уходит, не делает ни шага назад. Только становится тяжелее дыхание, только грудь вздымается всё быстрее.
Саймон даёт мне дотронуться до своего лица.
И я дотрагиваюсь.
Осторожно, как будто это хрупкий фарфор, как будто могу обжечься.
Пальцы дрожат, но скользят выше — по мокрой щеке, по скуле, вдоль линии подбородка. Лёгкая щетина колется подушечками, а кожа под ней... Боже... Саймон... Он тёплый, живой, настоящий.
Вот оно, его лицо. Моё лицо-призрак, которое я столько раз представляла во сне.
И Гоуст — здесь. Без маски. Он неподвижен, и от этого всё внутри замирает сильнее.
И я вижу его лицо ощущениями, от чего у меня перехватывает дыхание. Я прикасаюсь к запретному и святому.
Это лицо — его тайна, его броня и его суть. И он впустил меня.
Подушечки пальцев видят, что и его лицо тоже покрыто шрамами. Губы, щёки, виски у глаз... Какие у него глаза. Ресницы мягкие и густые дрожат под моими прикосновениями. Я провожу пальцем по линии бровей, по его лбу, по скуле. Всё такое близкое, что хочется остаться в этой темноте навсегда, только бы не отпускать.
Мои слёзы сливаются с потоками воды, стекают по лицу, по шее — незаметные для него.
— Какой же ты красивый... мой Саймон, — говорю я, не убирая ладони с его лица.
— Ммммм! — взвыл и обхватил меня за талию сильной рукой, резко прижимая к себе.
Встаю на носочки, чтобы быть ему хотя бы плечо, но не решаясь поцеловать.
— Скажи... Вереск...Принцесса... ещё раз скажи. Повтори это слово, — просит он хрипло, надломленно, прижимаясь щекой к моему лицу. Его кожа горячая, дыхание рваное.
— Мой... мой Саймон, — всхлипом. Я схожу с ума, голова кружится.
Водит своим лицом по моему, дико, обречённо, вздрагивая всем телом.
Руками провожу по его волосам.... Ммм... Густые, отросшие. Мокрые. Не пойму, какие они на ощупь — жёсткие или мягкие. Вода мешает. Или мои дрожащие руки.
— Я боюсь, Рори.
И мои пальцы замирают. Как и его щека у моей щеки.
— Потому что я... Я уже не могу без тебя, — приподнял в воздухе и резко прижал к стене.
Я обвиваю его талию ногами, выгибаюсь навстречу, жадно тянусь к его губам. Мне нужны они — его губы. Хочу наш первый поцелуй.
И вдруг почувствовала, как он вцепился пальцами в мои волосы, отрывая от себя и не давая поцеловать. Такой же дерзкий, резкий, непредсказуемый... как всегда.
Он входит в меня с рычанием, одним грубым толчком. Из моей груди вырывается протяжный, сладкий стон. Саймон заполняет меня глубоко. Даже слишком глубоко.
***
ГОУСТ \ САЙМОН
Первым толчком вдавить её в стену, руками сжимая упругие ягодицы, плоть, которая принадлежала теперь им обоим.
"— Не смей. Её. Трахать!" — прорычал Саймон внутри. "— Это могу делать только я!"
Насадить её глубже, под легкие спазмы её наслаждения. И она стонет ему в шею, вцепляясь в плечи. И он всё чувствуют, даже обдолбавшись обезболом до краёв.
"— С чего ты решил, что можешь мне приказывать?"
"— Она произносит МОЁ имя. Стонет МОЁ имя — Саймон. Любит Саймона, не Гоуста!"
"— И что? Думаешь, я не могу её трахать?"
"— НЕ МОЖЕШЬ!"
"— Тело у нас одно. Значит, и удовольствие делим на двоих."
Срывается, начиная двигаться быстрее. Жёстко. Удерживая её на весу, как куклу, сходя с ума от каждого её вскрика и вдоха.
"— Я убью тебя!" — прошипел Саймон.
"— Ты не можешь убить меня, мальчик. Потому что это я жив, а ты просто гниёшь в углу."
"— Решил наказать меня за то, что я снял маску? Сука!"
"— И ей нравится МОЁ наказание," — прошептал он, впиваясь в её кожу,
***
АВРОРА
Он огромный — в три раза больше меня, тёмная громада, заполняющая всё пространство. Его член врывается в меня, глубокий, твёрдый, каждый толчок отдаётся жаром внизу живота. Наш секс как всегда упоителен и я улетаю в какие-то дали наслаждения, сладкую негу. Это горячо, пьяняще, мои стенки обхватывают его, пульсируют, наслаждение накатывает волнами, и я стону, прижимаясь ближе, вдыхая его запах — пот, мыло, что-то металлическое.
Но он ускоряется, толчки становятся резче, глубже, и я чувствую, как его член упирается в матку — остро, почти болезненно. Жар сменяется вспышками дискомфорта, он слишком большой. Мои бёдра напрягаются, пытаясь замедлить его, но он не останавливается.
— Саймон, полегче!
— Принцесса наша... Девочка... — хрипит он, голос низкий, рваный, как будто не он говорит. — Как же мы тебя ммм.... Подыхать по тебе начинаем... Мы оба.
— Чтоо? Что ты говоришь? Кто "мы оба"?! — я пытаюсь вглядеться в него, но кромешная темнота мешает, а его толчки не дают сосредоточиться.
— Ты слишком большой! — кричу я, паника пробивается сквозь наслаждение.
— Саймон!
— Не это имя! — рычит он, и в его голосе что-то ломается.
И мне становится страшно. До безумия, до дрожи во всем теле. Наслаждение уходит. Боль нарастает, каждый удар его члена теперь как раскалённый шип, вонзающийся слишком глубоко.
— Что с тобой?! Что ты творишь?! — и я не могу увидеть, как темнеют его и без того чёрные глаза.
— Не могу тебя оставить. Хочу чтоб моя... до упора.
Его движения становятся безжалостными, он вбивается в меня, не слыша, не видя.
Он слетел с катушек. Он ненормальный!
Мои руки трясутся, пальцы скользят по мокрой плитке, пока я нащупываю что-то на полочке рядом — маникюрные ножницы, холодные, металлические. Он врывается снова, и мою руку дёргает от его толчка, ножницы чуть не падают, но я хватаю их, стискиваю до боли в ладони.
— Саймон! Не так! Ты делаешь мне больно! — мой голос срывается.
— Имя! — рёв, почти нечеловеческий, и я не знаю, кого он хочет услышать.
Ножницы дрожат в моей руке, я стискиваю их сильнее.
— Гоуст!
И я вонзила их. Со всей дури. В плечо. Так глубоко, как могла. Заорал, взревел и водрался в моё тело со всей дикой ярости.
И всё же это было неожиданно. Ощущение словно разорвали, словно меня снова лишили девственности. Я чувствую стенками каждую выпуклость на его члене, каждый рельеф, и это сумасшедшая агония — острое наслаждение, смешанное с разрывающей болью. Как будто сейчас пойдут трещины. Никакой ласки, только его мощь, его ярость. Толкается в меня быстро, мощно, безжалостно
— Остановись! Гоуст! Саймон! Нееет! — кричу.
— Бляяяяяяядь! — он ударяет кулаком по плитке рядом с моим лицом, раз, другой, снова, осколки керамики сыплются вниз.
Резко опускает меня, ноги подкашиваются, я едва держусь за стену. Он исчезает за шторкой, и через секунду щёлкает выключатель — свет вспыхивает, режет глаза.
Я стояла под струёй душа, не чувствуя насколько вода горячая, и смотрела, как его кровь — густая, тёмная — стекает по серой плитке, закручиваясь в воронку у слива.
***
ГОУСТ
"— АХАХАХАХАХ! Смотри, что ты наделал! Рыцарь должен защищать Принцессу, Саймон. А ты становишься её погибелью."
"— Это сделал... ты... "
"— Это МЫ. Это были мы. Оба."