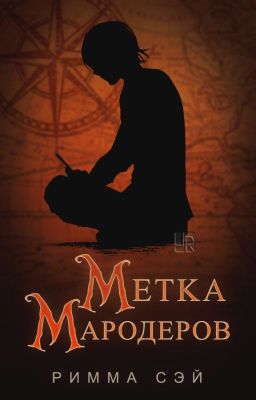Глава 10. Праздник жизни руинами красен
– Ну, пойдём туда! Ты же лазаешь лучше всех, им тебя не обогнуть! Пойдём, а то все подарки разберут! – маленькая круглолицая девочка повисла на руке у застывшего в раздумье над прилавком со сладостями юноши. В ответ на её слова он шутливо сощурился, но не тронулся с места:
– Ты сама говоришь, что я – лучший. Если туда пойду я, всё слишком быстро кончится. Это скучно, – весело усмехнулся он и вновь уставился на подносы с печеньем и леденцами так, словно их покупка была делом первостепенной важности и от его выбора зависела судьба по меньшей мере всего человечества. – Слушай, ты не помнишь, Марго хотела конвертики или лады?
– Не знаю, – протянула девочка, обиженная отказом. – По-моему, она всё ест. Лишь бы что-то купили. Ну, пошли скорее! – тут же вновь заныла она и ещё сильнее стиснула локоть юноши маленькими ладонями. – Пожалуйста, ты же обещал, что у меня будет свой ладинец! А их дают только тем, кто выигрывает в конкурсе! Ну, Лука-а-а! Ты же обещал! Пошли!
Лука задумчиво и насмешливо нахмурился и бросил ещё один неопределённый взгляд на прилавки: с них на него призывно смотрели разноцветное печенье и конфеты, которые он так и не решился купить.
– Ладно, пошли. А то без нас не справятся! – пошутил он, легко подхватил девочку и усадил её к себе на плечи. Ребёнок, абсолютно счастливый оттого, что за старший всё-таки покорился и делает теперь, как он хочет, и оттого, что ехать, обхватив руками шею своего сопровождающего, было очень весело и почётно, засмеялся и с гордым видом принялся осматривать толпу, наводнившую площадь. Все толкались, смеялись, торговались, кружились и явно были счастливы ни чуть не меньше, чем маленькая девочка, которой уступил взрослый. И самый воздух пропитался радостными голосами и живой музыкой, и от этого кружилась голова, и хотелось танцевать.
В тот день по всему Западному Королевству с размахом отмечали Ладинец, праздник весны, хозяйства и семьи. Пышное торжество захлестнула волной нарядов и пряностей все города, и Ярин не стал исключением; да и кто откажется от такого весёлого, родного, такого настоящего обычая?
На Ладинец можно было участвовать в общих гуляньях, найти прекрасный повод с кем-то познакомиться, вдоволь наесться свежих сладостей, – если, конечно, позволял бюджет, – и, что волновало народ больше всего, не нужно было трудиться, потому что в этот день в знак близости к природе и почтенья ей останавливались фабрики и заводы, и все жили, что называется, «по старинке». Праздник весны и природы, должно быть, вообще был единственным днём, когда целые толпы людей стекались на границы опустошённых городских окраин, чтобы посадить там молодые саженцы как символ новой жизни, вечером разводили на полянах костры и готовили на огне еду для всех, а в тех немногих домах, где было провидено электричество, пользовались, как в былые времена, услугами лампад и свечей. И обычно не просто серые, но угрюмые и некрасивые улицы будто перерождались вместе с воскресающим годом и одевались яркими красками и наполнялись приятными ароматами. Не было такого переулка, такого уголка, где не встретил бы путника разрумянившийся торговец с заискивающим взглядом и подносом, полным только выпеченных булочек и традиционных лад – разноцветных «косичек» из вязкого теста, приправленных всеми теми приправами, которые только может придумать умелый и любящий своё дело кондитер. Всюду торговали воздушными шарами, яркими фигурными леденцами на палочках, разноцветными лентами, которые женщины на Ладинец вплетали в косы и причудливые высокие причёски, над которыми проводили не один час в последний вечер перед грядущим торжеством.
На каждой улице непременно находился хотя бы один музыкант, который, по давно установившемуся обычаю, исполнял любую мелодию по просьбе того, кто дарил ему первую веточку местного символа вступающей в свои права весны – прекрасного и нежного белого ландыша.
И только в этот праздничный день дети, наравне со старшими братьями и сёстрами, могли почувствовать себя взрослыми, потому что не ложились спать до самого утра и в ногу со всеми вышагивали на костюмированных парадах.
На Ладинец, по всеобщему убеждению, оставаться в тени праздника полагалось лишь мертвецам и полицейским. Первым – потому, что они своё уже отгуляли и не должны были теперь мешать живым радоваться новому году; а вторым – потому, что, как поговаривали, «с полицейским веселиться – назавтра в гробу очутиться», без зазрения совести намекая на то, что ищейки всегда всё выслушивают и выискивают, так что узнавать, какое на вкус кремовое пирожное, мятный леденец и хорошее выдержанное вино им не полагается.
Остальные же люди на Ладинец, сами того не подозревая и, возможно, даже не желая, вдруг становились одной большой семьёй, вместе одинаково переживавшей радости красочного карнавала, расстраивавшейся проигрышу одного своего члена в незамысловатом состязании и искренне поздравлявшей победителя. К слову, о традиционных конкурсах, верно, стоит рассказать отдельно, поскольку ни в одной другой стране и ни в один другой день не рождалось такого огромного их числа, какое организовывалось на Западе в честь обновления года. Здесь проводили соревнования на любой вкус, для любого возраста и количества участников, самых разных физических и умственных способностей, интересов и сословного положения. Взрослые и дети с одинаковым энтузиазмом брались за танцы и пение, кулачные бои и прохождение полосы препятствий, раскрашивание деревянных тарелок и лепку из глины маленьких свистулек-жаворонков – ещё одного древнего символа праздника. И не было в этих состязаниях проигравших и побеждённых, потому что каждый, чувствуя себя частью чего-то общего и грандиозного, словно пропускал через себя энергию всего того шумного и весёлого общества, которое собиралось на улицах и площадях, и сам наполнялся их жизнью и каким-то совершенно детским, но оттого ещё более чистым и искренним восторгом.
Общее чувство и общее дело, бывшие когда-то целью проведения праздника, стали теперь его причиной и смыслом. Люди сходились и открывались миру для того, чтобы после не видеть и не слышать друг друга на протяжении ещё одного долгого года, и это было странно и непонятно. Но на Ладинец никто не думал о том, что настанет на будущий день, и все жили настоящим моментом, потому что стиснутый словно железными тесками тяжёлой рутиной народ разрывал на время праздника опостылевшие трудовые оковы и, как птица, выпущенная из клетки на волю, но не знающая ещё того, что ждёт её снаружи, распространял свои силы на всё, что оказывалось в поле его зрения, и с головой отдавался новому пьянящему ощущению отсутствия чужого надзора.
Словом, Ладинец был началом новой жизни в самом прямом смысле этого понятия. Ведь, по старинному поверью, именно с наступлением весны обновлялись все циклы в природе и те силы, что дремали внутри человека, оттого всем и было так весело и свободно и легко в это время. Бремя забот оставалось в ушедшем году, на дорогах, заспанных прошлогодней листвой, а вместе с раскрывающимися бутонами открывалась и новая, чистая, незапятнанная страница великой книги Жизни, на которой человечеству лишь предстояло вывести нетвёрдой рукой свою историю.
Вот почему в этот день бедняки могли забыть о неравенстве классов и праздновать, праздновать великое событие вместе со своими господами! Вот почему, радовалась и суетилась детвора, не боясь попасть взрослым под горячую руку. Вот почему расцветали и оживали запылённые города и покрытые паутиной задремавшие души.
И вот почему румяная круглолицая девочка дёргала за руку своего молодого дядю, которого принимала за брата и просто, как своего, звала по имени, и так отчаянно просила его «пойти туда». И это таинственное и торжественное «туда» означало на главную огромную площадь, где в самом центре возвышался высокий столб, именуемый «райским древом», на вершине которого лежали заветные «ладинцы» – праздничные амулеты из неопределённого металла, сулившие обладателю долгую и здоровую жизнь. Внизу через отверстия в толстом столбе были продеты подвижные балки, которые то и дело уходили из-под ног, потому что пока один конец такой доски торчал с одной стороны, с другого края человеку не за что было зацепиться и приходилось тянуть балку на себя, лишая соперника опоры. Балки двигались очень быстро, и соревнующиеся то и дело срывались, повисая на руках на нижних перекладинах, а то и вовсе сваливаясь на землю. Кому-то везло больше, кому-то – меньше, и, в конце концов, всегда выходило так, что половина конкурсантов сдавалась уже после пары неудачных попыток. Они смеялись над собой и над другими и, потирая ушибленные бока, отходили в сторону, покрикивая в сторону своих знакомых, претендующих ещё на успех. Те же, кому удавалось преодолеть первое препятствие, попадали на узкую площадку, после которой должны были цепляться уже за голый, лишённый выступов столб, обмотанный цветными праздничными лентами, то и дело отрывавшимися, выскальзывавшими из рук и, в общем, всячески мешавшими восхождению.
Этот конкурс был любимым состязанием Луки с детских лет, и к своим неполным двадцати годам он так наловчился в этом деле, что теперь, как не без тайного восторга и самодовольства утверждала его маленькая племянница, был настоящим асом в этом деле. Когда Лука добирался до «райского древа» (что он нет-нет, да и делал всякий раз, несмотря на то, что каждый год торжественно обещал уйти на пике славы, оставив лавры своим конкурентам), Яринские горожане весело фыркали и закатывали глаза: «Явился – не запылился, наш-то обезьяний король. Всё, кончено, господа, дело». И действительно: не более чем через пару минут даже не раскрасневшийся загорелый Лука весело махал соотечественникам с высокого столба, устроившись на самой верхушке и задорно блестя глазами. Он радовался не столько победе, сколько тому, что мог добраться сюда и сидеть, видя под ногами весь преобразившийся город и шумное красочное людское море. Он был счастлив тому, что сидит здесь один, почти как король на троне, и видит всех и каждого, а его самого если и замечают с земли, то не могут достать. И это было волшебное, незабываемое чувство!
А ещё он помнил, что внизу его ждали племянница и друзья и что теперь точно можно будет накупить гору пирожков и печенья и что вечером дома устроят большой праздник. Семья у Луки была большая: несмотря на то что на Западе многие умирали молодыми, смерть обошла их родимый очаг стороной и живы были до сих пор не только родители юноши, но и бабушки с дедушками и даже худощавый, но всё ещё деятельный прадед и совсем дряхлая прабабка. Детей тоже было много: у Луки было двое старших братьев, один из которых уехал много лет назад за границу и с тех пор не посылал известий родным, две младшие сестры, родившиеся всего на пару годков позже его, и маленькие, ещё грудные двойняшки, вокруг которых вертелся весь дом.
В общем, семейство было большое и, главное, дружное, такое, про которое говорят: «друг за друга горой». Да только дела их в последнее время шли плохо: сначала на фабрике, где швеёй работала мать Луки, произошёл пожар и рабочих, оставшихся без жалованья и трудового места, пришлось распустить. Поджигателей так и не нашли, хотя полицейские несколько недель кряду слонялись по городу и толпами водили людей на допросы, а по ночам ввели комендантский час. Потом, всего два с лишком месяца назад, тяжело заболела и слегка в постель древняя как мир прабабка, которая, несмотря на все усилия докторов и к большому их недовольству, до сих пор была жива и в своём уме, хоть теперь и не ставала вовсе. Как ни тяжко было признавать родным, как не сопротивлялись они этому жуткому осознанию, а прабабушка, с давних пор державшая дом в своих руках, стала обузой для многодетной семьи, потому что ей нужно было постоянное внимание и лекарства, которые было нигде не достать и на которые в месяц уходило около двух третей заработка кормильцев семьи. Из-за этого Луке пришлось пристроиться в мастерские, помощником кузнеца, а по вечерам ходить на другой конец города, к богатой дворянской семье, державшей лошадей, чтобы прибираться в конюшне. Работа была не из самых приятных, но, как говорил сам молодой человек, «без лишней пыли» и хорошо оплачивалась зажиточными хозяевами. Другие старшие дети работали тоже, трудились родители, и всё вроде бы начало налаживаться, но в последний месяц здешней осени случился крупный град, побивший всходы, и вновь семейство оказалось на грани нищеты.
Ко всему прочему, в последние дни стали случаться совсем неприятные события, от которых иногда по коже холодок пробегал – не то от омерзения, не то от жути. По ночам какие-то «творческие мастеровые» разрисовали странными надписями ворота дома Луки, а пару дней спустя случилось и совсем необъяснимое событие: какой-то шальной человек пробрался во двор, залез на крышу и сломал флюгер, венчавший здание с самого его основания. Куда делся сам флюгер, тоже было не ясно: Марго, одна из младших Лукиных сестёр, смогла только найти в кустах покорёженный и погнутый металлический остов. И совсем уже недавно, каких-то три дня назад, весёлому и доброму семейству на порог подкинули мёртвых птиц, ещё не разложившихся, но уже изрядно отдававших тухлятиной. Трупики выкинули в ближайший овраг, а под вечер уже на подоконнике, причём не у того окна, которое выходило на шумную улицу, а у того, что изнутри соответствовало гостиной, в которой всегда непременно находился хоть один человек, каким-то неведомым образом вновь оказались мёртвые пернатые. При этом, как опознал Лука, три птицы были из старых, утренних, а ещё одна, молодой ворон, должно быть, недавно вставший на крыло, была новой и, по-видимому, скончалась только недавно: удушливый запах разлагающейся плоти ещё не успел появиться. Птиц вновь вынесли, выбросив, на сей раз, где-то в роще, чтобы странный шутник вновь их не отыскал.
И инцидент, вроде бы завершившийся благополучно, тут же вылетел у Луки из головы: он не любил запоминать то, что портило ему настроение. Да и вообще, то, что уже прошло, в прошлом и должно остаться. Юноша думал так всегда и не видел причин менять свою точку зрения. И вот сейчас, на ярмарке, в этой шумной, красочной, весёлой атмосфере он позволил себе окончательно отпустить неприятные мысли и, когда шёл о запруженной народом площади, чувствовал себя абсолютно счастливым человеком. И всё действительно было хорошо и не предвещало беды; но, конечно, что-то всё же должно было случиться, чтобы наивные люди поняли что жизнь – не сказка, и праздник – не праздник, а попотеть придётся.
На полпути к «райскому древу» кто-то схватил Луку за руку, и юноша, резко остановившись и обернувшись, чтобы узнать, что и кому от него вдруг понадобилось, не только не обнаружил никого за спиной, но нечаянно налетел на маленькую упитанную старушку, неожиданно зло посмотревшую на него блёклыми, выцветшими глазами, выглядывавшими из-под шляпы с широченными полями:
– Только птенчик из гнезда – уж забыли молодца, – прочавкала она, сверля глазами Луку где-то в области ключиц.
– Лука, она про тех птичек, которых Ди бросила в роще? – пропищала маленькая девочка, сидящая у молодого человека на плечах, склонившись к его лицу.
– Нет, что ты... Это... просто поговорка, наверное, – попытался объяснить племянницы слова старушки Луки, хотя сам не очень понимал её. Старые люди могут быть чудаковатыми, поэтому к их странностям надо уметь относится трепетно. – Извините, – обратился он к пожилой даме, на что та вновь как-то зло сощурилась и, не отрывая взгляда от ключиц, пробормотала:
– Где прошёлся глад, там не страшен хлад.
– Если Вы не возражаете, мы пойдём, – отозвался на это Лука, тщетно пытаясь пройти мимо старушки: толпа слишком плотно их обступила, и сдвинуться с места было почти невозможно. – Кстати, с Ладинцем Вас! Здоровья там, долгих Вам лет! – решил он быть вежливым, хоть и не умел говорить красиво, о чём так мечтал отец.
Дама в огромной шляпе вместо того, чтобы ответить, как предполагается это сделать по правилам этикета, угрюмо и будто бы осуждающе посмотрела своими бесцветными глазами на Луку и могильным голосом изрекла:
– И титан обратится в прах, когда перед смертью потеряет страх.
– Лука, о чём она говорит? – девочка заёрзала на плечах, сжавшись под взглядом старухи. Она обняла дядю за шею, будто надеялась, что он защитит её от этой странной женщины. – Эта страшная бабушка хочет, чтобы мы боялись смерти? Она, что, хочет, чтоб мы умерли? – быстро и прерывисто зашептала она на ухо юноше.
– Да не бойся, это просто выражение такое, – попытался он успокоить девочку. Это ведь был праздник, и она не должна была расстраиваться. – Дайте, пожалуйста, пройти, мы спешим, – Лука, изловчившись, проскользнул мимо перегородившей улицу пожилой женщины, но прежде чем он успел отойти достаточно далеко, старушка зачем-то засеменила следом и вдруг притворно-ласково, слащаво бросила в спину молодому человеку:
– Самый прочный дом – из костей, но в таком не спастись от теней.
Девчушка пуще прежнего вцепилась в шею Луки и захныкала:
– Она ведьма, да?
– Нет. Но, думаю, вполне может стать, если кто-то ей ручку за это позолотит, – юноша, не останавливаясь, обернулся и, вытянувшись, попытался отыскать отставшую от них старуху взглядом. Широкополая шляпа, обвязанная вызывающе яркой лентой, промелькнула в толпе и скрылась за прилавками. – Успокойся, она ушла, – Лука потрепал прижавшуюся к нему девочку по щеке. – Пойдём лучше на состязание, ага? Я достану тебе ладинец, мы накупим печенья и конфет и пойдём к Марго. У неё, кстати, есть вкуснейший вишнёвый джем, помнишь?
– Угу, – девочка всё ещё шмыгала носом, но голос её едва заметно повеселел. – Лука, а она правда ушла?
– Да, малыш, – улыбнулся тот. – Наверное, даже ведьмам иногда хочется праздничного пирога отведать.
День прошёл очень быстро, наверное, потому, что всепоглощающее движение не давало ни о чём толком задуматься и нужно было всё время куда-то бежать и что-то делать.
До своего любимого состязания Лука добрался лишь под вечер (впрочем, нельзя сказать, чтобы он опоздал), так как говорящая стихами старушка немного испортила его племяннице настроение. Пришлось срочно вести её к тёте, чтобы та усиленным курсом лечения из шоколада, варенья и чая выбила из малышки весь её детский страх и тревогу. С заданием справились успешно, но, к несчастью, тут же образовались новее дела: Марго вспомнила, что в сарае прохудилась крыша, и, пока она болтала со своей маленькой гостью о всяких пустяках, Луке пришлось искать лестницу и молоток. Пришлось немного поработать, совсем не по-праздничному и, вдобавок, на солнцепёке. Остаток дня вообще словно канул в Лету: по крайней мере, молодой человек никак не помнить, что же произошло после того, как он, отвлёкшись, случайно попал взятым для ремонта молотком по голове какому-то бездельнику, залезшему в сад Маргариты через забор.
Следующим ярким воспоминанием с праздника было «древо». На него он, конечно, залез безо всяких проблем. Легко, словно кошка или обезьяна, в очередной раз подтверждая своё прозвище. Он привычно устроился на вершине столба, свесив вниз ноги и улыбаясь во весь рот. В руке он сжимал ладинец, который обещал достать маленькой племяннице, и радостно разглядывал невероятно уменьшившийся город, простиравшийся прямо под ним. Лука вглядывался в ставшие крошечными улочки, убранные гирляндами, в дома, отражавшими розоватый свет заходящего солнца, и едва видимые глазу рыжие точки костров, вспыхнувших на окраинах Ярина.
И неожиданно посреди его лба легла морщина. Молодому человеку показалось, что с городом было что-то не так, но он никак не мог понять, что именно. Эти переулки и площади, церкви и больницы – он видел их каждый год, и сейчас они были точь-в-точь такими, как раньше. Даже шпиль часовенки был так же чуть перекошен вправо, как и обычно. Крыши домов, крытые красной черепицей, удивительно красиво выглядели на фоне закатного неба.
Но в этот раз их яркий и мягкий цвет почему-то не вызвал в душе Луки привычного восторга, а, напротив, посеял в ней беспокойство. Что-то было не так с этой красной краской, она раздражала его, от неё хотелось закрыть глаза, чтобы не глядеть. Где он видел этот цвет? Господи, да полгорода ряжено красными лентами и цветами на Ладинец! Так ведь это хорошо, красиво, правильно, это радует... А красная черепица раздражала и тревожила. Где же он?..
Лука вдруг скривился, словно проглотил кусок лимона, и судорожно вцепился в край столба, потому что голова у него закружилась, и юноша чуть было не сорвался вниз. Красная лента, ярко-красная броская лента, на которую невозможно смотреть без слёз! Ведь ею повязала свою шляпу старушка с мёртвыми рыбьими глазами, говорившая всё про смерть да холод. Ах, и зачем вспоминать её теперь! И почему от этого красного цвета слезятся глаза и хочется сморщиться и закрыться руками?
Лука, превозмогая тяготящий образ, выпрямился и вновь посмотрел на город – уже не восторженно, а сосредоточенно, словно бы в поисках маленькой детали, отчего-то ставшей необходимой сейчас.
И, конечно, теперь он нашёл её. Наверное, потому, что вспомнил про старушку и её странную красную ленту.
«Красное, красное, везде красное, этого не должно быть», – почему-то понеслось у него в голове. И юноша, набрав в грудь побольше воздуха, крикнул что было сил уже расходящимся с площади людям:
– Пожар! Эй!.. По... – ветер подхватывал слова и уносил их в сторону. Внизу не слышали. – Пожар! – закричал Лука во всю мощь лёгких и закашлялся с непривычки. На площади толпа немного заволновалось, как волнуется озеро от мелкой ряби.
– Пожар на окраине! – вновь крикнул Лука и повторил свой призыв ещё несколько раз, чтобы каждый, наконец, понял, что нужно делать. – Бегите на окраину, в сторону школы! Ветер поднялся!.. Пламя может переброситься! Кто-нибудь, кликнете пожарных!
Кажется, молодого человека, к его огромному облегчению, в конце концов поняли, и внизу стали раздаваться выкрики, впрочем, едва различимые на такой высоте.
Лука и сам хотел спуститься скорее вниз, но, едва двинувшись с места, понял, что у него дрожат руки и стоит ещё посидеть, чтобы не сорваться. И он снова посмотрел на горящую красным пламенем точку. Сердце в груди забилось часто, словно подстреленная птица; огонь всё разгорался, пожирал дом, и Лука, как ни невероятно это покажется, слышал, как обвалилась старая крыши и затрещали перекрытия. Нельзя сидеть в стороне, надо бежать! Кровь застучала в висках, и юноша открыл рот, будто хотел что-то сказать – но так и не вымолвил ни слова. Руки всё ещё дрожали, и он вдруг почувствовал, что что-то острое врезается в ладонь. Не видящим взглядом он посмотрел на неё: вокруг пальцев вилась цепочка ладинца. Юноша презрительно скривился, и вдруг одним стремительным движением швырнул талисман в воздух: металлический кругляш блеснул и утонул где-то в толпе.
А Лука вновь посмотрел на разгорающееся пламя и зло подумал, сам не понимая, почему: «Вот же дурная баба. Наверное, и впрямь ведьма. "Титан обратится в прах". Да, а сначала... сначала пеплом и прахом станет город. Ну и дрянное дело!»
Он оттолкнулся и ловко заскользил вниз по столбу. Руки горели, а глаза застлала плена алого, бордового и закатного розового. Где-то колокол звенит, что ли? Зачем, почему? Или это всё-таки вызвали пожарных? В голове слащавый голос старухи и её злобные глазки, а перед глазами яркая вызывающая лента с широкополой шляпы. Хочется бежать, бежать как можно быстрее; спрыгнуть с этого чёртового столба и полететь прямо по воздуху. Всё медленно, медленно, медленно слишком... Пламя, беспощадное, голодное, жадное, наверняка скоро сожрёт старый сад, и детскую кроватку, и дубовый стол, на котором отметина от перочинного ножа, взятого шальной детской рукой, и пыльные книжные полки, которые редко кто тронет. Как странно спешить туда и не знать, что делать. Как хорошо, что племянница осталась с тётей. Где же сейчас мама, брат, двойняшки? Наверное, ушли в гости или к окраинным кострам. И это хорошо... Почему дико, безумно и необъяснимо сильно хочется смеяться? Смех разрывает лёгкие и душит изнутри, а перед глазами идёт трещинами, растёт и крошится алое с бордовым полотно, и под ладонями скользят обвивающие столб ленты.
Неужели же так и должно всё быть на Ладинец, праздник счастья и весны? И неужели так должен чувствовать себя человек, у которого уже почти до самого основания сгорел отчий дом?
Когда Лука наконец добрался до родной улицы, он уже почти ничего не соображал и только пытался отдышаться. Воздух казался горячим и пах гарью. На месте старого дома возвышались почерневшие руины, и Лука совсем некстати подумал, что они похожи на гнилые зубы: вон, как торчат отовсюду изъеденные пламенем перекрытия. Деревья вокруг почернели тоже, и даже трава приобрела от пепла грязный серый цвет. Рядом толпилась пожарная команда, и толпа людей что-то говорила разом и показывала на пепелище; огонь почти потух, только среди уродливых обломков тлело что-то: наверное, занавески и ковры никто не успел вынести.
Лука осторожно пробрался мимо зевак, обогнул дом и подошёл к развалинам с другой стороны. Почти всё в доме было деревянное, а камня хватило только на фундамент, печь и одну стену, стоявшую со стороны леса и защищавшую дом от сильных ветров. Юноша, переступая через обломки камня и обрывки каких-то вещей, валявшиеся под ногами, подошёл к этой стене и, медленно, будто боясь чего-то, подняв руку, приложил ладонь к кладке. Весь день на улице было жарко, даже душно, а от костра воздух раскалился ещё больше, но камень был холодным, словно всё это время находился на морозе.
Стена, как и всё вокруг, была покрыта копотью. Лука смотрел на неё, и не мог поверить, что больше не осталось ничего от родного дома. Ведь ещё два дня назад он чинил в доме ставни, как раз с лесной стороны, а вчера они с мамой и дедом сидели в этом самом саду, о котором сейчас напоминали лишь покорёженные и почерневшие стволы. Сначала пожар на фабрике, потом – мёртвые птицы, целая гора мёртвых птиц, отдающих гнилью, теперь – новый пожар... Что за шутник всё это затеял? Или просто бабушка не уследила, оставила зажжённую свечку у раскрытого окна? Но ведь для этого должен был быть здесь он, внимательный внук, способный устранить досадное недоразумения.
«Но меня не было здесь, не было, когда начался пожар, – думал Лука, смотря вперёд пустым взглядом. Он прошёл вдоль стены и неспешно двинулся по пепелищу, машинально отряхивая руки от приставшего к ним чёрного налёта. Он хотел броситься на поиски родных, но пока был не в силах этого сделать. Каждый удар сердца отдавался болью, словно его сильно сжали. – Я должен был быть с ними, должен был помочь... А я, я... снова этот глупый праздник. Столько раз хотел бросить ходить!.. Когда... Наверное, и дома-то никого не было. Да, конечно, бабушка же собиралась к подруге... И почему меня не было здесь? Раз всё погорела, значит, и денег не осталось... Чем же мы с продавцов рассчитаемся? И кроватку малышам только месяц прошёл как купили... И где я инструменты возьму?» И Лука ушёл в обдумывание этих надоедливых мелочей, конечно, важных, конечно, значимых, но таких жалких на фоне главного его горя. Думать о пустяках легче, потому что их много и если о каждом рассуждать хорошенько, выйдет долго. И у него почти получилось отвлечься, но этот страшной вопрос: «Почему меня не было здесь? С ними?» – никак не давал покоя. Занятый только им, Лука преодолел оставшуюся часть руин. По дороге в груде пепла он случайно увидел что-то яркое и по привычке присел, чтобы это поднять. Неизвестным предметом оказался амулет-ладинец, оставшийся, должно быть, у маленькой племянницы ещё с прошлого года. Украшение, конечно, не сгорело, но оплавилось и почернело. А яркой вещью, привлёкший его внимание, оказалось ярко-алая лента, к которой был подвешен талисман и которая выглядела почему-то совершенно новой, будто её только что сняли с прилавка.
Лука презрительно рассмотрел находку и, злобно постаравшись её как-нибудь испортить и не достигнув успеха в этом предприятии, с силой швырнул ладинец в сторону. Он был жутко зол на себя, но, как и всякий разумный человек, старался выместить это чувство на ком-то или чём-то другом и поэтому сейчас снова вспомнил о старухе, у которой на шляпе была точь-в-точь такая же красная лента как та, на которую кто-то подвесил амулет. Ему теперь казалось, что все его беды так или иначе должны были быть связаны с ней. В голове даже пронесли слова племянницы, называвшей эту каргу ведьмой. Тогда Лука, конечно, это отрицал, но теперь... О, с каким удовольствием он выплюнул бы это слово ей в лицо! Ведьма, ведьма... Она же ещё тогда, днём говорила что-то про смерть и голод. Так с чего бы ей не быть тем шутником, что подбросил дохлых птиц и поджёг дом? Лука даже на секунду замер, поражённый этой приятной мыслью. Действительно, как всё просто! Старуха, неизвестная, явно не в своём уме – разве трудно ей было бросить на сухую траву горящую спичку? Нет, с этим и ребёнок сдюжит, а значит...
Впереди замаячили перепачканные сажей лица и чьи-то белоснежные зубы, скалящиеся в улыбке. Лука на первых порах не понял, кто бы это мог быть и почему эти люди оказались рядом с ним. Но, сделав над собой усилие, он сообразил, что это лишь обычные пожарные и праздные зеваки, привлечённые чужой бедой, словно мухи гнилым мясом. Тут же, запоздало и как-то краем сознания, понял, что если рядом толпа, жаждущая свежих вестей, желательно приправленных грязью и вымученными подробностями (о, как любят они самые мерзкие сплетни!), то идти через пепелище прямо к собравшейся публике – чуть не самая плохая идея, какая только может взбрести в голову. Конечно, кто-то его сразу заметил, и Лука понял, что толпа зашевелилась и люди стали бросать на него заинтересованные взгляды. Юноша ускорил шаг и для себя решил, что сейчас добежит до Марго, к которой наверняка заходил хоть кто-нибудь из их большого семейства... Ни на кого не смотря, он стремительно пошёл в сторону улицы; но, конечно, ему не дали пройти. Кто-то грубо схватил Луку за плечо и рывком развернул к себе:
– Что ты здесь делаешь, парень? Почему ты весь в саже?
Это был полицейский, огромный, как гора, и с бородой, в которой запутались незамеченные им крошки. Его, наверное, вызвали из другого городского района, потому что этого легавого Лука никогда не видел, хотя знал всех соседей и местных служащих.
– Отвечай, тебе говорят! – полицейский встряхнул Луку. Его маленькие глазки смотрели так же зло, как глаза старухи с площади, прятавшиеся под шляпой. – Ты кто будешь?
– Я здесь жил раньше, – сипло произнёс Лука. Звук собственного голоса неприятно поразил его. – Посмотреть пришёл, что от дома осталось. Пустите, я должен найти родных.
Он рванулся, но полицейский явно не собирался упускать так удачно подвернувшуюся под руку жертву:
– А ну стоять, малец! Останешься здесь до дальнейшего выяснения обстоятельств, – криво улыбнулся он, силой притянув юношу к себе. От него сильно пахло потом и гарью, но сквозь эти запахи пробивалось что-то другое, и Лука с отвращением узнал в этом аромате одеколон, приготовленный на дешёвом спирте.
– Ты не понял, я должен найти семью, – повторил он и рванулся.
– Не тыкай мне, отродье! – взревел легавый и крикнул товарищам. – Ребята, а ну сюда! У меня здесь, кажется, поджигатель!
В толпе кто-то захохотал во весь голос, и взгляды на Луку стали падать всё чаще, причём особого дружелюбия в них как-то не было видно. «Поджигатель!..», – понеслось по рядам, и вскоре это слово из уст в уста обошло всю улицу. Всё загудело и начало двигаться к Луке. Он кожей чувствовал пристальное, почти осязаемое внимание к своей персоне, и от этого волоски на коже становились дыбом.
– Ты... Вы неправильно поняли! – голос сорвался на хрип: видимо, слишком большая нагрузка пришлась сегодня на голосовые связки. – Я не поджигатель, это был... мой дом! Мне нужно узнать, где родные! Пустите, пустите! Как Вы не понимаете!.. – отчаянные крики тонули в толпе, гудящей громко и глухо, словно пчелиный рой, и Луку никто не слушал и не хотел слушать: двое рослых полицейских уже с силой подхватили его под локти. И юноша, в порыве какой-то отчаянной, бессильной злобы, начал брыкаться и пытаться вывернуться. И, конечно, все его попытки к бегству были тщетны. Прямо в нос ударил знакомый резкий запах пота, смешанный с парами спирта:
– Да он же буйный! – загоготал силач, не давший ему покинуть улицу. Его густая борода с запутавшимися в ней крошками оказалась совсем близко к лицу Луки, и тот брезгливо отвернулся, чтобы не быть рядом с этим уродливым лицом. Полицейского, впрочем, этот пренебрежительный жест не смутил: – Не беспокойся, парень, наш Горыныч спесь-то с тебя собьёт! Всю дурь из башки выбьет! – и он вновь залился смехом, который тут же подхватили его товарищи.
Лука ещё повертелся, побрыкался – и обвис, словно из него разом вышибли дух. Старуха, старуха с площади... Наверняка это всё её заслуга! И тут же, будто нарочно желая попасться ему на глаза, её силуэт всплыл совсем рядом, прямо за плечом громоздкого стража порядка. Лука сразу узнал маленькие злобные глазки, выглядывавшие из-под широкополой шляпы.
– Это она, это она всё подстроила! Она, а не я! Схватите её!.. – срывающимся голосом, словно в бреду, зачастил юноша, головой указывая в сторону старушонки.
– Что ты бормочешь? – презрительно осведомился бородач, схватив его за подбородок и подняв голову, чтобы смотреть заключённому в глаза. – В суде наговоришься, малой... – но Лука грубо перебил его, даже не дослушав:
– Да вон же старуха, прямо за Вами стоит! Это всё она сделала, я её видел рядом! Она приставала к моей... к моей родственнице! Хватайте её! Это она устроила пожар, а не я!
– Да что ты говоришь? – усмехнулся полицейский в ответ.
– Конечно, старые леди обожают поджигать дома! Это их давнее увлечение! – со смешком отозвался один из его сослуживцев, а третий не сказал ничего, но его губы растянулись в беззвучной ухмылке.
– Леди, Вы знаете этого парнишку? – осведомился бородач, видимо, отвечавший за все действия полицейского отряда.
Старушка, скрывшаяся было в толпе, тут же, словно ждала приглашения, обернулась и, притворно-ласково осмотрев Луку, слишком приторным, как показалось юноше, голосом произнесла:
– Да, имела удовольствие познакомиться с ним на днях. Знаете, он тогда как раз нёс с собой целую кучу сухих веток. Я ещё подумала: куда ему столько, в такую-то жару? А вот как оно вышло! Неужели он и есть тот поджигатель, что ещё месяц назад объявился, да и пропал? – она ласково уставилась на Луку и мило улыбнулась, будто он был её любимый внук, подаривший бабушке букет цветов.
– А, паршивец, а ты нам что говоришь! – почти с восторгом возмутился бородатый полицейский, радостно потряхивая кулаком перед лицом своего заключённого. – Нет, леди, Вы представьте только: вот сейчас пытался нас уверить, что это Вы подожгли дом! Ну, мы-то с этим разберёмся...
– Вы ошибаетесь! – выплюнул Лука. Злость прошла так же быстро, как и нахлынула, а отчаянье осталось. На глазах выступили бесполезные жалкие слёзы, и юноша опустил голову, чтобы их никто не увидел. – Не верьте ей, я...
– Молчи, парень, хуже будет! – будто действительно о нём беспокоясь, почти по-дружески пихнул Луку под бок один из державших его громил. – То, что говорит леди, отнюдь не в твою пользу!
– Но... – попробовал было возразить он, но бородач, от которого несло дешёвым одеколоном и гарью, с силой стиснул его челюсть в гигантской ладони:
– Не твой день, подлец, – осклабился он. – Леди, – обратился легавый к старушке с вежливой улыбкой, в которой, впрочем, отражалось его осознание своего перед ней преимущества, – а Вы не уходите, с нами поедете, следователю очень интересно будет поговорить с такой прекрасной собеседницей!
– Ох, с радостью, для пользы-то дела! Так неужели же он ваш поджигатель?.. – словно ласково улыбнулась старушка. Она бросила мимолётный взгляд на Луку, но тот даже не поднял на неё глаз. Вечерние события слишком поразили его, и он теперь мог только молча глотать бессильные слёзы, катившиеся по щекам, склонив голову как можно ниже.
– Вскоре узнаем, леди, не беспокойтесь. Больше пожаров не будет, это точно, как есть говорю, не будет! – самолюбиво поглаживая бороду, заявил полицейский. – Пошли, ребята, закончим с ним до костров! – махнул он товарищам, намекая на вечернее пиршество.
Те, явно приободрившись от этих слов, поудобнее подхватили Луку и буквально потащили его за собой, не замечая даже, что он не ступает на камень ногами. Старушка засеменила за маленькой процессией, гордо, на правах единственного свидетеля, поглядывая на столпившихся вокруг зевак.
***
Когда полицейские с заключённым, конвоируемые чудаковатой старушкой, скрылись, толпа начала потихоньку растекаться: у всех были свои дела, на пепелище теперь стало скучно. У них впереди был праздник, песни, пляски. Костры, в конце концов. Жизнь всюду была в своих правах, везде царило веселье, город расцвёл яркими красками. Как можно грустить, как можно тревожиться?.. И праздничное шествие, словно ведомое чьей-то незримой рукой, заспешило к городским окраинам, где добровольцы уже готовили большие кострища для будущего действа, призванного завершить чудесный и счастливый праздник Ладинец – первый день нового, чистого года.