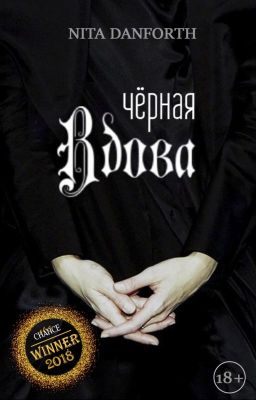13. Колыбель мессии.
Всю ночь я просидел в библиотеке, так и не сомкнув глаз. Вдова лукавила. Я перерыл тонну книг, поднял всевозможные материалы, подозревая, что нездоровье моё, вовсе не осталось позади. Эта дрянь крепко вцепилась в плоть, в чём с каждой новой страницей я всё больше убеждался. Мало вырезать, нужно ещё победить, а это не тождественно. Недуг имеет свойство возвращаться снова и снова, как грёбаное полнолуние. Я мог лишь попытаться отравить катализатор, или отравиться, покончив с этим раз и навсегда. И я непременно прибегну ко второму варианту, ежели первый провалится. Поскольку смерть моя в таком случае обещает быть крайне мучительной, куда лучше глотнуть яду, прежде чем страшная агония изволит трапезничать моим телом. Если, конечно, духа хватит. Очень непросто рассуждать о смерти, едва с ней не побратавшись. По крайней мере, представлены мы точно были. И на самом-то деле ни раз.
Впервые я едва не помер даже не от рук малолетних ублюдков в порту, нет, по-настоящему я оказался на грани между жизнью и смертью в приюте. Плата за непокорность.
«— Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его! — глаголил отец Плуто; это по свящённому писанию, между прочим. Его брюхатая фигура возвышалась над мальчишкой, смиренно стоящим на коленях в одних портках и дрожащим всем телом от страха и боли. — А вы, отцы, — увещевал Плуто, замахиваясь розгой на обезображенную, сотнями заживших и свежих, кровоточащих рубцов, спину, — учите детей своих в Господе, воспитывая их в учении и наставлении Господа, и обучайте их потребным и согласным со словом Божиим мастерствам, чтобы при удобном случае не предались они веселиям роскоши и, оставшись ненаказанными от родителей и прежде времени получив свободу, не удалились от добра. Поэтому не опасайтесь порицать их и наказывать строго. Ибо, наказывая, вы не убьете, напротив, сохраните их, как и Соломон говорит: ...кто щадит жезл свой, ненавидит своего сына, — цитировал он выдержку из какой-то притчи, обрушивая свистящие удары плетью; бедолага мог лишь вскрикивать от каждой жгуче-болезненной атаки. Навряд ли хранение Корана под перинной, заслуживало такой кары. Я знал, что парень турк, и что погибшая семья его, с рождения посвятила своего отпрыска в иную веру, да и всю эту религиозную ахинею со всеми её противоречиями — уже наизусть.
— И как тогда быть с Книгой Второзаконие? — зашевелил я губами, не страшась быть услышанным, правда, Плуто это заметил. — «Если будет уговаривать тебя сын твой, или дочь твоя говоря: «пойдем и будем служить богам иным.... » то не соглашайся с ним и не слушай его, но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа...» А вы говорите: «Ибо, наказывая, вы не убьете». Так где истина-то отец? Нет её, нет её к чёрту никой.
Старый жирдяй не понимал, что я там беззвучно мелю, но от дерзости самого факта, что я посмел открыть свой рот, пришёл в ярость. Подлетев точно коршун, он схватил меня за руку и буквально швырнул к побитому, как сутулая бродячая собака, парню. Он кажется обрадовался такому повороту событий, ведь старый мужеложец, иступлено голося принялся лупить меня розгой со всей дури.
— И как родители, любящие детей своих, угрозами отвращают их от безумных поступков, будучи побуждаемы к тому любовию, так и Бог попускает искушение, как жезл, отвращающий достойных от худых советов диавола! Щадяй жезл свой, ненавидит своего сына, любяй же наказует прилежно!
Преподобный Петр Дамаскин.
Творения.
Книга первая.
Я конечно не дурачился, зарекшись никогда не дозволять себя унижать и бить, но что я, чёрт возьми, мог противопоставить взрослому мужику в здоровом во всех смыслах теле? Верно — ни черта.
Когда он закончил на мне живого места не было, однако Плуто результат показался неудовлетворительным. Протащив мою почти бессознательную щуплую тушку за шиворот пару коридоров, он бросил меня в чулан и запер».
Сорок дней. Ровно столько я провёл взаперти, без воды и еды, испражняясь под себя. Так говорили потом, сам я слабо помню, не знаю даже когда меня вызволили, я очнулся уже в лазарете. Сломали. Починили. Сломали. Починили. И так постоянно. Это словно бы доставляло какое-то извращённое удовольствие, калечить детей, а затем лечить, и вновь калечить. Ни один воспитанник не остался без увечий. Все мечены были перстом и розгами. Без исключения.
Злобу я тогда, конечно, затаил, и во всех красках рисовал в воображении, как я поквитаюсь: вспорю брюшину, вытащу кишки и выдавлю глаза, непременно отрежу член и засуну ему же в задницу. Но пока я был мелок да квел, месть не представлялась возможной. А около полугода спустя меня соизволила стащить Вдова. Я не забыл, ничего не забыл, помню каждого урода в лицо: в порту, в приюте, в работном доме, в щелях смрадного города. Каждого. Я не верю в справедливость, закон и карму. Я и есть карма. И рано ли, поздно ли расквитаюсь с каждым — настанет только время.
С восходом солнца, проникающего сквозь стрельчатые окна, ожил особняк: зашумела вода в трубах, загремела посуда на кухне, — я учился жить. Заново. Учился слушать, понимать этот безумный мир, становился частью его. Ученье — мучительный процесс, длительный, но плодотворный. При должном рвении можно научиться всему, абсолютно всему на свете. Даже если это что-то — жизнь. Пока выходит крайне скверно, я никогда и не умел жить, меня не учили, мне подходит семнадцатый год, а я никогда и не жил по-настоящему. Ни единого дня. Я лишь веду существование. И такое чувство, что мне суждено умереть, так и не коснувшись Виты. Весьма устрашающая перспектива. Я боюсь смерти. Однако бессмысленного существования боюсь ещё больше.
К несчастью величайший секрет бытия в том и заключается — в абсолютной бессмыслице. Хаос не нуждается в смысле, как смерть — в оправдании.
Задремал ненадолго прям за письменным столом, проснулся от спешного шаркающего стука набоек по паркету и шороха ткани. Омерзительно. Голову словно бы царапают изнутри. Вдова решительно распахнув двери библиотеки, впускает волны шума. Среди которых слишком уж много шагов...
Следом входит полный мужчина в серо-синем мундире и с треуголкой в руках. Где-то под кадыком образовался воздушный пузырь, словно жеода застряла поперёк горла. Я будто укушенный подрываюсь со стула. Белокурые кудри до плеч, полные грусти и ума голубые глаза, розоватая на щеках кожа, немного сутулая осанка. Кристоф де Версан.
— Доброго дня, месье, — приветствует комиссар, чуть склонив голову; я застыл, выпучив на него глаза, и только спустя мгновение до ужаса тягучее киваю в ответ. Не обратив внимания на моё молчание, возможно заведомо зная о моём недуге, мужчина осматривает забитые книгами от пола до потолка стеллажи. — Правду говорят, у вас воистину богатейшая библиотека в городе, мадам.
— Прошу Вас, — отвечает Вдова совершенно спокойно, ведя рукой в пригласительном жесте, — здесь всё, что может помочь.
— Безмерно благодарен, мадам Дайон, — отзывается комиссар чёртовой жандармерии, и кладёт треуголку на стол.
— К Вашим услугам, месье, — Вдова чуть приседает в книксене. — Если задержитесь, извольте с нами отобедать.
— О, с превеликим удовольствием! — мигом соглашается Версан, обводя библиотеку тяжелым взором. — Вероятно, я и ужин не пропущу...
— Сочту за честь. Мы вас оставим, — говорит мадам и настойчиво окликает: — Себастьян!..
Я наконец сдвигаюсь с места и покидаю библиотеку вслед за ней, стараясь не смотреть на жандарма. Как мне удалось удержать невозмутимость на лице, ума не приложу...
— Какого дьявола?! — требую я, едва успев прикрыть за нами двери библиотеки. Вдова мигом одергивает, лишь открывая рот:
— Не нервничай. Ему просто нужна наша библиотека, — объясняется она одними только губами. Видя, однако, что меня это мало успокаивает, принимается пояснять: — У них с женой по весне родилась дочь. Не так давно захворала, и боюсь, прогнозы неутешительные, даже доктор Альгамре ничем не может помочь, что уж говорить о прочих.
— И что? — вопрошаю я, разведя руками.
— Ребёнок серьезно болен, вот что, — строго отрезает Вдова, — и это не единичный случай, округ словно бы какая-то эпидемия накрыла.
— Так помогите ему!
— Себастьян, у меня нет диплома, — вздыхает Вдова, будто утомившись от моих возмущений.
— Да к чёрту диплом! Вы можете помочь или нет?
— Возможно, только это сделаешь ты, — отвечает мадам, направляясь по коридору к холлу. Неслабо ошарашенный, бесцеремонно ловлю мадам за локоть, что заставляет её прервать шаг и развернуться.
— Простите?
— Ежели я, конечно, пойму, что это за хворь такая, — нетерпеливо починяет Вдова, и это меня даже удивляет.
— Вы не знаете?
— Никогда прежде не сталкивалась с подобной систематикой. Альгамре сдался, сказал, неизлечимо.
— А Вы?
— Я всегда придерживалась мнения, что не существует такого недуга, кой нельзя бы было побороть. Месье Версан того же, очевидно, мнения, раз не сдаётся.
— Удумал заняться самолечением? — и это скорее горькая насмешка, нежели вопрос.
— Опрометчиво, не спорю, — соглашается Вдова. — Но много ли у него вариаций?
— Уже есть летальные исходы?
— И даже больше, чем кажется, просто у нищих нет денег на врачей, — отвечает Вдова. — Молва, сам знаешь, не дремлет. Я покамест ничего не говорила, но если получится диагностировать и найти средство, скажу ему, что ты пошёл по стопам деда, — отсылает мадам тонкий намёк.
Хм, если б я пошёл по стопам деда, меня бы уже сейчас знали в лицо все трактирщики и хозяйки барделей...
— А сами, что же? — интересуюсь я, оставив мысль при себе. Вдова презрительно ухмыляется, вскинув чёрную бровь.
— А сама я женщина.
На том и порешали. План Вдовы заключается в том, чтобы прервать эпидемию моими руками, — это я понял. И не сказать, что я не подозревал подобного исхода. Она взращивала меня именно для этого: чтобы действовать в моей тени. Именно для этого. Взращивала, надеясь, что я и после её кончины продолжу ремесло врача-палача.
Комиссар копался в библиотеке до обеда. Мадам, как и обещала пригласила его к столу.
Мари накрывает в столовой, а я отчетливо вижу, как у корсарки под личиной экономки трясутся руки... Она в подлинном ужасе, и смуглое лицо её, бледное, словно кофе со сливками. У мертвых рабов, кожа приобретает подобный оттенок пепла. Раскладывает приборы дрожащими руками. Схватив девчонку за запястье, прижимаю щуплую ладонь к столу. Мари встревоженно смотрит на меня.
— Успокойся, — произношу я беззвучно, — ты словно смерть увидела.
Тяжело сглотнув, флибустьерка нелепо усмехается. Тремор в самом горле. Под моей ладонью трепещут пальцы, заставляя вибрировать стол. Она не может взять себя в руки.
— Ступай, я сам, — даю отмашку и забираю у неё лоток со столовым серебром, и добавляю в ответ на изумление во взгляде: — Давай, уже, исчезни, ты нас точно всех потопишь.
Успев наскоро досервировать стол и расставить блюда, до появления в столовой комиссара со Вдовой, перевёл дыхание. Сказать, что я был равнодушен к этой ситуации, одно что нагло солгать. Меня самого впору было взашей гнать подальше от «ока закона».
По всем правилам приличий уселся во главе стола, Вдова — рядом. В обычные дни, мы просто сидели супротив друг друга. Комиссар Версан устроился напротив мадам, которая смотрела на меня как-то шибко выразительно. Ах, да.
Сложил ладони в молитвенном жесте. Но столовую обуяла только тишина. Это заметил и комиссар, предложив:
— Быть, может, позволите, мне?
— Мы не молимся вслух, месье, — заявила Вдова, в образе смеренной монахини.
— Ах... — вздохнул, спохватившись Версан, мимолётно на меня взглянув; его щёки немного побагровели. — Прошу простить.
— Не извиняйтесь, — мотнула Вдова головой, и сомкнула веки.
Ха-ха! Чёрта с два она будет молиться в этом доме! Богохульство же...
— Удивительные, надо признаться, издания собрал доктор Дайон, — завёл комиссар беседу за трапезой, — царствие ему небесное. Кому вот теперь все эти знания...
— Известно кому, — отозвалась Вдова, бросив на меня достаточно исчерпывающий взгляд. Версан переменился в лице, обратив всё своё внимание к моей персоне.
— А вы увлекаетесь медициной молодой человек?
«Да-а-а-а, комиссар, медициной. Именно, чёрт побери, ею я и увлекаюсь. Даже не сомневайтесь».
Не развеивая легенду, я лишь кивнул в ответ, запив, рвущийся наружу смех, красным вином.
— Это же замечательно! — воодушевлённо воскликнул комиссар; в его глазах уже загорелся огонёк надежды. — Ваш дед, юноша, был выдающимся специалистом. Хочется верить, вы пойдёте по его стопам
Мой дед был шатланским пьянчугой, завтракал, обедал и ужинал третьесортным скотчем и трахался на износ с кем попало — последнее у нас похоже семейное. Видел его единственный раз в жизни, и то украдкой, когда он решил повидаться с сыном. Папаня даже порог ему не дал переступить и спустил с крыльца, сказав проваливать к чёрту. Наверняка, давно уже прибрался.
«Мне тоже, месье,» — только и сложил я руками безмолвный ответ, который мигом перевала мадам. Версан долго не мог от меня взгляда отвесть, не подозревая даже: план Вдовы был официально приведён в действие.
***
Комиссар откланялся до ужина, обещав, правда, нанести визит поутру. Чую, эти визиты будут длиться до тех пор, пока Вдова, моими руками не исцелит его дочь. Или пока дочь не заграбастает старуха с косой.
Перед ужином, спускаюсь в подвал, посмотреть, что там делает Вдова. Дверь в серую комнату закрыта, я не решаюсь отчего-то войти, но сквозь скважину вижу мадам, восседающую в резном кресле. Наблюдает. За чем? Или хотя бы зачем? За Плуто — понятно дело, но на кой? Он очевидно все так же спит, она явно его усыпляет раз за разом. Безумная баба, чёрт. Что вот она замыслила? Будто бы поджидает смерть, вот-вот обещающую нагрянуть по душу старого мужеложца. Я бы и сам непрочь с нею пересечься, дабы задать пару вопросов. Она, падла, украла у меня детство. Целую версию жизни. О, я был бы сейчас совсем другим человеком! Не знал бы многих тёмных сторон мироздания. Уверен, мотовствовал бы и беззаботно кутил в подражание отцу, параллельно неустанно пытаясь снискать его одобрение... Мне сталось вдруг крайне тошно. Претила такая версия меня. По-правде сказать, я не особо-то утруждал себя размышлениями о собственной сущности, навряд ли я был доволен собой сейчас, но от параллельной перспективы откровенно тянуло блевать.
С такого ракурса, малодушие моё, и заскорузлость ощутимо пошатнулись. Я кажется утратил способность бесстрастно выносить вердикт «виновен», и подспудно искал ответ на вопрос, какого-то чёрта, меня взволновавший. Плуто сломал столько душ, искалечил, просто уничтожил в них всякое живое, но сколько я наворотил? И не заслуживаю ли смерти, с ним наравне? — вот этот вопрос. Чем, я лучше него? Он насильник. Но что в таком случае делаю я, когда против воли волоку человека в подпол? Против его воли, не своей. Я как раз выбор имею. Разница лишь в количестве обратных путей: жертвы злосчастной кельи всё равно имеют множество, жертвы подпола — лишь один, — топь. Признаться, не знаю, что хуже. Я искал оправдания для Вдовы, но никогда для Плуто, а ведь они оба ходят под покровительством одного и того же бога, и я даже не о религии, этот бог в них самих — безымянный властный тиран, получающий удовольствие от возможности держать в руках чью-то жизнь. А во мне такого бога нет, как нет дикого желания подчинять, захватывать, обладать, я совсем ничего от этого не чувствую. Я могу желать смерти, я желал смерти, но желать и делать — не одно и то же. И даже получая желаемое, я ничего не ощущал. никакого восторга, пусто. Так может, я вовсе не так плох, как о себе думаю и дорога к двери дьявола вовсе не для меня?
Ты легко можешь искать оправдание своему испорченному нутру в череде жизненных испытаний и суровых реалиях мира. Можешь без труда хранить десятки таинств — секреты, стократ мрачнее и грязнее, загадок создателя. Но если шанс на лучшую жизнь, толкнул на путь бок о бок со смертью, отыскать свой поворот подчас совсем непросто.
— Себастьян, — различаю я громогласный для меня оклик из-за двери. — Входи, не заперто.
У неё воистину странный голос: низкий, но плавный, спокойный, как и она сама, царственно-сдержанный. Холодный. В нем отсутствовала всякая кротость и нежность, но было нечто мелодичное, ласкающее слух. Приятный голос, но промозглый и серый, как ноябрь.
Войдя в комнату, бросаю взор на Плуто — недвижим, как и прежде.
— Что ж... — развенчивает Вдова тишину; будто нарочно вслух говорит, но приглушённо, полу-шёпотом, — хочешь, стало быть, сказать, что в полном здравии?
— Вы мне скажите, — шевелю я губами, даже не пытаясь извлечь звуки. Это наверняка бесполезно, за столько лет молчания, связки всяко атрофировались. Зато у мадам всё с ними в полном порядке, потому непринужденно отвечает вслух:
— Я бы рекомендовала продлить постельный режим.
— Значит, — произношу беззвучно сквозь кривую улыбку, — я не стану следовать Вашей рекомендации, доктор Дайон.
Вдова качает головой, не реагируя на выпад.
— Боюсь, тебе не понравится эта ночь.
— Отчего же? — удивляюсь я, краем глаза поглядывая на безмятежно спящего отца Плуто.
— Ты очень изменился, — неожиданно заявляет мадам, вызывая во мне бурю противоречивых эмоций.
— Неужто? — скрестив руки, я с прищуром взираю на Вдову. — Намедни Вы ратовали в пользу того, что человека не изменить и не исправить.
Но мадам ничего на это не отвечает и, бросив короткий взгляд на старика Плуто, уходит прочь из серой комнаты.
***
Перед поздним ужином, Вдова окликает Мари. Девчонка куда-то запропастилась, даже не накрыв на стол, и мадам велит мне выйти на задний двор. В мягкой сумеречной мгле, угадываю очертания мелкой флибустьерки в зарослях отцветших пионов. В непрестанном шуме, стоящем в ушах, кажется, различаю тихий смех. Или это не смех? По вибрации, вроде, похож.
Подступая ближе к пышным кустам, едва не наступаю на ежа, но вовремя отскакиваю. Ёж тоже. Дыбиться, хвост трубой, зенки горят, шипит... Проклятье! Это никакой не ёж! Дымчатый котёнок!
Мари завидев меня, сметает улыбку и хмурится.
— Это что за чёрт? — безмолвно требую я, тыча пальцем в пушистый комок; из-за кустов высыпаются ещё трое мелких котят, все разной расцветки: чёрный, рыжий и серый.
— Сам ты чёрт, — морщась отвечает Мари. — Не по глазам что ли?
Вслед за разношерстной бандой вальяжно вываливается Ксонет, и трётся о ногу корсарки. Вот зараза, понесла ещё в июне походу и спрятала — в дальнем углу небольшой сарай со всякими инструментами и старой лодкой.
— Так вот куда ты всё бегаешь, блошиная ферма... — бормочу я одними губами, вздохнув сосредотачиваюсь на Мари, стараясь четко проговорить: — И куда теперь девать этот выводок?
Разглядывая моё лицо, Мари беззаботно пожимает плечами.
— Отнесу завтра на базар, того глядишь, разберут.
— Да они и даром никому не сдались, — наклонившись, подцепил рыжего за шкварник, и уместил на ладонь, мелкий глупо на меня уставился, дёргая ухом, и чуть не свалился вниз, пытаясь почесаться.
— Прям уж, глянь, забавные какие, — усмехается Мари, отняв у меня котёнка. — Чего бы не забрать задарма-то?
— Ага, нужен кому лишний рот...
— Коты — хищники, — возражает девчонка, — они сами себя прокормить сумеют, был бы кров да тепло.
— Млекопитающие, — исправляю я, но Мари только рукой на меня махнула.
— Одна байда.
— Так и быть, — решаю я, — отнеси. Пошли, я жрать хочу, смертельно.
***
Минуя артерии шахт и подземелий под городом, мы вышли к портовому району. На высоченных корабельных стропилах прямо над набережной слабо раскачиваются, как флюгеры, четыре мертвеца. Трупы свежие, висельники — наверняка, вздернули ещё днём. Завтра сердце Мариам содрогнётся. Подобная участь — посмертно украшать порт, грозит разве что пиратам. Она легко могла оказаться в рядах вывешенных напоказ, как знамёна на флагштоке, морских разбойников. Мари и по сей день рискует повиснуть мёртвым полотнищем над гаванью в устрашение и назидание остальным.
Душок стоит отвратительный, вода в заливе цветёт, вся муть поднимается на поверхность в это время года. Вдобавок то, что рыбаки, приторговывающие на набережной не сумели сбыть за день, выбрасывают прямо к берегу, на радость чайкам. Остатки утреннего улова к вечеру уже вовсю гниют. Зловоние в порту неотъемлемая часть атмосферы, оно просто не успевает выветриваться, завтра цикл повторится, и послезавтра, и всегда — беспрерывный круговорот, — портовое Колесо Сансары.
Мы безликими тенями под покровом плащей проникаем в тесные улочки трущоб. Над головами на протянутых веревках колышется стиранное тряпьё на спанский манер, хотя едва ли здесь обитают спанцы, а может и обитают, чёрт его знает, кого только не заносит в нашу пробуркшую гавань.
Глубокой ночью в окнах не горит свет, и только в одном единственном — в конце улицы в тупике рдеет блёклое огниво.
Вдова плывёт по кривой брусчатке прямиком к тусклому светочу. Замирает у окна: в тесной клети на подоконнике дрожит язычок пламени, еле держась за фитилёк огарка свечи. В укутанном полумраком углу, скрючилась на стуле женщина с торчащими из-под платка засаленными волосами. Спит сложив ладони на замызганный передник. Из крупной щели в раме тянет теплом и травами: горьковатый запах полыни и чего-то ещё, пряного, резковатого, едкого, как болезнь.
Не сходу распознаю очертания парусины, подвешенной между косяком стены и потолочной перекладиной. Чёрт возьми. Люлька.
Искоса гляжу на Вдову: в тени капюшона не видать лица.
— Мадам?..
— Я предупреждала, — шепчет она в ответ, — ты сам напросился со мной.
Подойдя к двери, мадам изымает из-под плаща стилет и просовывает в зазор: наверняка, максимум, что охраняет жилище — засов. Я хватаю Вдову за руку, и она отсылает мне озадаченный взор.
— Ну, чёрт с ними со священниками и крестьянскими девственницами, но это же... младенец, — не унимаюсь, а самого даже немного потряхивает.
— Он всё равно умрёт Себастьян, — сообщает она с совершенно спокойным лицом, только янтарный дьявол, притаившийся на дне глаз, с замиранием бдел за моей реакцией. — Однако, — продолжила Вдова, весьма важно, — может послужить упразднению списка погибших от этого недуга.
— Господи, чёрт, — сокрушаюсь я безмолвно, хватаясь за голову, — да Вы рехнулись! Окончательно и бесповоротно!
Впервые в жизни мне казалось, что если я не остановлю этот варварский акт нравственного растления, я точно угожу в ад. Меня впрочем и без того в преисподней давно уже заждались, но за этот потворственный шаг я всяко буду вариться в одном котле с мадам, а уж для неё, я уверен, припасён самый раскалённый чан с бурлящей лавой.
И всё же я понимаю мотивы назревающего действа, и они вовсе не бесплодны. В этом есть смысл, к собственному ужасу, я сознаю, что в этом есть чёртов смысл! Не то я нагнал в безумии Вдову, не то напрочь лишился сердца, прежде мешающего мне ясно и здраво думать. Этот ребёнок, может спасти десятки, а может сотни, тысячи... буквально умерев за них. Не уверен, что это здраво, но соображения крайне ясные. И меня это чудовищно пугает.
Вдова, приподняв засов за дверью, бесшумно проскальзывает внутрь. Я медлю.
Буквально окостенев от паники, я не могу оторвать взора от ребёнка в люльке. Дева Мария! Какой-то беспросветный кошмар! Но я и шелохнуться не в силах, дабы предотвратить поползновения Чёрной Вдовы к тряпичной колыбели. На уровне бессознательного, я молю всех святых и нечистых, чтобы мать дитя проснулась. Но женщина беспробудно спит, будто бы прибывая в глубочайшей фазе сна. По-утру горю её не будет дна. А может, облегчению. В доме нет мужчины, просто никакой детали, свидетельствующей о том, что здесь живёт добытчик. Ребёнок для одинокой женщины из низшего сословия — непосильная ноша. И даже позор, ежели принесла в подоле.
Тонкие бледные руки тянутся к свёртку в колыбели, осторожно, придерживая голову, размером с ладонь, Вдова достаёт из люльки полугодовалого, от силы, младенца. Он не просыпается, даже не шевелится, будто бы уже мёртв, на вид совсем тонкая кожа отдаёт желтизной, замечаю я прежде, чем Вдова прижимает свёрток к груди и, покидая обшарпанный вертеп, задувает огарок свечи.