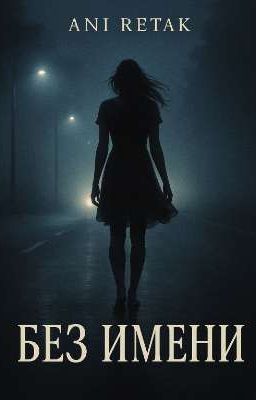.
Прошло ещё несколько дней.
Три… или четыре. Я не знаю точно.
Здесь время — как вода в капельнице: течёт медленно, капля за каплей, и ты перестаёшь считать.
Каждое утро начиналось одинаково.
Запах антисептика.
Тёплый луч солнца, пробивающийся через жалюзи.
Шум колёс каталок в коридоре.
И тихое, металлическое «кап-кап-кап» в моей вене.
Я перестала пугаться чужих голосов за дверью.
Теперь просто слушала.
Смех медсестёр. Спокойный, уставший тон врачей. Иногда — чей-то плач.
Больница живёт своими циклами, и я поняла: моё тело подстроилось под этот ритм, даже если моя память — нет.
Со мной работали все.
Психолог с мягким голосом, который задавал вопросы, от которых хотелось плакать, даже если ты не понимал — почему.
Невролог, показывающий карточки с картинками, словно я ребёнок, который должен назвать предметы.
Окулист, держащий моё лицо руками, как будто я могу убежать прямо со стула.
Даже физиотерапевт, хотя я и не понимала, зачем — моё тело было целым. Это с головой что-то было не так.
Иногда они просили закрыть глаза и описать, что я вижу.
Я видела только размытые образы: силуэт на фоне огня, тёмную воду, чьи-то пальцы, вцепившиеся в моё запястье.
Но ничего из этого не становилось яснее.
Только сильнее становился вопрос: «А хочу ли я вообще это вернуть?»
Все эти дни врачи говорили одно и то же:
— Память восстановится. Но не сразу. Нужно время.
И добавляли:
— Иногда — недели. Иногда — месяцы.
Это «иногда» стало моим врагом.
Потому что оно не давало точки.
Не говорило, когда я снова стану собой.
И кем я тогда стану.
Вчера вечером я впервые вышла в больничный сад.
Я сидела на холодной скамейке, смотрела на старые деревья и думала:
«Может, я и не была кем-то хорошим. Может, поэтому легче быть пустой».
Сегодня утром в дверь снова постучали.
Офицер Томас Мейсон вошёл, как всегда, без лишних слов.
В его руках — папка. Толстая. С моим именем… вернее, с прочерком.
— Как вы? — спросил он.
Я пожала плечами.
— Вроде… жива.
— Это уже неплохо.
Он сел рядом. Папку положил на тумбочку.
Посмотрел на меня так, как смотрят, когда собираются сказать что-то важное.
— Мы делали запросы по всей базе. Искали вас. Искали тех, кто мог бы вас узнать.
Пауза.
— И нашли кое-что. Не детали, не полную картину… но достаточно, чтобы понять: вам нужна защита.
Я медленно моргнула.
— От кого?
— Не важно, от кого, — сказал он ровно. — Важно, что вы — в деле. И не по своей воле. И пока память не вернётся, вы не сможете защищать себя.
Он наклонился чуть ближе.
— Завтра вас выписывают.
— Куда? — спросила я осторожно.
— В квартиру. Мы нашли вам жильё. Адрес не разглашается. Никто, кроме отдела, не будет знать, где вы.
— Это… как тюрьма?
— Это защита свидетелей.
Эти два слова повисли в воздухе, как капли перед тем, как упасть.
Я не знала, что они значат для меня.
Только почувствовала, как что-то сжалось в груди.
— И что теперь? — спросила я тихо.
— Теперь вы будете жить. И ждать.
— Чего?
Он посмотрел прямо в глаза.
— Воспоминаний. Или тех, кто придёт за вами.
После того как он ушёл, я сидела долго.
Смотрела на свою руку с катетером.
На белую стену.
На окно, за которым вечер уже начинал гаснуть.
Я всё ещё не знала, кто я.
Но теперь знала: кто-то точно знает, кто я — и это не я сама.