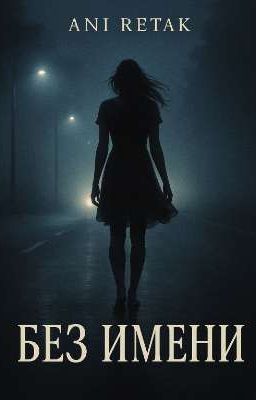.
Стук в дверь.
Я оборачиваюсь.
— Можно?
Мужчина. В форме.
Полиция.
— Мне нужно задать вам несколько вопросов.
А я всё ещё смотрю в зеркало.
И думаю:
Может, он скажет мне, кто я такая. Может, он знает. Или хотя бы начнёт говорить громко — чтобы я услышала себя.
Я не отвечаю сразу.
Просто смотрю на него, стоя босиком на кафельном полу.
Он в форме.
Сухая ткань тёмно-синего цвета.
Нагрудный знак. Ремень.
У него аккуратная борода и глаза без блеска. Такие глаза бывают у тех, кто много чего видел и давно перестал удивляться. Или сострадать.
Он повторяет: — Можно?
Я киваю.
Он делает шаг внутрь, тихо закрывает за собой дверь.
В палате становится теснее, как будто его присутствие вытесняет воздух.
Я возвращаюсь на койку.
Не потому что хочу.
Просто ноги подкашиваются.
Садиться — безопаснее, чем стоять напротив него.
Он встает сбоку. Не напротив.
Это правильно.
Он знает, что я в стрессе. Не хочет подавлять.
Но всё равно — он крупнее. Выше. Сильнее.
Я чувствую себя бумажной куклой.
Лёгкой. Сменной. Без имени.
— Я офицер Томас Мейсон. Отдел по делам пропавших и неопознанных.
Он открывает блокнот.
Пишет дату. Моё имя…
Точнее — прочерк.
Он поднимает глаза: — Как вы себя чувствуете?
Самый глупый вопрос в мире.
Я не знаю, как это — себя чувствовать.
Я не знаю, кого я должна чувствовать.
— Я... нормально, наверное, — шепчу.
— Вы понимаете, где вы?
— В больнице.
— Как вы сюда попали?
— Скорая. Меня нашли на дороге.
— Кто нашёл?
— Мужчина. Не знаю, кто он.
Он снова записывает. Почерк чёткий. Как у врача. Каждая буква — как заноза.
Я ловлю себя на том, что не могу сидеть спокойно.
Пальцы мнут край одеяла.
Ногти царапают ткань.
Словно ищу выход. Любой.
— Вы не знаете, кто вы? — спрашивает он, спокойно, как будто спрашивает про погоду.
— Нет.
— Ни имени?
— Нет.
— Ни города, откуда вы?
— Нет.
— Вам кто-нибудь знаком в этом здании? Лицо? Голос?
Я качаю головой.
Он делает паузу. Смотрит на меня.
Долго. Внимательно.
Я отвожу взгляд.
— У вас была с собой сумка. Небольшой чёрный рюкзак. Найден в сорока метрах от места, где вас обнаружили.
Он вытаскивает фото.
Протягивает.
Руки дрожат, когда я беру.
Рюкзак. Потрёпанный. Молния чуть надорвана.
Вроде бы — обычная вещь.
Но… ничего.
Ноль.
Он не вызывает ни страха, ни привязанности.
Даже не интереса.
— Ваш?
— Не знаю.
Он убирает фото.
— В рюкзаке был телефон. Сломанный. Без сим-карты.
Он смотрит на меня.
Я молчу.
— Записной книжки, документов — ничего. Только бутылка воды, заколка для волос и ключ. Без брелока.
Ключ.
Почему-то именно это слово цепляет.
Не сам предмет — а идея: что где-то есть замок, который я могу открыть.
Что-то, куда он подходит.
Я сжимаю ладони.
Слишком крепко. Костяшки белеют.
— Я могу забрать его?
Он смотрит внимательно.
— Зачем?
— Не знаю… просто… вдруг…
— Если вы не помните ничего — это может быть улика. Простите, пока нет.
Я киваю.
Холод растекается по груди.
Чужой ключ. Чужая вода. Чужая я.
— Мы подали вас в базу как неизвестную женщину. Запросили по пропавшим. Фото уже передано в систему.
Он делает паузу.
— Есть вероятность, что кто-то вас ищет. Родные. Друзья. Кто-то, кому вы нужны.
А если нет?
Я не произношу это.
Но оно звучит внутри, как гром.
Что, если я никому не нужна?
Он продолжает:
— Пока никто не обратился. Но иногда это вопрос часов. Люди видят фотографии, звонят, вспоминают. Вы не одна.
— Это не чувствуется, — отвечаю я тихо.
Он не удивляется.
— Понимаю.
— Нет. Не понимаете.
Это вырывается слишком резко.
Он замолкает.
Я поднимаю взгляд.
— Я проснулась на дороге. В темноте. Я не знала, кто я. Не знала, почему я там. Почему вся в крови. Почему одна.
Моя одежда мокрая. Руки дрожат.
Я не знала, можно ли кому-то верить.
Вам — в том числе.
Он смотрит долго. Без раздражения.
Потом убирает блокнот.
— Вы правы.
— Я не могу сказать, что всё будет хорошо.
— Но я могу сказать, что с этого момента — вы под защитой.
— Вас будут охранять. Пока вы не вспомните. Или пока не найдут те, кто вас знает.
Я киваю.
Он уже поворачивается к двери, но вдруг останавливается.
— Последнее. У вас… странный шрам на плече. Старый. Хирургический. Как от импланта.
— Мы отправим снимки. Возможно, это след какого-то медицинского вмешательства.
— Или… что-то ещё.
Я поднимаю руку к плечу.
Ничего не чувствую. Только кожу.
Он уходит.
И я остаюсь одна.
Опять.
Сижу в белой палате. Без одежды. Без прошлого.
На столике — пластиковый стакан с водой.
На подоконнике — пыль.
И единственное, что есть у меня —
шрам, ключ
и имя, которого нет.