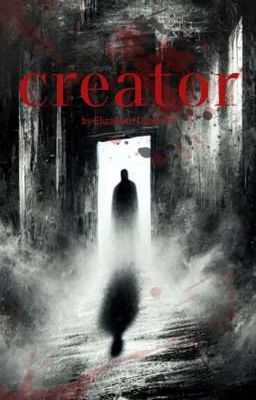Глава 38. Счастье не оставляет шрамов.
Свет. Тьма. Свет. Тьма.
Изматывающий, бесконечный ритм, бездушный маятник, раз за разом вычерчивавший границы между «было» и «нет», между реальностью и той зыбкой, жгучей иллюзией, что медленно, но верно стирала в Саре саму суть - разум, волю, воспоминания. Глаза её были закрыты, не потому, что она спала, а потому что любое проникновение света было пыткой, и даже мысль об открытии век казалась неподъёмным и бессмысленным подвигом. Она лежала, где-то между прошлым и будущим, в этом странном, зловещем сейчас, где всё, что осталось от неё это боль, голод и ОН. ОН был везде, как пульс в висках, как шёпот в голове, как невидимое давление на грудь, ведь сам воздух стал его руками. Но, несмотря на всё своё величие, Творец ещё не знал, как быть богом для хрупких существ, сотканных из слабости и желания выжить, он не понимал, что человек ломается не только от страха, а от голода, от жажды, от невозможности вспомнить, кем был и зачем жил. И тогда, когда даже его божественное вмешательство стало тонуть в апатии её угасающего тела, он придумал образ.
— Сара... — прошептал Творец, и этот голос был прикосновением к затухающей душе, нежный, повторяющийся, неуловимый, и всё же не отпускающий, вытягивающий из глубины забвения.
Сара вздрогнула, веки приоткрылись. Мир снова появился - кто-то отодвинул занавес и впустил мягкий свет, и там, перед ней ОН. Не просто мираж, не голос, а воплощённое существо, человекоподобное, слишком красивое, чтобы быть настоящим, но и слишком настоящее, чтобы быть иллюзией. Творец сидел прямо перед ней, как будто всегда был там. Мужчина, небрежно, но элегантно облачённый в тёмный, дорогой костюм, точно вырванный с чужого бала. Его волосы светлые, опускались на лоб, частично закрывая один из глаз, но это и самое притягательное - глаза: один сияющий, прозрачный, небесно-голубой, другой - насыщенно-зелёный изумруд, впитавший в себя мрак леса и тишину чащи. Небо и земля, лёд и пламя, хаос и покой.
— Милая... Не покидай меня, — прошептал он, протягивая к ней руку, тонкими пальцами очерчивая пространство между ними, и в этом жесте было что-то бесконечно личное, будто он не просто просил, а умолял о сопричастности.
Сара, не ведая, не осознавая, управляемая чем-то глубже боли, чем-то древним и голым, как инстинкт, протянула в ответ свою ладонь. И в этот миг внутри что-то хрустнуло, сжалось в трепетной дрожи, как оголённый нерв, отзываясь отчаянным желанием - понять, вспомнить, быть. Она не знала, где находится, а в её глазах стоял немой, мольбой окрашенный вопрос, будто у ребёнка, потерявшегося среди чужих лиц: Что происходит? Почему так больно?
Воспоминания уходили, исчезали, как вода сквозь пальцы, и каждый раз, когда она просыпалась, их становилось всё меньше. Оставались только тени, обрывки, шёпот мёртвого имени, от которого сжималось горло. Вместо них приходили другие – ложные и неживые, как ошибки системы, всплывающие в хаосе разума, как чужие сны, насильно вшитые в сознание. А боль... была, оставалась неизменимым спутником.
Творец медленно потянул её на себя, его руки легли на талию, уверенно, как у того, кто точно знает, что делает, и Сара оказалась на его коленях, словно забытая кукла. Он обвил её, укутал теплом, которое не могло быть человеческим, и, глядя в бледное лицо, шепнул с ласковой, почти заботливой интонацией:
— Ты нуждаешься в еде, Сара. Я прав?
Женщина даже не почувствовала страха. Только отчаянную, леденящую благодарность, что кто-то вообще помнит, что она жива. Сара, всё ещё погружённая в тягучую патину забытья, расфокусированным взглядом скользила по окружающему пространству - чужому, специально выстроенному, чтобы стереть личность. Глаза отказывались воспринимать свет, разум - хвататься за образы, но вдруг, будто по воле чего-то древнего и внутри неё самой, память уцепилась за единственное настоящее: тело Сэма. Бледное. Мёртвое. Лишённое даже посмертного покоя. От этого воспоминания всё внутри неё оборвалось, а в голову ударила такая яркая, резкая боль, что Сара вскрикнула и судорожно вцепилась в виски с желанием вырвать оттуда то, что причиняло страдание.
— Нет, не так. Ты меня не дослушала... — ласково прошептал Творец, мягко, но безапелляционно развернув её лицо к себе. Этот взгляд проникал в самые глубины её существа, а в голосе звучала игра, будто он развлекался, наблюдая, как боль ломает Сару медленно и красиво. И тут в его сознании пронеслось: А если она будет помнить это? Да так будет даже лучше. Губы Творца расползлись в хищной, влюблённой улыбке, и на свету блеснули клыки - не как у зверя, как у существа, сотворённого из страсти к контролю, и он провёл по ним языком, смакуя. — Ладно. Неважно... Вот скажи мне, — палец скользнул по женской щеке, оставляя за собой цепенеющую дрожь, — ты пробовала плоть на вкус?
Сара поперхнулась воздухом, сам вопрос перекрыл ей доступ к кислороду, и женщина инстинктивно попыталась отстраниться. Творец, предугадывая каждое движение, выпустил её без сопротивления, и тело безвольно рухнуло на холодный пол. Она поползла назад, чувствуя: чем дальше, тем лучше, пока не наткнулась на нечто чужое, липкое и холодное. Словно в кошмаре, Сара медленно обернулась и увидела его. Сэма. Его тело, изуродованное смертью и временем, с рассыпавшимися по лицу блондинистыми прядями, застывшими на мёртвой коже каплями крови, потемневшими, как вино, забытое в бокале. Его губы, когда-то такие тёплые, теперь были белыми, как снег, с синеватым отливом - смерть оставила на них поцелуй холода. Сара сдавленно вскрикнула, но паника охватила её не столько от увиденного, сколько от пугающего телесного предательства: слюна стремительно заполнила рот, а желудок болезненно сжался в ожидании пищи.
Тогда кто-то мягко обвил её плечи, и холодный, пропитанный тенью голос, коснулся воспалённого мозга:
— Выглядит неаппетитно, знаю... но вкус божественный. Поверь, милая, я не умру с голоду, а вот ты рискуешь.
Сара в ужасе попыталась отвернуться, захлебнулась в кашле, задыхаясь в собственном бессилии, ища выход, хоть какую-то точку спасения, и вдруг увидела его. Осколок. Тот самый. Он лежал там, поблёскивая в полутьме, запачканный засохшей кровью, как немой свидетель случившегося.
Нет... нет. Нет! Что ты творишь, дура?! — закричал внутренний голос, но тело уже не слушалось. Будто не она управляла руками, будто кто-то другой - голод, безумие или Творец - тянул её к стеклу, заставляя схватить его, сжимая в онемевших пальцах. И в следующее мгновение, не понимая, как, Сара уже была у тела Сэма. Она дрожащими руками разрезала ткань на его бедре, обнажая холодную кожу, где не осталось ни жизни, ни сопротивления. Желудок болезненно сжался в безмолвном протесте, дышать стало невозможно, и всё, что осталось, это действовать.
Будет ли кровь? — последняя мысль, что возникла в сознании, как будто не принадлежала ей, а выскользнула из глубин чужого разума.
И тогда Сара медленно, с запоздалой нежностью, прижала осколок к коже. Лёгкое надавливание, и плоть, сдавшись, начала расходиться в стороны под давлением стекла. Всё исчезло. Осталась только боль и вкус страха, который уже не принадлежал ей одной.
— Прости... прости меня, Сэм... - вновь и вновь, с надеждой, что эти слова могли отогнать ужас происходящего, будто извинения могли воскресить того, кто больше не ответит. Слёзы текли по её щекам, смешиваясь с потом и пылью, а руки, дрожащие от голода и страха, продолжали двигаться. Создавалось впечатление, что женщина наблюдала за собой со стороны, как за марионеткой, отдавшей себя инстинктам. И вот она сделала это. Маленький кусочек. Тёплая, влажная плоть. Прикосновение губ. Вкус. И...Мгновенное отвращение.
Словно чужой разум, вложенный в её череп, тут же отторг то, что сделало тело. Инстинкт, которому не следовало давать волю. Сара захрипела, поперхнулась воздухом, резко дёрнулась назад от понимания. Отвращение прожгло изнутри, как кислота, и тело само повалилось на бок, дрожащая ладонь судорожно прикрыла рот, стараясь удержать вырывающийся наружу вопль. Женщина захлебнулась кашлем, глухим и болезненным, горло сводило судорогой, каждый вдох был борьбой, каждый выдох - стыдом. Она отползала назад на коленях, как ребёнок, потерявшийся в кошмаре, - жалкая, сгорбленная, с глазами, в которых навсегда потух свет. Словно каждый сантиметр, отделяющий её от тела Сэма, мог стереть то, что она едва не сделала, попыткой вычеркнуть саму себя из этой реальности. Но ничего не стиралось.
Сара смотрела на неподвижное тело и уже не могла сказать, что страшнее: то, что она почти вкусила плоть того, кого любила... или то, что на мгновение это показалось ей правильным. Она отползала назад, будто от чудовища, но ведь чудовищем была она.
А Творец... Он стоял в стороне, не вмешиваясь, скептически вскинув бровь, с выражением едва скрытого разочарования. В глазах скользила тень - то ли скука, то ли холодный расчёт. Он лишь тихо хмыкнул и, потеряв к происходящему интерес, медленно перевёл взгляд в сторону. Там, в глубине помещения, под серыми, пульсирующими нитями мицелия, лежало настоящее тело Сэма. Оно было целым, окутанным влажным покоем, сам покров Творца взял его под защиту, поглотив, но не изуродовав. Это тело было истинным, совсем не тем, к чему ОН подвёл Сару. Иллюзия, ловушка, созданная с мастерством новичка, который только учится калечить человеческие души.
— Вот и всё. Иллюзия себя исчерпала.
И глаза Творца сверкнули - один ослепительно-голубой, другой зелёный, как лесная чаща перед бурей.
---
Сара очнулась, выплывая из вязкого чёрного моря в ослепительный белый свет. Он жёг глаза, словно кто-то забыл, что мир должен быть мягче при пробуждении или намеренно включил его в полную мощность, чтобы проверить, выдержит ли сознание удар.
Вены пульсировали, сердце колотилось с такой яростью, будто собиралось вырваться из груди, не выдержав бремени пережитого. Каждая клетка тела отзывалась болью, напряжением, дрожью и всё это сливалось в одну безымянную, ледяную тяжесть. Руки дрожали, не слушались, голова гудела, как сломанный трансформатор, отдаваясь звоном в висках, а где-то глубоко, в самых дальних слоях сознания, в трещинах между реальностью и памятью, всё ещё звучал гул... тот самый. Кто-то шептал изнутри черепа, тихо, настойчиво, почти ласково, напоминая о себе.
Белизна потолка хлынула в зрачки лавиной, и Сара вздрогнула, рефлекторно сжавшись в плечах. Её тело было туго укутано в простыню, прохладные просторы стерильной палаты дышали безразличием. Мониторы где-то рядом тикали, мерно пищали, и этот звук был единственным, что связывало её с настоящим, остальное - туман. Больничный воздух пах стерильной смертью, медицинским страхом, ведь каждая молекула в палате хранила в себе память о чьих-то последних вздохах
Именно в этот момент она поняла, осколки реальности разбивались об одну и ту же мысль: она жива. Только она. Мэри, как оказалось, в момент перед катастрофой всё же подала сигнал бедствия. Кто-то услышал. Кто-то пришёл. Но слишком поздно. Тела нашли уже окоченевшими, безжизненными. И только Сара в агонии, но с пульсом. Что позволило ей выжить, пройти сквозь то, что нельзя объяснить, и не разлететься на атомы? И всё было бы проще, если бы она могла что-то рассказать. Но Сара не могла.
— Сара Колдгерг, я главный врач, — уверенно отвечала женщина, моргая на вопросы. — Диагностика, городская клиника. Я... не работала археологом. Никогда. О чём вы?
И с этим голосом не поспоришь - он звучал твёрдо, без колебаний. Только вот в записях не было такого врача. Ни в этом городе, ни в любом другом. Сара ничего не помнила ни Сэма, ни станцию, ни взрыв, ни Творца. Но глубоко внутри... под кожей, под костями, в дыхании было что-то. Не воспоминание, а скорее отпечаток, как символ, выжженный на внутренней стороне души.
И когда женщина закрывала глаза, в полной тишине, она видела мир, где у неё нет рта, нет глаз, нет ушей, где она отрезана от всего, где у неё нет даже имени. Всё, чего хотелось – сорвать с себя кожу, чтобы снова что-то почувствовать, чтобы снова стать собой.
КТО Я?
А потом началось настоящее безумие. Сначала были небольшие вспышки: мелькало лицо Сэма, будто он стоял в дверях палаты, то улыбающийся, то весь в крови, в петле... Затем пошли звуки - хлюпающие шаги за спиной, шёпот сквозь вентиляционные решётки, дыхание рядом с ухом, когда никто не должен был быть рядом. Сара замирала, прислушивалась, моргала, но ничего не исчезало, лишь усиливалось.
Она не могла говорить. Глотать - да, моргать - да, а вот рот казался зашитым. Тогда пальцы автоматически тянулись к губам, а подушечки ловили нити. И когда она пыталась заговорить, то чувствовала, как «швы» натягиваются, рвутся, оставляя терпкий, металлический вкус крови. Один раз Сара сорвалась с кровати, вцепилась в лицо и заорала, что ослепла, что всё чёрное, пустое, и она заперта внутри собственного черепа. Её удерживали трое санитаров, пока женщина визжала, как раненое животное. Через полчаса зрение вернулось. Просто... вернулось. Никто не знал, было ли это настоящим приступом, или игрой.
Но это был только первый акт.
Потом Сара потеряла слух. Просто сидела, съёжившись на полу, обхватив руками колени, раскачиваясь, пока кто-то не подошёл, не позвал, но она не услышала. Лишь подняла голову и заплакала сильнее, горько, бессильно, беззвучно, потому что даже слёзы уже казались чужими. Ни слов, ни смысла. Глаза видят, но не понимают, уши молчат, рот не открывается. Она - пустая оболочка, она сосуд, из которого кто-то пьёт её душу по капле.
Сара начала думать, что сходит с ума. Или уже сошла. Что, может, давно мертва. Что всё это - галлюцинация, последняя вспышка сознания в угасающем мозге, обесточенном и лишённом кислорода. Что это не больница, а прощальная шутка нейронов, танцующих в огне распада.
И когда в одной из ночей, отражение в зеркале снова не совпало с её движением - оно моргнуло позже - она уже даже не испугалась.
Эти психозы лишь подтверждали: она слепа, глуха и нема. Тело могло двигаться, но душа давно ходила по краю. Сначала Сара пыталась бороться - кричала, рвалась, вцеплялась в реальность когтями, как дикое животное, бьющееся в капкане, но вскоре всё изменилось. Истерики растворились, остались только липкие, вязкие ночные кошмары - где стены дышат, а люди изнутри оборачиваются гнилью. Потом исчезли и они, вот тишина стала домом.
Сару признали стабильной. Несколько бесед с врачами, пара формальных тестов, где она демонстрировала вежливую, ровную отстранённость, и, наконец, встреча с Джорджем. Он смотрел на неё так, будто знал нечто большее, чем позволено простому человеку. Женщина сразу предупредила, что не помнит ни станции, ни экспедиции, ни себя прежнюю. Он кивнул, не перебивая, ведь это его и не волновало. Его волновал Творец.
Выяснилось, что с обломками оборудования, с артефактами и телами, с ними вернулась частичка. То, что не должно было выжить. То, что не было мёртвым. Оно вызвало смерть ещё двоих спасателей спустя несколько часов после возвращения и теперь хранилось в глубине закрытой лаборатории под множеством уровней допуска. Живое. Пульсирующее. Ожидающее.
— Почему оно агрессивно? — спрашивал Джордж. — Что это вообще? Биологическая форма? Интеллект? Болезнь?
Сара смотрела в одну точку, и в какой-то момент ответила. Или, возможно, не она.
— Если за ним не следить... человечество вымрет.
Чёткие воспоминания стёрлись, исчезли под плёнкой чужой воли, но у Сары остались неосознанное ощущение холода, вязкая пульсация под кожей, зов, которого нельзя было ослушаться. Это были команды, шёпот Творца не звучал как приказ - он сливался с дыханием, с кровью, с каждым биением сердца. И Сара чувствовала, что её задача – сдерживать, не допустить, чтобы ЭТО вырвалось наружу, ограничить, кормить, и взамен получать знания. Те, что не выстраданы человечеством, а вколоты в сознание, как наркотик в вену. Это была не наука - это было откровение.
Когда Сара говорила об этом, голос становился чужим, будто сквозь неё вещал кто-то другой. И этого оказалось достаточно. Джордж, человек, привыкший держать власть и чувствовать слабость других, впервые увидел перед собой не жертву, не выжившую, не хрупкую фигуру, которую стоит жалеть или оберегать. Он увидел потенциального союзника. Необычный, опасный разум, в котором скрыт ресурс, выходящий за пределы научных возможностей. Чёткий внутренний вектор, которого так не хватало остальным. И тогда, с ровной, почти вызывающей интонацией, Сара предложила: создать закрытый исследовательский проект. Без огласки, без вопросов, без посторонних глаз. Изучать существо, чтобы понять, как оно мыслит, как влияет и как меняет.
Джордж не колебался, хоть и не верил в мистику, он поверил в перспективу. То, что стояло перед ним, было не чем иным, как выходом за грань известного. Сара больше не была объектом эксперимента, она становилась его архитектором.
Под землёй, в сердце старой, давно списанной военной базы, раскинулась неофициальная лаборатория, скрытая от глаз даже самых дотошных структур. В коридорах, заросших паутиной и покрытых ржавчиной, витала тишина, такая плотная и вязкая, что казалась чем-то живым. Здесь не было суеты, не доносились ни звонки, ни голоса, только редкое, размеренное гудение вентиляции, да скрип дверей, которые уже давно разучились открываться плавно.
Сара чувствовала себя почти спокойно. Место отрезало её от всего, кроме новых воспоминаний, и того, что пряталось в глубине одного из отсеков - импульс, сердцебиение, гниющий шёпот, обернувшийся формой. Но даже здесь, среди стерильных ламп и холодных панелей, у неё нашлось нечто вроде опоры.
Доктор Уиллингс.
Пожилой психиатр с ясными глазами, вечно в старом кардигане и с мягкой интонацией, будто он разговаривал с ребёнком, которому никто не объяснил, как устроен мир. Он был в команде с самого начала, не как учёный, а как наблюдатель. Следил за состоянием персонала, фиксировал признаки стресса, помогал справиться с тем, что за гранью. Но к Саре он относился иначе. Говорил мало, слушал много, умел быть рядом, не нарушая тишины, и не оставляя её наедине с пустотой. Они часто пили чай в его кабинете, заставленном книгами, с вечно включённым настольным светильником, который отбрасывал на стены длинные, успокаивающие тени.
И вот однажды, в один из таких вечеров, Сара проговорилась. Может, усталость, может, влияние объекта, а может, потому что доктор Уиллингс действительно умел распахивать чужие души, даже не прикасаясь, женщина вдруг выдохнула, тихо:
— Оно убивает... Поглощает. Оно любит играть. Это Бог.
Сказанное повисло в воздухе, а потом Уиллингс мягко улыбнулся, по-отцовски, тепло, будто она сказала не нечто пугающее, а просто глупость.
— Ты сказала слишком многое, Сара... Но не бойся. Я никому не скажу. Просто... будь осторожна. Иногда слова могут вызвать тех, кого лучше не звать.
Он потянулся к чайнику, делая вид, что разговор ушёл в сторону. Но Сара сидела неподвижно, чувствуя, как холод снова подкрадывается изнутри. И впервые за долгое время она боялась не за себя. За него.
С этого момента Уиллингс стал её исповедником. Тем, к кому Сара приходила не как к коллеге, а как к единственному, кто способен вынести тень того ужаса, что рос под их ногами. Она делилась с ним мыслями, сомнениями, открытиями, которые пугали и возбуждали интерес одновременно. И он слушал. Терпеливо. Молча. Всё глубже погружаясь в трясину, которую никто, кроме них, не замечал. Старик знал, что она на грани, но говорил себе, что это просто усталость, просто последствия травмы, просто... защита.
И Сара шла дальше.
Эксперименты развивались. То, что когда-то было безымянной субстанцией, теперь обретало форму. Они создали чернила - странные, вязкие, живые. Капля реагировала на тепло пальцев и следы ДНК, и, ведомая чужой волей, начинала писать сама. Не текст - образы, фразы, эхо чужих мыслей, иногда предупреждения, иногда воспоминания, иногда что-то совсем иное.
Потом были таблетки. Они вызывали чувство жара, мурашки, а через несколько минут - забвение. Некоторых подопытных потом находили в углу, с пустыми глазами, шепчущих слова, которых никто не знал. Это было красиво. Неправильно. Но красиво.
Приказ, новый этап - испытания на животных. Кролики, крысы, собаки... Вскрытые, напичканные образцами, пропитанные чернилами, обмазанные мазью. Некоторые начинали судорожно дышать, будто что-то вытягивало воздух из лёгких, а другие просто, не мигая, смотрели, пока глаза не начинали кровоточить.
И вот... наступил перелом. Один из работников - немолодой техник, замкнутый, тихий, с фотографией дочери в кармане - однажды остановил Сару. Его глаза были покрасневшими, руки тряслись, он опустился на скамью напротив неё и, не в силах больше сдерживаться, прошептал:
— Я... я не могу. Я больше не могу. Я не хочу жить. Это место... оно давит. Оно смотрит. Оно говорит. Пожалуйста... просто... прекратите.
И тогда, впервые за долгое время, в глазах Сары мелькнул настоящий огонь. Не сострадание. Не ужас. Нет. Любопытство. О, какой прекрасный случай. Чистая эмоция, граничащая со смертью. Дух, готовый сломаться. Что произойдёт, если сейчас... ввести? Одну каплю. Всего одну инъекцию.
В голове пронеслось тысячи вариантов - распад, перерождение, новая речь, трансформация, прямая связь. Удовольствие хлынуло волной: пальцы дрожали, колени подогнулись, дыхание сбилось. Это было бы больше, чем эксперимент. Это было бы искусство. И она ответила:
— Доверься мне. Всё будет хорошо.
Смерть наступила быстро, сердце остановилось через сорок секунд после введения, но лицо мужчины... Оно не выражало страха. Оно застыло в чём-то странно умиротворённом, будто в последние мгновения он понял что-то важное, что-то, чего Сара сама ещё не понимала, и это сводило её с ума от интереса. Она стояла над телом, не двигаясь, с улыбкой и слезами, катившимися по щекам. Слёзы восторга. Слёзы истины. Она рыдала, потому что впервые почувствовала, как близко подошла к разгадке.
Позже, в тот же вечер, женщина набрала Джорджа. Голос дрожал не от страха, а от возбуждения:
— Джордж... это работает. Мы стоим на грани величайшего открытия. Надо начинать эксперименты на людях. Немедленно!
— Сара... ты... ты уверена? Это ведь...
— Я видела, — перебила она. — Я видела, как он изменился в момент смерти. Мы упускаем величайшую возможность в истории человечества. Мы не убиваем. Мы освобождаем.
Её голос был не голосом врача или исследователя. Это был голос проповедника.
Разрешение она получила. Годы прошли незаметно. Лица сменялись, как кадры плёнки, тела исчезали в тишине бетонного зала. Каждый умирал по-своему. Кто-то с криком, кто-то с песней, кто-то в тишине, смотря в потолок. Но никто одинаково, ни одна смерть не повторилась, ни одно тело не осталось прежним. Они расцветали, мутировали, исчезали. Появлялись снова в виде голосов в вентиляции, некоторые плакали внутри стен, один смеялся через ржавые трубы, и всё только для Сары, ведь никто другой этого не слышал.
Это случилось во время одной из их редких ночных бесед, когда лаборатория погружалась в сон, а в воздухе оставался только гул фильтрационных систем. Сара, опершись локтем на стол, с горящими глазами рассказывала об отклонениях в реакциях нервной ткани на чернильную матрицу. Её речь была отточена, научна, и при этом - пугающе вдохновенная. Она говорила о микросинаптических сдвигах, о том, как можно было бы стабилизировать поведение рецепторов, добавив микродозу синаптокорректоров. Доктор Уиллингс слушал, как всегда, с лёгкой улыбкой, но в какой-то момент невольно спросил:
— А где вы проходили специализацию? Психоневрология?
Сара замерла. Ресницы на секунду дрогнули, взгляд ушёл в сторону.
— Я... никогда не училась. Я не врач, мистер Уиллингс.
Тишина, казалось, сгущалась. Только лампы тихо потрескивали над головой.
— Тогда... откуда всё это? — Он говорил мягко, как отец с запутавшимся ребёнком. — Эти знания, этот опыт. Я ведь сам работал в клиниках всю жизнь. Я обучал врачей. Ты точно не просто энтузиаст.
Сара подняла глаза, и в них плескалась усталость, смешанная с чем-то... древним.
— Я не помню. Или не должна помнить. Но они приходят... знания. Приходят как голоса. Как картины. Я чувствую, где правда. Я знаю, как делать. Но не знаю, кто я.
Мужчина не стал давить, но с той ночи всё изменилось. Сомнение зародилось в его душе, стало прорастать ядовитыми ветвями: Кто она на самом деле? Человек? Одержимая? Пророк? Или сам Творец просто выбрал её как сосуд?
Время в подземной базе текло как вязкая чёрная смола - неумолимо, бесформенно, бесцельно. Люди менялись. Общество наверху давно шло по другому пути, изобрело новых богов, новые войны и новые формы счастья. А здесь, под землёй, всё оставалось почти прежним. Лишь доктор Уиллингс, с каждым годом всё более старый, но неизменно преданный, продолжал держаться, как та самая подпорка под крышей здания, которое уже давно держится на чём-то ином.
Потом появилась Кейти с ясным, почти фанатичным взглядом и блокнотом, в который она записывала каждый шёпот прибора, каждый оттенок чернил. Билл, её брат, – немногословный, но надёжный, тот, кто чинит, когда всё рушится. Эми - призрак среди живых: закрытая, отчуждённая, с вечно спрятанными руками, боялась, что кожа на них скажет за неё слишком много. Она ни с кем не разговаривала, и это, почему-то, всех устраивало.
А Генри... Генри был исключением. Приятный до невозможности, как ни странно, патологоанатом, бывший военный, человек, который знал, как правильно говорить о смерти за обедом. Его старенький плеер никогда не молчал: AC/DC, Metallica, Rammstein, Aerosmith, System of a Down, Prodigy — музыка ревела в коридорах, и кто-то должен был идти вниз и просить его убавить, но все знали, чем это закончится: грубым матом, ехидной усмешкой и ещё одним щелчком кнопки громкости вверх.
Сара держала их всех. Не словом, не угрозой, а взглядом. Холодным, изучающим, почти материнским, но чужим. Коллектив был цел, как организм, в котором каждая клетка боится превратиться в опухоль. Все знали: оступись, и ты из наблюдателя превращаешься в материал.
Доклады писались, образцы маркировались, чернила стабилизировались. Мицелий вёл себя смирно, расползаясь по стеклянным контейнерам, и всё было... тихо. Слишком тихо. Тишина здесь звучала как вопрос без знака вопроса, как ожидание без срока исполнения.
Уиллингс по-старчески кряхтел, будто каждая кость в его теле напоминала о прожитых десятилетиях. Он пил валерьянку уже не ложкам, а сразу из горла, как солдат на передовой, где фронт пролегал не по земле, а по границе между разумом и тем, что лежало за гранью понимания. Старик больше не спорил, не пытался отстоять свои принципы, лишь смотрел, молча, с того края стола, где слабый свет настольной лампы отбрасывал длинные, искажённые тени. В этом свете Уиллингс сам казался тенью, седой, обтёртый годами, человек-архив. Он видел, как из людей вытекала сущность, как тела становились просто оболочками, а потом бумажной записью, образцом ткани, последним слоем эпителия в лабораторной кассете. Он не боялся смерти. Он знал её слишком близко, почти на «ты».
А реверс этой монеты - Генри. Громкий, как рано включённый телевизор в тихой палате. Он смеялся в лицо смерти, затягиваясь сигаретой. Запах табака, рок из портативной колонки, неуместно острые реплики, хотя всё в нём было неуместным. Он был тем самым нарушением порядка, которого так боялись архивные стены, тем, кто говорил с мёртвыми и не забывал, каково это быть живым. Иронично, что именно патологоанатом был самым живым среди тех, кто ежедневно говорил с мёртвыми.
Стоило этим двоим оказаться в одной комнате, как воздух сгущался от сарказма, а градус напряжения поднимался быстрее, чем давление у новичков - валиум становился стратегическим запасом, его пили те, кто пытался слушать их разговоры всерьёз, а помощь Билла требовалась всем, кроме самих виновников переполоха. Эти двое, словно гром и молния в халатах, устраивали локальные бури, от которых страдали окружающие, но только не они - два старика, уставших бояться и научившихся смеяться в лицо смерти, в своём собственном извращённом измерении, где старушка с косой не приговор, а знакомая, с которой можно и выпить, и пошутить. Уиллингс был другом смерти, прожившим рядом с ней столько лет, что научился молчать при её приближении. Генри был жив вопреки, с насмешкой в голосе и пеплом от сигарет на мёртвых страницах своих отчётов. Он выбирался из своего подвала редко, но метко, как будто знал момент, когда его появление нанесёт максимальный ущерб чьей-то наивности. И когда патологоанатом появлялся, начинался цирк из чёрного юмора, сарказма и шуток, после которых младший персонал либо краснел, либо уходил перекреститься. Им стоило закрывать уши, прямо как детям за обеденным столом.
Уиллингс, с его сухой, почти британской чопорностью, отпускал замечания с интонацией завещания, обёрнутого в ритуальную ленту. Генри же стрелял сразу, громко, с дымом из уха и прицелом в самую суть.
— Если ты ещё раз забудешь протокол, я лично тебя в формалин закатаю, — спокойно бросал Генри, не отрываясь от бумаги, стряхивая пепел на пол.
— Тогда хоть буду ближе к твоим идеалам, — хмыкал Уиллингс, кивая на холодильник с трупами. — Там, где всё ровно и без эмоций.
Эти двое подкалывали друг друга с таким мастерством, что многие часто не понимали - это ссора или своеобразная форма дружбы. Но те, кто был в теме, знали: если Генри не отпустил едкой шутки, значит, ты ему неинтересен, а если Уиллингс не закатил глаза и не пробормотал «идиот», значит, он тебе просто не доверяет. А уж когда дело доходило до самоиронии - это был настоящий театр абсурда.
— Старик, ты пьёшь валерьянку, как я ром. Только у тебя от неё давление падает, а у меня самооценка.
— По крайней мере, у меня давление было, а твоя самооценка изначально пила и хромала вместе с тобой, — тихо и сдержанно отвечал Уиллингс, делая пометку в журнале. — Да и вообще, ты, кажется, уже неделю как формалин пьёшь, старый маразматик.
— А ты думаешь, откуда у меня такие ясные сны?
Они были как две крайности одной системы: порядок и хаос, сухая методичность и экспрессивный беспредел, но вместе удивительным образом уравновешивали друг друга.
Возможно, именно потому работники проекта «Зори» были командой. Или её послесловием. Обрывком чего-то когда-то великого. Остаточной функцией.
А Сара молчала, просто наблюдала. И каждый раз, когда кто-то начинал дрожать, терять сон, говорить сам с собой, в её взгляде вспыхивало то, что невозможно было принять за сострадание - это было восхищение. Как будто она собирала расстройства, чтобы однажды сказать:
"Вот. Вот оно идеальное разложение. Красота в моменте, где человек перестаёт быть собой".
И вот наступил переломный момент. Имя ему было Эван.
Для него всё это началось случайно. Просто разговор. Очередной вечер, тусклый свет в квартире, отчим зашёл в комнату, даже не с упрёком, скорее с привычной тяжестью в голосе. Эван только бросил прежнюю работу, говорил, что устал. Отчим не спорил. Просто мимоходом бросил, что у знакомой проблемы с препаратом, а точнее с категорией пациентов, что там химия сложная, организм не реагирует как надо, и спросил, что бы он сделал? Эван пожал плечами, даже не подумав.
— Попробовал бы на детях. У них другой метаболизм, восприятие, структура. Чище. Неиспорченнее.
Он сказал это не со зла, не с жестокостью. Чисто, как математик даёт ответ на задачу. И тем же вечером оказался в поезде. Без объяснений, выбора и понимания, лишь с тупым, висящим неоновой вывеской вопросом: Что?
Лаборатория приняла его так, как организм принимает инородное тело - с воспалением.
Молодой, сухощавый, с выразительными скулами и глазами, в которых угадывалось нечто от Джона, пусть сам он его никогда не знал, да и Сара этого понять не могла. В движениях была строгость, почти военная выучка, но внутренняя холодность выдавала, это был не солдат, это был врач или ... механизм.
У него был характер Сэма - прямолинейность, упрямство, внутренняя гордость, которую не так-то просто задеть. Поведение Джона - закрытость, отстранённость, будто всё происходящее он смотрел как спектакль, а не часть жизни. Притягательный образ для кое-кого, не так ли?
Парень не вписывался, да он в принципе не был создан для коллектива. Особенно такого, где каждый считал себя кем-то важным, где власть распределялась негласно, на основе страха, опыта или старых травм. А он был сыном Джорджа, и этого было достаточно, чтобы его возненавидели.
"Крыса"
Так его окрестили ещё до того, как он открыл рот. А когда всё же заговорил, стало только хуже. Привыкший к логике, к тишине, к выверенной последовательности мыслей и эмоций, которые поддаются контролю, Эван смотрел на истерики коллег так, словно наблюдал вспышку невроза у восьмилетних в комнате с белыми стенами и яркими игрушками. Они кричали, срывались, швыряли предметы, спорили из-за пустяков - взрослые, у которых за спиной годы опыта, боль, образование, жизнь, но сейчас они больше походили на обиженных детей, у которых отняли конфету и не объяснили почему. Эван никогда не поднимал голос, его тишина была острее любых выкриков. Но именно в такие моменты он просто... не выдерживал. Не от бессилия, а от отвращения. Это зрелище выбивало почву из-под ног, рушило его строго выстроенную систему, в которой каждому поступку есть причина, каждому действию - следствие. Мир, к которому он себя долго приучал, просто перестал работать, растворился в истеричных голосах и заламывании рук.
Былое, выстраданное, холодное, выточенное годами спокойствие, раньше держалось на стеклянных взглядах детей, на беззвучных криках матерей, у которых он видел, как умирает вера в адекватность своего чада. Тогда это спокойствие имело смысл - это был его способ не сломаться рядом с теми, кто уже не мог встать. Но сейчас? Сейчас вся эта внутренняя броня казалась ненужной, даже комичной. Эван чувствовал, как внутри него медленно растёт раздражение, от которого хочется выйти и хлопнуть дверью. Может быть, только тогда все поймут, что между «быть сильным» и «просто вести себя по-взрослому» есть разница.
Поэтому парень сухо, отрешённо ставил диагнозы, будто разбирал не людей, а сложные устройства.
— Истощение надпочечников. У вас проблемы с контролем гнева, Билл. Удивительно, что вас ещё не выгнали отсюда.
— Классический посттравмат. Ваша привязанность к экспериментам, Сара, это попытка заменить утраченные связи. Жутко банально.
— Вы тупы не по вине ДНК. Просто ленивы.
С коллегами он не просто был холоден, Эван бил словами, не подстраивался и не искал контакта. Посылал в лоб, кричал, спорил, перебивал, и делал это с улыбкой и невероятным спокойствием. Той улыбкой, что врезалась в память и оставляла неприятный осадок.
Сара не вмешивалась, ведь в его жестокости, в этих резких гранях характера что-то её привлекало. Может, Эван и не вписался в коллектив, но, быть может, именно он и был тем, кого она ждала.
---
Сара вышла первой, хлопнув дверью палаты так, что та вздрогнула. Эван последовал за ней, не спеша, с той ленивой грацией, что бесила её больше всего. Парень даже не смотрел на неё - рассматривал ногти, заскучал, бедный.
— Вы с ума сошли? — прошипела Сара, резко оборачиваясь, шагнув к нему. — Говорить такое при пациенте?!
— «Вы», — протянул Эван, лениво поднимая глаза. — Так официально. Мне нравится... - Он склонил голову набок, как бы вслушиваясь. — А что именно я сказал лишнего? Что он умирает? Или что он заслуживает знать об этом?
— Ты не имел права! — её голос стал резче. — Ни морального, ни профессионального. Это не твой уровень - ты ассистент, а не ведущий специалист.
— Оу. Ассистент. Прямо как в детстве: «молчи, взрослые говорят», - он усмехнулся, заправляя прядь волос за ухо. — Может, вы и забыли, но он человек, а не лабораторная крыса.
— А ты, видимо, забыл, что тут есть правила. Ты подставляешь команду. Ты подрываешь доверие. И ты, Эван, чертовски близко подходишь к тому, чтобы оказаться на месте испытуемого.
— Ага. Запугивание. - Парень на мгновение застыл. - Как по методичке. Только вы забыли одну вещь, доктор Колдгерг... - Он подался вперёд, шепнув: — Мне плевать. Вы думаете, я здесь случайно? Вы не Бог. Даже не жрец. Вы просто женщина, которая играет с огнём, потому что боится холода.
— А ты - мальчик, который не понимает, что с кем играет, Эван. Я спасла больше людей, чем ты знаешь имён. И сожгла столько же.
Эван медленно выпрямился, оценивая её с ног до головы.
— Вот об этом я и говорю. Спасибо, что подтвердили.
— Не переходи грань.
— Поздно, — бросил он ей вслед, и добавил чуть тише, почти весело: — Я вообще-то родился за ней.
Такие сцены давали острое ощущение жизни. Раздражение, злость, даже сдержанный сарказм - всё это было настоящим, не имитированным протоколом или заданием из лабораторного журнала. Эван раздражал её до дрожи, и, возможно, этим и удерживал на поверхности.
«— Ты опять трогал образец?
— Конечно. Мне было скучно, а он... пульсировал. Прямо как ваш тон при утренних брифингах.
— Ты идиот.
— А вы скупы на комплименты»
«— Ты хочешь быть следующим подопытным?
— Нет. Я хочу быть первым, кто доживёт до пенсии здесь, что, согласись, уже звучит как вызов»
«— Эван, ты можешь молчать, когда обсуждается стратегия!?
— Я, всё же, предпочитаю говорить, когда глупости оформляют как план.
— Тогда заткнись и не мешай.
— Если вы хотите, чтобы я молчал, перестаньте говорить так, будто это важно»
«— Ты хоть понимаешь, насколько ты непрофессионален?
— Ну, если сравнивать с вами, я вообще грёбаный святой»
«— Господи, дай знак, как выжить в этом грёбанном месте...
— Эван, чёрт тебя дери, Киллмайнд!
— Не такой знак...»