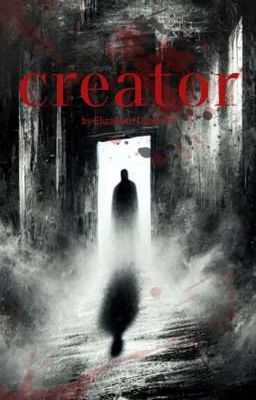Глава 36. Второй раз ты будешь влюбляться в воспоминания, а не в человека.
Недалёкое будущее не принесло ни ярких красок, ни тёплых надежд. Оно пришло тихо, как затянутая дымкой, не жестокая, а серая, вязкая и тягучая зима. Она не обрушивалась, а покрывала мир тонкой пеленой безразличия, где даже воздух казался холодным и безвкусным. В этой новой реальности дни теряли очертания, сливаясь друг с другом, и даже время перестало что-либо значить.
Сэм пытался. Он цеплялся за каждую возможность, как утопающий за воздух. Звонил, писал, стоял у её дома под дождём, под звёздами, в тишине и в гуще голосов города. Не просил вернуть прошлое, просил быть рядом. Сэм извинялся не как человек, совершивший ошибку, а как тот, кто чувствует вину за самое своё существование. За то, что дышал рядом и за то, что полюбил. Но однажды она мягко, бережно, почти шёпотом сказала «нет», и он не стал умолять. Не устраивал сцен, не кричал о боли, не ломал себя о равнодушие, просто... ушёл. Вернулся туда, где боль можно было приглушить тяжёлыми глотками алкоголя, и никто не задавал вопросов. Рядом оставался только лишь Марс, который не выл, не лаял, не ждал объяснений, вместо этого просто стелился у ног, глядя на него преданными глазами, в которых было больше понимания, чем во всех людских словах.
Сэм растворился не сразу. Он исчезал, как тускнеет шрам на коже — медленно, болезненно, оставляя после себя тонкие, почти незаметные следы, которые всё равно дают о себе знать, стоит провести пальцами. Парень стал призраком в её телефоне, эхом в случайной песне, тенью в тёплом воспоминании, которое хочется оставить, но больно пересматривать. Он не исчез - любовь, которая не выдержала реальности. Сара поняла это не сразу. Сперва она думала, что он просто занят, потом, что обижен, а потом наступила тишина. Долгая, тягучая, неестественно холодная, без упрёков и без претензий. Всё, что осталось между ними - это глупый, отчаянный вопрос, написанный в полночь:
— Ангел, ты как?
И не менее глупый ответ:
— Жива.
Потому что что ещё можно сказать, когда внутри всё давно мёртво, но сердце всё ещё бьётся?
У Джона, по сути, никогда и не было выбора — он просто остался рядом, не задавая лишних вопросов, не требуя ответов, не выясняя, любит ли она его, как прежде, чувствует ли к нему то, что раньше, или всё давно выгорело, оставив после себя только угольки совместной ответственности и привычки. Он молчал, но присутствовал. Каждое утро начиналось с привычного движения — он вставал первым, варил кофе, жарил яичницу, подавал тёплый хлеб на стол и пеленал сына, укачивал, даже когда глаза слипались от усталости, иногда даже улыбался, глядя, как тот дёргает ножками во сне. Выносил мусор, закидывал в стиральную машину одежду, поправлял плед на плечах Сары, если она засыпала на диване, словно это и было той самой жизнью, которую они когда-то пытались построить. И всё же это было не из любви, не из долга, а скорее, из внутреннего понимания, что кто-то должен это делать.
Он всё чаще исчезал — уходил рано, возвращался поздно, а иногда не возвращался вовсе, ссылаясь на срочные дела, поездки, редакционные авралы и вечные дедлайны, с таким уставшим видом, будто сам уже не различал, где работа, а где попытка сбежать. Сара всё реже ловила его взгляд, и всё чаще слышала, как за ним захлопывается дверь. Она знала — это был способ уходить, не уходя, отдаляться, оставаясь под одной крышей, жить параллельно без ссор и чувств. Журналистика съедала его — забирала у неё, у семьи, у дома, который стал им чужим. Но Джон всё равно называл это необходимостью, вкладом в будущее, жертвой ради общего дела, даже если в глубине души давно знал, что на самом деле всё, что у них осталось, только видимость того, что они всё ещё вместе.
А Сара наконец начала воспринимать Итана не как чужого, не как источник боли, не как воришку жизни и сна, а как маленького человека, которому, как бы страшно ни было, она нужна. Возможно, сработали препараты, а может, подействовал временный отдых. Она пела ему колыбельные, правда, шёпотом, держала маленькую ручку чуть дольше, чем нужно, даже когда Итан уже спал, начинала различать его запах, чувствовать его дыхание. Было относительно нормально, настолько, насколько нормальной может быть жизнь с мужчиной, чьи командировки превращаются в часы тревожного ожидания, в ссоры по телефону, в молчание через стены и километры.
Итан рос. Он был крепким, здоровым и чересчур активным мальчиком, который рано начал говорить, быстро учился, и всё время пытался познавать мир через разбросанные кубики, игрушки, шум, падения и вопросы без конца. В его глазах светилась жажда жизни, такая искренняя, детская, что иногда Сара ловила себя на том, что смотрит на него с замиранием сердца, узнавая маленькую себя.
Сэм иногда приходил. Он приносил машинки, конструкторы, мягкие игрушки, с которыми Итан всё равно не играл, а потом садился на пол, кивал, внимательно выслушивал очередной рассказ мальчика, но всегда надолго не задерживался. Чувствовал, что его место не здесь, что этот мир давно закрыл для него свои двери.
Мэнди временами забирала внука на несколько дней, а иногда и на пару недель. Итан не капризничал при расставании — скучал, но привык, что мама может захотеть побыть одна.
Отношения Сары и Джона уже давно не напоминали те экстремальные качели, которыми они были несколько лет назад. Джон остался таким же собранным, холодно-расчётливым, педантичным и немного нарциссичным. Он пытался навести порядок в их жизни, как если бы собирал разбросанные куски пазла, и каждый раз злился, когда какая-то деталь не подходила под его ожидания. Мог легко взорваться, сорваться на крик, но спустя полчаса становился снова тихим, сдержанным, почти мягким, будто ничего не произошло. Сара не боролась. Она просто уезжала в старую квартиру или к маме, на ночь, а может и на неделю, а иногда закрывалась в комнате, выключала свет, ложилась в постель и слушала, как из-за двери доносится тихий голос Итана, жалобно зовущий:
— Ма, ну поиграй со мной... Мам, ну давай все вместе...
Сара не шевелилась. Не потому, что не любила, она просто не могла. И так прошли три года. Именно рутина стала их домом. Ни ссор, ни страсти, ни криков, ни поцелуев. Только тени и попытки жить, как будто это нормально.
А потом случилась та самая травма. Та, что стала не просто происшествием, а точкой кипения. Это не было катастрофой, а просто удар и боль, к которой Сара не была готова, ведь отвыкла — не физическая, а та, что вылилась через край бокала терпения. Врачебные инструкции, холодные простыни, стерильный запах, от которого начинало тошнить. Не от антисептика, а от чувства, будто находишься в чужом спектакле, и никто не даёт тебе роли. Это не был страх, и не жалость, это было ощущение, что что-то внутри сорвалось с петель, что-то, что она слишком долго удерживала, стиснув зубы. Это была не боль за него, а боль за себя. За то, какой она стала.
И вот он — повод сбежать.
Не красивый, не поучительный, не тот, о котором пишут в книгах, не «я нашла себя», не «я устала бороться», а такой, от которого судорожно глотаешь воздух, сидя на краешке больничной койки, не в силах пошевелиться. Просто повод. Слишком резкий крик. Слишком много крови. Слишком холодный взгляд Джона, не задавшего ни одного вопроса. И слишком отчётливое осознание: Я больше не могу так. Не хочу. Не должна. Это не было бегством, это было спасением. Бросить всё: остановиться, выбросить ключи, разорвать все связи и начать заново, как только умеют начинать по-настоящему измученные люди.
Сара написала Сэму, переборов обиду: "Итан в больнице. Я снова не хочу так жить". Ответ пришёл почти мгновенно: "Я возьму билеты. Скоро буду".
Итан спал после процедуры, крохотный, со свежими швами на ножке, скрючившись под одеялом, как котёнок. Он иногда всхлипывал, сжимаясь в позу эмбриона. Сара сидела у изножья койки, пальцы медленно перебирали его мягкие, шелковистые волосы, она гладила его руку и чувствовала, как по щекам медленно скатываются слёзы. Потом, не выдержав, опустила голову на матрас и просто осталась сидеть так. Именно в этот момент пришло сообщение от Сэма.
«Ангел, ты устала. Я знаю, ты сильная, но, чёрт возьми, сколько можно нести всё на себе? Я не хочу навязываться. Правда. Так что можешь отказаться, и я пойму, но я могу помочь. Нет, я хочу помочь. Я готов оформить тебе экспедицию в Антарктиду. Один звонок — и у тебя твоя мечта в руках. Я могу не лететь с тобой, не буду мешать. Просто ответь. И, пожалуйста, за деньги даже не думай — ты это заслужила».
Сара перечитывала сообщение снова и снова, как мантру. Один звонок — и ты снова станешь собой. Одно «да» — и, может быть, на этот раз всё будет иначе.
Сара сделала свой выбор. Он был не поспешным, не импульсивным. И, пожалуй, впервые за долгие годы появилось ощущение, что она выбирает себя. Поэтому, когда Джон пришёл в больницу, она сказала это просто без украшений и объяснений.
Прошло всего несколько часов. В палате стало тихо. Итан, утомлённый эмоциями и обезболивающим, всё ещё спал, прижав кулачок к губам, не отпуская маминых пальцев. И вот... раздался тихий стук в дверь. Сара обернулась, сердце невольно дрогнуло. В проёме стоял Сэм.
Он менялся. Как всегда. Его взросление не подчинялось ни времени, ни логике — оно шло по собственному маршруту, будто по сюжету личной, тщательно выстраданной книги.
Волосы не стали длиннее, наоборот, теперь они падали ему на лицо мягкими светлыми прядями, почти как шторы, только не мешали, а подчёркивали резкие черты. Он был в глубоком синем костюме, не вычурном, но до невозможности ему идущем. Пирсинг на губе остался, даже новый появился — в брови. Это больше не казалось подростковой бравадой. Это стало частью его, символом того, что он не отрёкся от себя, даже став другим. Он никогда и не стыдился быть другим. Уголки губ дрогнули, Сэм уже собирался улыбнуться, сказать что-то, что растопит время и стены между ними, что-то, что вернуло бы хоть на мгновение те времена, когда её называли «ангелом», и это не звучало как ложь, и тут... Джон.
Он появился рядом, и без слов, без звука вытолкнул Сэма за плечо в коридор, грубо, но тихо, не хотел будить спящего ребёнка. Дверь за спиной закрылась с глухим щелчком. Джон стоял напротив, его широкие плечи напряжены, челюсть сжата, и в полутьме он казался больше, массивнее, чем был на самом деле.
— Ты хочешь забрать у меня всё, — выдохнул он. — Единственное, что у меня есть.
Сэм не сразу ответил. Он спокойно встретил взгляд Джона, ровно, без напряжения, как человек, который не боится, потому что знает, что на стороне истины.
— Я не забираю. Я даю ей выбор.
— Она слаба сейчас. Ты пользуешься этим. Думаешь, я не вижу? Думаешь, я не знаю, как ты умеешь подбирать слова? Как ты умеешь быть «правильным»?
— А ты думаешь, я не знаю, как ты умеешь разрушать, даже когда хочешь строить? — Сэм на секунду опустил взгляд, почти с сожалением, а потом снова поднял глаза. — Думаешь, я не слышал, что она говорит о тебе, когда ты не рядом? Я просто хочу, чтобы Сара жила, а не выживала. - Ни претензии, ни обвинения. Просто правда.
Он смотрел на него спокойно, но в глазах больше не было мягкости. Только усталость. И кристально холодная решимость, отточенная временем. — Ты думаешь, я враг, потому что хочу дать ей то, чего ты никогда не сможешь. Но, может, стоит меньше думать обо мне... и больше о том, как ты будешь сам содержать сына, пока она будет отсутствовать.
Джон застыл.
— Потому что её не будет рядом, Джон, — добавил Сэм, подчёркивая каждое слово. — Не день, не два. Недели. Месяцы. Возможно, дольше. Она будет жить по-настоящему, впервые за несколько лет. А ты... ты останешься здесь. - Он повернулся к двери, но на секунду задержался, не оборачиваясь. — Справишься? — тихо бросил парень. — Я бы на твоём месте уже начал учиться. Пока есть время.
---
Ночь была прохладной, но не пронизывающей. Сара вышла из больницы вместе с Сэмом, едва успев бросить взгляд на окна второго этажа, где остался Джон с больничными белыми стенами и спящим сыном. Они шли медленно и без слов. Не потому, что говорить было нечего, а потому, что они могли только помешать.
Сэм шёл чуть впереди, руки в карманах, взгляд сосредоточен на асфальте. Его шаги были привычно размеренными, и только костюм — глубокий синий, строго сидящий по фигуре — казался в этом пейзаже чужим. Сара заметила это не сразу, но когда всё же посмотрела на него, то тихо спросила, сбивчиво, как бы между делом:
— К чему такой... официальный вид? — голос девушки прозвучал негромко, рассеянно, с интонацией, что просит не просто ответ, а объяснение.
Сэм замедлил шаг, словно в этом вопросе было больше веса, чем казалось, выдохнул медленно, тихо, взгляд скользнул в сторону, вдоль мокрого асфальта, по тускло светящимся фонарям, зацепился за отблеск в лужах.
— Я был на годовщине, — произнёс он буднично, почти сухо, но голос всё равно дрогнул. — Год, как отца не стало.
Сара замерла.
— Отца? — переспросила она. Сэм только кивнул, этого хватило. — Я... не знала. Прости, — прошептала девушка, виновато, почти на вдохе, и уже в следующую секунду её пальцы инстинктивно потянулись в карман и извлекли помятую пачку сигарет.
Сэм не сказал ни слова. Молча, без суеты, он поднял руку и мягко, почти ласково, перехватил зажжённую сигарету, прежде чем она успела коснуться губ Сары. Его пальцы слегка коснулись её руки — мимолётное, незначительное прикосновение, но в этом касании было что-то настолько человеческое, настоящее, живое, что Сара невольно задержала дыхание. От этого тепла хотелось плакать. Сэм медленно затянулся, будто только затем и взял сигарету.
— Противно, — сказал он негромко, выдыхая дым в небо. — И не твоё.
Он бросил сигарету на асфальт, наклонился и раздавил её носком ботинка. Сара стояла, глядя на темнеющее небо, пока горький аромат никотинового дыма всё ещё витал в воздухе. И вдруг, на поверхность памяти всплыла старая, почти забытая фраза, услышанная где-то в университете, возможно, во время одной из тех бессонных ночей за чаем и философией: «Кто больше любит — тот, кто ломает сигареты, или тот, кто молча курит одну с тобой пополам?». Мысль, которая тогда казалась ей ироничной и красивой в своей двусмысленности, сейчас звучала... особенно.
Потому что именно Джон в своё время впервые протянул ей сигарету. С ухмылкой, почти театрально, будто вручал не никотиновую зависимость, а способ сбросить напряжение. А Сэм...Сэм всегда отбирал. То в шутку:
— О, это моё, я тебя спасаю от глупости по благородным причинам.
То с фальшивой серьёзностью:
— Курение вредно, вы не читали исследования Гарварда, мисс Колдгерг?
И однажды по-настоящему, с тоном, от которого захотелось бросить сразу, чтобы он больше не смотрел так. Тогда Сара удивилась:
— Ты ведь сам куришь...
— Да. Но я не хочу, чтобы это ты делала.
И в этой простой фразе была вся разница между ними. Один — давал руку к огню, а второй — пытался увести от него, даже если сам уже горел. Смешно, правда. Как иногда всё становится ясно через самую, казалось бы, незначительную привычку. И если Джон использовал сигареты как оружие, Сэм искал в них хоть каплю тишины, и не втягивал в неё других - выдыхал дым в сторону или вообще отходил, чтобы обычные люди не вдыхали то, что для него стало уже привычным.
А потом вспомнился ещё один момент. Тот, о котором Сара старалась не думать, потому что он слишком остро показывал разницу Сэма от всех других...
---
Это был тот период, когда он начал пить. Не в шумных компаниях и не из-за веселья, а в одиночестве, в молчании, без повода и без слов, когда спасение в людях перестало работать, а мысли стали громче, чем мир вокруг. Сэм всегда оберегал других — от вредных привычек, от саморазрушения, от поступков, за которые потом слишком больно расплачиваться. Он отбирал у неё сигареты, он поддерживал друзей, он смеялся, когда хотелось кричать. Но сам себе не был ни спасителем, ни другом. Он не жаловался, не просил помощи, не делал трагедии, просто... пробовал всё, что могло затушить внутренний пожар.
Но был эпизод, когда всё чуть не сорвалось. Он начал заглядываться на что-то посильнее. Не только алкоголь. Пил всё подряд, мешал, чтобы не чувствовать ни боль, ни холод, ни вину, ни воспоминания. Сара тогда случайно нашла улики — несколько таблеток в бумажном конверте, забытых в рюкзаке. Он сидел на подоконнике, смотрел в пустоту, пока она стояла в дверях, сжимая эти белые капсулы, как гранаты в ладони.
— Ты бы не смог.
— А ты не дала бы.
И они оба знали — это правда. Сара не простила бы, если он ушёл туда, откуда не возвращаются.
За то Марс знал все стадии падения хозяина. Он был рядом не из привязанности, не из долга, а по той безусловной и преданной любви, которая не требует слов. Он чувствовал тревогу, раньше самого Сэма. Сначала просто наблюдал, а потом начинал тихо лаять, прижимая уши, будто хотел предупредить, спасти и вернуть. Но Сэм не слушал. Он всё глубже уходил в темноту, пытался достать дно, которого не существовало.
Парень пошатнулся, тело отреагировало с опозданием. Пальцы едва зацепились за дверной косяк, он судорожно вдохнул, хотел выпрямиться, но ноги предательски подогнулись. Сэм осел на пол медленно, время растянулось, мир плыл, очертания расплывались, и лишь Марс, сдавленно поскуливая, был рядом, тыкаясь носом в его плечо, пытаясь встряхнуть, не понимая: Это просто опьянение? Или сердце? Или... уже началось то, чего я так боюсь?
«Хах, умереть от цирроза. Мечта» – подумал тогда он, покачав головой и прижавшись к холодной стене затылком. Сэм схватился за живот, тошнота поднялась к горлу горькой волной, в ушах звенело, виски сдавило железной хваткой. Пальцы дрожали, дыхание сбилось, голова медленно опустилась на не менее холодный пол, а Марс не отходил, не уходил, не сдавался. Потому что иногда, когда всё рушится, остаётся только собака, которая не бросает даже тогда, когда ты бросаешь сам себя.
Смерть отца всё изменила. Она не просто постучала, она вломилась, забрала голос, забрала тень, на которую Сэм всё ещё пытался опираться. Он не смог прилететь в больницу, не потому что не хотел, а потому что лежал на полу с пустой бутылкой в руке, с гудящим в висках сознанием, где имя Сары всплывало сквозь туман боли, вины и опоздания. Парень пытался встать, схватиться за край стола, сделать хоть шаг, но всё, на что хватило сил — это сползти обратно вниз, глухо ударившись затылком о плитку. А во второй раз он прилетел, когда собрал себя по частям, когда не пил уже две недели, когда снова обрёл лицо, но было поздно.
---
Сара стояла молча, углубившись в воспоминания, а потом просто закрыла лицо руками, чтобы никто, даже Сэм, не увидел, как дрожат губы, как горят глаза. Тот чуть медлил, а потом осторожно шагнул ближе и неуверенно, почти робко, притянул её к себе. Он склонил голову, его голос зазвучал тихо, почти с улыбкой, как раньше.
— Грядут перемены, ангел. Всё изменится. Только дай себе шанс.
Сборы проходили в лёгкой суете: коробки, рюкзаки, документы, спутанные шнуры и свитера, наспех свёрнутые в комки. Сара ощущала странное волнение — не паническое, а почти подростковое, то самое, что возникает накануне долгожданного путешествия, где всё ещё возможно, всё впереди.
Сэм, как всегда, всё организовал: билеты, проживание, список экипировки, инструкции по технике безопасности. Он не давил, просто помогал, мягко, естественно, как будто ничего и не изменилось. Иногда казалось, что они вернулись в то беззаботное прошлое, где были только библиотека, перерывы между парами и тихий смех в коридорах.
Кроме них, в экспедиции должна была участвовать Мэри — старая подруга Сэма, и с ней, как он однажды шутливо сказал, «легче покорять ледяные пустыни, чем объяснять, почему мы просто друзья».
Высокая, с точёными скулами и выправкой, словно сошла с обложки дорогого журнала. Светлые волосы, идеально собранные в хвост, ровная осанка, холодный прищур глаз цвета стали. Её речь была безупречной, поставленной, как у человека, привыкшего быть услышанным, но в каждом её слове чувствовалась неуловимая язвительность, будто собеседник уже априори проиграл в споре, ещё не открыв рта.
С первого взгляда она не понравилась Саре. Как выяснилось, с первого взгляда – и взаимно.
Мэри ревновала каждый жест Сэма. Она хмурилась, когда он касался руки Сары, каждый его «ангел» заставлял мышцы на лице Мэри дёрнуться, хотя девушка пыталась скрыть это за фирменной усмешкой, прикрывающей любую слабость сарказмом.
— Ой, ты берёшь с собой всё это? — как бы мимоходом бросала она, скользнув взглядом по вещам Сары. — Или пытаешься уместить в рюкзак всю боль прошлых отношений?
Однажды, глубокой ночью, когда остальные уже разбрелись по комнатам, Сэм и Сара сидели на кухне, заваривая чай в тусклом свете старой лампы. Металлическая ложка тихо звенела о керамику, когда он, не глядя, вдруг сказал:
— Она просто... не пережила. - Сара заинтересованно подняла глаза. — Я несколько раз отказал ей. Мягко, по-дружески, но Мэри не из тех, кто привык к слову "нет". Для неё это как вызов, ведь весь мир, вся система рушится, если кто-то отказывается от её близости. - Он вздохнул, мешая чай. — Она из тех, кто всегда получал, что хотел, из тех, у кого и слёзы были способом добиться желаемого, и гордость — оружием. Она не умеет отпускать. И всё, что она делает, — не про тебя, Сара. Это всё ещё про меня.
Это объяснение не принесло облегчения, но дало ключ к пониманию.
Зато с Тошинори всё получилось как-то сразу легко, без подводных камней и ненужных игр.
Их бывший сокурсник, которого все звали просто Тоши, был из тех людей, что заходят в комнату и становится легче дышать. Парень азиатской внешности, с гладкими, всегда аккуратно зачёсанными назад чёрными волосами, и с неизменным термосом в руке, из которого он пил не кофе, не чай, а свой «легендарный травяной отвар по семейному рецепту», который, по его словам, «лечит от скуки, похмелья и плохих свиданий».
— Вот эта статуэтка — единственная женщина, что не отвергла меня. Правда, у неё нет головы. Зато взгляд проницательный! — произносил он с таким серьёзным выражением лица, что не засмеяться было невозможно. А смеялся он сам громко, искренне, с характерным прищуром, и в каждом его «хех» было что-то настолько заразительное, что вскоре вся команда начала повторять за ним, особенно в неловких моментах.
Тошинори был внимательным и чуть суетливым, всегда подсовывал кому-то вторую порцию еды, протирал объективы на фотоаппарате, даже если их никто не просил снимать, и носил с собой маленький блокнот, в который записывал фразы, «чтобы потом вплести их в диалог в сценарии к своему будущему фильму о заброшенных цивилизациях».
— Я единственный археолог, который надеется найти не золото, а хорошую шутку в слое культурного пласта, — говорил он с пафосом, после чего обязательно добавлял, — Но если попадётся золото, я не обижусь.
А ещё у него была младшая сестра, и он часто упоминал её:
— Ты мне Сакуру напоминаешь, — как-то сказал он Саре. — Та же упрямая, независимая, и всё время думает, что справится сама, а потом приходит, пинает ногой дверь и говорит:...- Парень прокашлялся, готовясь имитировать высокий, девичий голос. - «Я всё решила, но мне всё равно нужна твоя лапша и объятия». Хех!
Может, поэтому между ними и установилась тёплая, лёгкая дружба без ожиданий, без конкуренции и подспудной борьбы за внимание. Тоши просто был рядом, в нужный момент мог рассмешить, подставить плечо или разрядить ситуацию парой фирменных фраз:
— Ладно, археологи, где наш кофе и с кем мы его пили в прошлой жизни? Я забыл...
— Это не артефакт, это просто очень старая печенька. Но я, пожалуй, возьму...
— Я не опоздал, я к вам в прошлой жизни опоздал, сейчас пришёл вовремя.
Когда он узнал, что у Сары появился ребёнок, искренне удивился:
— Ты? Мамой? Уууу... Я теперь чувствую себя реально старым и нелюбимым. Он капризный? Тогда точно в тебя. Хех.
С ним было тепло, просто и весело, и в этом разношёрстном, хрупком составе команды он стал именно тем звеном, которое всё время скрепляло общую динамику, не пытаясь стать центром внимания, поэтому каждый знал: если Тоши рядом — всё как-то легче пережить.
А Сэм... Сэм был тёплым, настоящим, рядом.
Старые обиды, недосказанности, боль, что жила между ними раньше, будто отступили. Ночные разговоры растягивались до рассвета — о жизни, прошлом, снежных просторах, о том, чего они не сказали друг другу вовремя. А когда он называл её "ангел", в голосе было не просто нежность, а трепет, уважение и знакомое тепло. Он стал взрослее, тише, сдержаннее, но в глазах Сары он всё ещё был тем самым Сэмом, которого она когда-то любила. И рядом с ним она впервые за долгое время забыла о сообщениях от Джона, о тревожных звонках, о боли. Она просто жила.
---
Они сидели вдвоём на небольшом диванчике у стены, в базе, куда прибыли накануне экспедиции. За окном металась молочно-серая ночь. Свет в комнате был мягким, приглушённым, от старого настенного бра, отчего тени на лицах становились ещё теплее.
Сэм сидел боком к Саре, расслабленно вытянув ноги вперёд. В руках он держал кружку с уже остывшим кофе, который не пил, просто грел пальцы. На переносице привычно покоились очки, чуть сползшие на край носа. Он молчал, смотрел в точку где-то перед собой, щурясь.
— После смерти отца... я ведь снова вернулся к матери, — вдруг начал он. Сара медленно повернула голову, её взгляд стал внимательнее. — Вообще, с отцом мы виделись редко. Он жил в своём мире, я в своём. Когда я узнал, что он попал в больницу с инфарктом... я не поехал. Были...причины. А через пару недель был второй. - Сэм сглотнул, голос дрогнул на последней фразе. — Финальный. Его не стало.
Пауза повисла в воздухе. Сэм медленно стянул очки, большим и указательным пальцем сжал переносицу, пытаясь загнать обратно нарастающий внутри шум, не имеющий отношения ни к мигрени, ни к усталости. Это был иной вид боли — глубокий, застарелый, закапсулированный под кожей, тот, что вытесняется, но никогда не исчезает. Он провёл рукой по лицу, пальцы задержались на скулах, а потом Сэм склонился вперёд, опираясь локтями на колени. Он не плакал. Он хотел кричать.
Сара молча протянула руку, положила ладонь ему на плечо. Не навязчиво, не жалостливо, с простым, земным теплом.
— Прости, Сэм... — прошептала она.
Он кивнул, будто отмахиваясь, и продолжил:
— Мне некуда было деться, так что я снова жил с матерью. И, знаешь... поначалу было даже спокойно. Пустой дом, тишина, её голос — он не раздражал, он был фоном. Она даже готовила... как в детстве. - Парень усмехнулся, но губы его дрогнули. — А потом она... изменилась. Или, может, я просто стал смотреть иначе. Не сразу, нет. Это не как в фильмах, не было чего-то очевидного, не было откровенного ужаса и насилия. Всё происходило между строк. Слова. Прикосновения, которые задерживались слишком долго, не в тех местах. Фразы, вроде: "Ты стал таким красивым, прямо как твой отец... в лучшие годы". Или: "Ты бы был отличным мужем... жаль, что не чужой".
Сара вздрогнула, брови непроизвольно поднялись, в глазах смешались шок и тревога.
— Сэм... Боже.
Он усмехнулся снова — криво, горько, как человек, который научился смеяться над тем, что должен был навсегда оставить за чертой нормального.
— Ты даже не представляешь, как быстро рушится картина "заботливая мать", когда её глаза вдруг перестают быть просто материнскими. Я... Я тогда начал пить чаще. Чтобы не видеть, не слышать и просто забыть, что я дома.
Сара поджала губы, и, не глядя на него, молча положила голову Сэму на плечо. Это не был жест утешения или стремление сблизиться, скорее, способ вернуть его в безопасное пространство, напомнить: я рядом, и можно выговориться. Она мягко перевела разговор:
— Если бы не Итан... я бы давно подала на развод. Но ведь ребёнка не сбросишь, да? Зато иронично получилось. Сейчас он всё равно с Джоном.
Они замолчали.
— А ты? — спустя несколько секунд прошептала она. — Были отношения после... ну, в общем?
— Были... попытки. – Хмыкнул Сэм. — Но, если честно? Это была не любовь. Это была серия разочарований с красивыми прологами. Знаешь, как будто читаешь книгу с шикарной обложкой и интригующим началом, а потом с каждой страницей всё больше понимаешь, что это не твоё. Что ты будто бы читаешь не свою историю. - Он вздохнул. — Мэри - последняя книга из этого сборника. Красивая, умная, дерзкая... и абсолютно невозможная. Словно ты смотришь на неё и понимаешь - вот она, женская версия Джона. Только с платьем, маникюром и идеальной укладкой вместо сигарет и рубашки нараспашку. Тот же контроль, та же ревность, те же бесконечные "ты должен" и "ты обязан". И так же не умеет отпускать.
— Ты серьёзно? — спросила Сара, приподняв голову, искоса взглянув на него с почти детским удивлением.
— Ага. — Сэм кивнул, и в его тоне сквозило что-то бесконечно простое, тёплое и настоящее, как будто в этой одной фразе он заключил целую историю промахов, попыток и отголосков боли.
Сара фыркнула, не выдержав, и это вызвало настоящий, живой смех, не сдержанный, не заученный, не вежливый, а именно настоящий. Такой, каким он его помнил. Сэм замер на секунду, а потом подался вперёд с лёгкой полуулыбкой.
— Вот! — выпалил он. — Вот он. Этот звук.
Сара хмыкнула:
— Какой ещё звук?
— Твой смех, ангел. — Слова прозвучали так же, как тогда, в школьные годы, когда всё между ними только начиналось. — Очаровательный. Один из тех, что заставляет забыть обо всём, даже о том, что зубы стучат от холода.
Между ними сантиметр, если не меньше, дыхание стало единым. Пальцы Сэма невольно потянулись к её щеке, но не коснулись, он улыбнулся уголком рта и прошептал:
— "In lumine tuo videbimus lumen."
Сара моргнула, почти не дыша:
— Что это?
— В свете твоём... мы увидим свет. На латыни звучит лучше.
— «Quidquid latine dictum sit, altum videtur», - прошептала Сара в ответ. - Все, что сказано на латыни, кажется мудростью.
Она склонила голову, не отстраняясь, ведь была не против, а даже хотела. Сэм смотрел на неё, затаив дыхание. В глазах плескалась осторожная неуверенность, как у человека, который боится спугнуть момент. Он приподнял брови, будто спрашивая без слов: можно? правда? Секунды стали вечностью. Их дыхание смешалось, и мир сузился. Ещё чуть-чуть и...
— Хей! — раздался знакомый голос с характерным акцентом, полный восторга и непрошеного энтузиазма. В следующее мгновение Тошинори влетел в комнату, держа в одной руке термос, а в другой потрёпанный, свёрнутый в трубочку плакат. — Вы не поверите, что я нашёл! — выпалил он, сияя так, будто только что откопал личный саркофаг Клеопатры. — Помните тот случай на втором курсе, когда препод забыл свою презентацию и вместо археологических схем показывал нам плакаты из туристической экспедиции? Я нашёл тот самый плакат! Он у меня в руках!
Сэм закатил глаза и тихо выдохнул, плавно отстраняясь, откидываясь на спинку дивана. Сара тоже отстранилась, тихо рассмеялась, прикрыв рот рукой.
— Чёрт, Тош... — пробормотал Сэм, потянувшись к термосу.
А Тошинори уже разворачивал плакат на ближайшем столе, хохоча и что-то бурно объясняя про "золотую пирамиду для туристов с тремя фотозонами и верблюдом, которого звали Гуччи". И всё снова стало по-домашнему тёплым, по-студенчески глупым, и невероятно живым. Словно прошлое решило на время стать настоящим — без боли, без решений, без тяжёлых "а что если". Только смех, плакаты и уютные неслучившиеся поцелуи.
А потом всё вдруг изменилось.
Те несколько дней всё казалось прозрачным и почти по-настоящему новым, будто Сара и Сэм, пройдя через чужие жизни, снова подошли к началу своей. Только уже взрослыми, уставшими, но, возможно, способными начать то, чего боялись. Они говорили по вечерам, смеялись над воспоминаниями, в которых уже не болело, держались друг за друга не как влюблённые, а как люди, прошедшие сквозь огонь и медные трубы. Почти готовы быть собой рядом с кем-то другим, возможно, даже готовы быть вместе. И вдруг - хруст хрупкой надежды.
Сара ловила себя на том, что тянется к нему — словами, жестами, взглядом. Не с надеждой, а с тихой верой: может, теперь получится, ведь всё стало почти настоящим. Почти — потому что прошлое не отпускает просто так. И однажды, собравшись с мыслями, она решила поговорить. О себе. О нём. О том, что больше не хочется молчать. Поднялась по лестнице, но остановилась, когда увидела, что дверь в комнату Сэма, обычно плотно закрытая, сегодня была приоткрыта. Всё случилось за секунду.
Сэм и Мэри. Близко. Слишком близко. Не объятия. Не поцелуй. Но уже далеко не дружба. Привычная близость, та, которая случается не на пике страсти, а от нехватки тишины, и её достаточно, чтобы понять: та книга, которую Сэм когда-то называл законченной, всё ещё пишется. И глава под названием «Мэри» не осталась в прошлом — она открыта, живая, текущая.
Сара стояла. Секунду. Другую. А потом молча развернулась. Она просто снова оказалась на той самой странице, которую никогда не хотела дочитывать, и снова поняла: она — не героиня этой главы, а просто кто-то, случайно заглянувший в чужую историю.
Сара вела себя безупречно. Даже слишком безупречно. Всё в ней будто покрылось тонким, почти невидимым льдом, который блестел на солнце, создавая иллюзию сияния. Она смеялась с остальными у костра, делала заметки в журнале, кивала на командные планы, словно ничего не произошло, не было взгляда, который должен был принадлежать ей, а принадлежал другой.
И только Сэм видел, что что-то не так.
Она начала избегать прикосновений - отодвигалась, если он случайно касался её плеча. Не смеялась, когда он отпускал шутки, не смотрела в глаза, отодвигалась, когда он садился рядом. Слово "ангел" больше не вызывало в ней ни дрожи, ни улыбки, только лёгкий, вежливый кивок. И от этого кивка было больнее, чем от молчаливого ухода.
Всё чаще Сара уходила одна, списывая всё на усталость, на головную боль, на походные нагрузки, конечно же:
— Простыла, наверное... хах, — сказала она как-то, отворачиваясь, и сама не заметила, как голос у неё дрогнул.
Сэм не поверил ни одному слову. И когда она в очередной раз попыталась проскользнуть мимо него — короткое "спокойной ночи", чуть сдержанная улыбка, ровная спина — он не позволил уйти.
— Сара, — обронил Сэм, перехватывая её за руку. - Хватит. Я всё вижу.
— Пусти. Я правда устала.
— Нет, — он крепче сжал её запястье. — Ты не заболела. Ты закрылась. Потому что видела?
— Удачи тебе с Мэри, — бросила она с нежной улыбкой, склонив голову набок.
— Не смей так говорить, — Сэм резко притянул её ближе. — Не делай вид, что тебе всё равно. - Сара пыталась отстраниться, но он продолжал. — Моя муза видит, но не замечает. Моя муза вряд ли отличит испанский от итальянского, но этим гордится. Моя муза целует иконы с красной помадой на губах. Моя муза матам предпочитает взгляды. Моя муза видит главного своего соперника в отражении, поэтому бьёт зеркала, пытаясь не винить себя за неидеальность.
Он говорил это, глядя ей в глаза, слишком близко, слишком честно. Слова шли от самого сердца, как мольба или обет. И в этих словах был весь Сэм, тот, что влюблялся в неё годами, через чужие отношения, через отстранённость и боль, через Джона, больницы, исчезновения и возвращения.
— Я не знаю, как тебя отпустить, — прошептал он и медленно подался вперёд, на этот раз не с вопросом, а с чувством, как будто поцелуй мог бы дать ответ, подтвердить всё и поставить точку. Но в последний момент Сара отстранилась.
— У меня муж. И сын.
Сэм слабо улыбнулся, в его глазах что-то погасло, ушло внутрь, как лампа, у которой потухло пламя.
— А у меня... кажется, девушка.
Жгучее, режущее молчание. Тот случай, когда слова это ножи, а молчание, как соль на рану. Сара кивнула, подняла на него глаза:
— Тогда... удачи. Вам обоим.
И теперь она ушла по-настоящему. Не по-французски. Не по-английски.