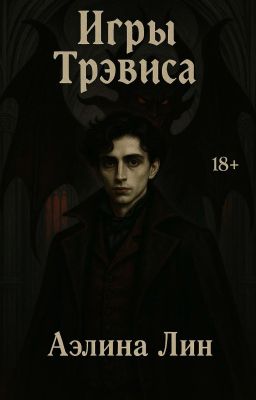Глава 8. Трэвис
Трэвис сидел один в своей комнате, затянутой плотной тенью. Окна были закрыты тяжелыми шторами, и только тусклый свет лампы бросал блики на хаос, царивший вокруг: разбросанные полотна, запачканные краской тряпки, переполненные мусором чашки. Воздух был пропитан запахом растворителя, плесени и чего-то невыносимо личного — будто сама боль впиталась в стены.
Он сидел, скрюченный на старом кресле, и слушал. Голоса вновь пришли. Они несли с собой обещания вдохновения и одновременно раздирали его изнутри. Один насмешливо фыркал, другой нашёптывал фразы — каждая из них будто заглядывала в самые мрачные уголки его души.
— Ты опять здесь, — устало прошептал Трэвис, глядя в темноту. — Что у вас для меня сегодня? Боль? Откровение?
Голоса не ответили. Они просто были. Их присутствие успокаивало и пугало одновременно. Он знал, что снова напишет, снова будет творить — только через страдание. Он ждал этого. Жаждал.
Но этой ночью в комнате появился кто-то... другой.
Темнота сгустилась у дальнего угла, где стоял нетронутый холст. Из неё как будто вытекал холод. И вдруг — голос. Низкий, глухой, будто скребущийся по полу когтями:
— Т-р-э-в-и-с...
Трэвис замер. Его руки сжались в кулаки, дыхание стало прерывистым.
— Кто здесь?.. — спросил он с дрожью, поднявшись с кресла.
Ответ прозвучал не как голос — как сама суть ночи заговорила:
— Я видел, как ты страдал, — прошептал дьявол, его слова медленно прокатывались по комнате. — Я наблюдал за твоими муками. Я могу освободить тебя... Положить конец этой боли. И вдохнуть жизнь в твоё искусство. Твои портреты будут говорить. Смеяться. Плакать. Жить.
Трэвис шагнул к столу. Его ноги будто вросли в пол, но желание — старое, изможденное, безумное — вело его. На столе лежал пожелтевший лист бумаги. Бумага, от которой исходило едва различимое зловоние — смесь сырости, старой крови и чернильной пыли.
— Взамен... — продолжал демон, — ты отдашь мне то, что питает твоё искусство. Себя.
Трэвис дрожал. Его губы шептали без звука. Он провёл пальцами по тексту. Слова на бумаге пульсировали, будто дышали. Он не дочитал. Он не хотел знать цену. Он уже знал её.
Резкая боль прорезала руку. Рана открылась сама собой, как будто кто-то аккуратно, почти с лаской, провёл лезвием. Кровь капнула на лист. Чернила вспыхнули.
— Я… согласен, — прохрипел он, глаза его затуманились, и тело стало слабеть.
В момент, когда последняя капля упала на бумагу, из всех углов комнаты вырвался ядовито-зелёный свет. Он заполнил всё пространство, ослепляя и жгуче проникая под кожу. Картины на стенах зашевелились, их лица начали кричать.
А потом — тишина. Мгновенная. Безжизненная.
Трэвис рухнул на пол. Его тело обмякло, губы застыли в странной полуулыбке. Искусство получило душу. А художник исчез.
Время прошло. Замок опустел. Слуги уехали, один за другим, увозя с собой ночные кошмары и молчаливые обещания не возвращаться. Их глаза — тусклые, уставшие — больше не могли смотреть на картины.
Но один человек остался. Купер.
Он не мог забыть. Трэвис был не просто его господином. Он был смыслом. Он был причиной.
Купер сидел в подвале, где холод обнимал кости, а камни шептали. В руках он держал старую цепь и крюк.
— Прости... — прошептал он в темноту. — Я должен был остановить тебя. Должен был понять...
На стене висела старая картина Трэвиса. Глаза на ней были живыми. Смотрели прямо на него.
Словно в знак преданности, Купер накинул цепь на крюк. Его последний жест — не из страха, а из любви. Из вечной, искалеченной преданности художнику, потерявшему себя в искусстве.