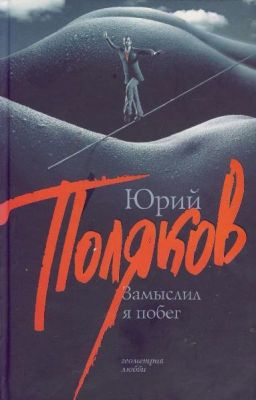16-22
За воспоминаниями эскейпер сам не заметил, как набил баул одеждой. Сумка стояла посреди комнаты, раздувшаяся и накренившаяся по причине отсутствия одного колеса. Прав был Гоша: колеса в бурном челночном деле долго не держатся.
«Как же я такой таскал?» — изумился Башмаков, еле отрывая баул от пола.
И вдруг его осенило, да так внезапно, что даже мошки в глазах замелькали: «А если Вета просто передумала? Ведь папаша честно предупредил: поматросит и бросит... Значит, все-таки „елка"?..»
Пребывая в состоянии лежачей забастовки против подлости бытия, Олег Трудович не только хлебал пиво и размышлял о зависимости женского характера от формы бюста, он еще на основании личного опыта изобрел собственную классификацию женщин. Весь прекрасный пол вдумчивый Башмаков подразделил на пять типов:
женщина-«кошка»,
женщина-«вагоновожатая»,
женщина-«капкан»,
женщина-«елка»,
женщина-«кроссворд».
Когда отношения с Ветой зашли уже далеко, эскейпер попытался классифицировать свою юную любовницу согласно разработанной им системе. Но так и не смог — запутался. У Веты имелись черты и «капкана», и «елки», и «кроссворда». Молода еще, не затвердела... Хотя шалопутная Оксана, например, сосвежу была уже очевидной «кошкой». И Катя «вагоновожатой» стала очень рано, очевидно, из-за профессии. А Принцесса, наверное, родилась «елкой». Зато Нина Андреевна превратилась в «капкан» не сразу, далеко не сразу. Что же касается «кроссворда», то любая женщина старается прикинуться «кроссвордом», но в чистом и совершенном виде Олег Трудович столкнулся с этим дамским типом лишь однажды — на общесоюзной научно-практической конференции «Химия и космос» в Ленинграде.
На пленарном заседании Башмаков уселся рядом с незнакомой дамой — неброской брюнеткой лет тридцати пяти, одетой в темно-красный с люрексом финский костюм. Костюм-то и привлек внимание Олега Трудовича: точно такой же, но только синий был у Кати, она надевала его обычно, когда ехала на совещание в роно. Изучающие взгляды, брошенные в ее сторону, незнакомка явно истолковала по-своему и начала исподтишка изучать соседа.
Башмаков уже унял радость от нежданной встречи со знакомым фасоном и попытался вникнуть в слова основного докладчика, как вдруг от соседки повеяло знакомыми духами «Быть может...», теми самыми, какими обычно пользовалась Нина Андреевна. Олег Трудович даже вздрогнул от совпадения, вздрогнул так резко, что задел плечом брюнетку.
— Извините! — шепнул он.
— Все в порядке, — отозвалась она и поежилась, как от озноба.
Ничего, конечно, мистическою в этих совпадениях не было: советские времена не баловали многообразием запахов и разнофасоньем. В вагоне метро можно было встретить сразу полдюжины дам, обрызганных одними и теми же духами и одетых в один и тот же кримплен... Как это бесило! А теперь из джунглевой чащи капиталистического изобилия та, прежняя скудость иногда кажется трогательным нестяжательством, сближавшим и даже роднившим людей.
Однажды Катя через родителя, служившего в торговле, достала мужу ондатровую шапку. Когда Башмаков надел ее вместо заношенного до неприличия китайского кролика и вышел на улицу, он почувствовал страшную неловкость перед своими торопившимися на работу кроликовыми собратьями, которых так вот подло предал. Теперь даже смешно вспоминать, что Кунцево, где стоит несколько псковских домов, с завистливым презрением именовали «ондатровой деревней».
— Простите, какой он имел в виду Калининград? — шепотом спросила соседка, склоняясь к Башмакову и давая возможность глубже вдохнуть незабываемый аромат духов «Быть может...».
А встреча эта случилась в ту пору, когда Олег Трудович страшно поссорился с Ниной Андреевной из-за истории с абортом, поссорился, казалось, навсегда. Он вспоминал бурные «поливы цветов» и тяжко вздыхал о невозвратном. Вдохнул он и на этот раз. Соседка вздох оценила — и ее глаза подернулись бархатным туманом. За обедом в ресторане, арендованном организаторами конференции под комплексное питание, она уже целенаправленно села рядом с Башмаковым.
— Вы поедете на экскурсию в Эрмитаж? — Дама решительно пошла на знакомство первой.
— Поеду...
В автобусе они снова оказались рядом. Башмаков, решив, что пришло время знакомиться, представился, предусмотрительно опустив отчество, и поинтересовался, как зовут даму.
— Догадайтесь! — обольстительно улыбнулась она.
Всю дорогу до Эрмитажа Башмаков извергал на нее потоки женских имен, а она лишь заливисто хохотала при каждой новой ошибке и мотала головой.
— Мария?
— Нет! Ха-ха-ха...
— Надежда?
— Нет! Ха-ха-ха...
— Нина?
— Нет! Ха-ха-ха...
— Сдаетесь?
— Сдаюсь.
— Капитолина.
— Редкое имя.
— Очень. А теперь догадайтесь, откуда я приехала?
И Башмаков, которому было, в сущности, наплевать, откуда приехала эта загадочная Капитолина, начал мучительно соображать, где же на необъятных просторах говорят с этой странной щебечущей интонацией. Он даже толком не посмотрел Эрмитаж, повторяя различные географические названия, застрявшие в голове со школы или услышанные в популярной в те годы географической радиопередаче про Захара Загадкина.
— Мелитополь?
— Нет. Ха-ха-ха!
— Краснодар?
— Нет. Ха-ха-ха!
— Ставрополь?
— Нет. Ха-ха-ха!
Наконец он сдался, и выяснилось, что Капитолина приехала на конференцию из Тирасполя. Олег Трудович рад был уже свинтить от новой знакомой, тем более что среди участниц заметил несколько приятных и призывно скучающих научных дам, да не тут-то было. Весь ужин под аккомпанемент «Нет. Ха-ха-ха!» он угадывал тему ее диссертации, потом породу ее собаки. После ужина для научно-технической интеллигенции устроили танцы, и Капитолина прочно повисла на Башмакове. Шаркая по паркету с этой хохочущей ношей, Олег Трудович угадывал теперь, какой цвет больше всего ей нравится, как зовут ее любимого актера... Оказалось, Олег Видов...
— А про мое любимое мужское имя я спрашивать не буду. Ты сразу догадаешься! — многозначительно сообщила она.
Башмаков с удивлением заметил, что они уже на «ты», а ее головка доверчиво лежит на его плече. В перерыве Олега Трудовича отозвал в сторону сосед по номеру, здоровенный мужик с Урала, и сообщил, что едет к родственникам в Сестрорецк и вернется только к утреннему заседанию. Уходя, он поощрительно подмигнул.
После танцев, как и следовало ожидать, общение было перенесено в номер. И вот когда Башмаков, вознаграждая себя за бесконечное отгадывание, добрался наконец до большой и мягкой Капитолининой груди, она вдруг спросила:
— Отгадай, сколько у меня детей?
— Двое!
— Нет. Ха-ха-ха!
И уже в самый сокровенный момент, когда он, сломив короткое смешливое сопротивление, ритмично осуществлял супружескую измену, она приникла к его уху горячими губами и, прерывисто дыша, спросила:
— Отгадай, сколько у меня было мужчин?
Именно в этот момент у Олега Трудовича возникло странное ощущение, что ему удалось совместить две вещи несовместные — разгадывание кроссворда и занятие любовью.
Проснулся Башмаков один — развороченная постель остро пахла духами «Быть может...». Тело, от новизны изрядно перенапрягшееся, поламывало.
Завтрак уже кончился. Напившись остывшего чаю, Олег Трудович поспешил в зал заседаний и обнаружил Капитолину на трибуне. Она была сдержанна и серьезна, а ее доклад — на удивление толков. Потом ей задавали вопросы, и из ответов Башмаков выяснил, что его смешливая подружка руководит довольно крупным производством. Сойдя со сцены, Капитолина села рядом с ним и тихо спросила:
— Догадайся, о чем я думала, когда читала доклад?
Башмаков, мудро усмехнувшись, шепнул ей на ухо свое предположение.
— Да! Ха-ха-ха... Как ты догадался?
Расставаясь, Олег Трудович дал ей свой рабочий телефон и взял обещание, что, если будет в Москве, она обязательно позвонит. И она позвонила где-то через полгода:
— Алло! Это — я...
— Кто? — не сообразил Башмаков, замотанный годовым отчетом.
— Догадайся?!
Он, конечно, догадался, но от встречи постарался уклониться. Только что состоялось примирение с Ниной Андреевной, возобновились «поливы цветов», ему был никто пока не нужен, да и не хотелось напрягаться, отгадывая бесконечные Капитолинины загадки.
Впрочем, женщина-кроссворд утомительна, но неопасна. В отличие от женщины-елки. Эта — страшное дело! Женщины-елки, особенно после того, что Принцесса сотворила с Джедаем, вызывали у Олега Трудовича ненависть. Стоит, понимаешь ли, такая разряженная елка посередке — и все мужики должны водить вокруг нее хороводы, а самый-самый в красном колпаке обязан стоять под ветками наготове с мешком, полным подарков. И если в мешке подарков, не дай Бог, маловато, то красный колпак отбирается, несчастный гонится прочь, а его место под ветками занимает другой — с мешком побольше. Ему-то и вручается переходящий красный колпак.
Бедный Рыцарь Джедай совсем ошалел и засуетился, видя, как непоправимо пустеет его мешок с подарками и, следовательно, он может лишиться переходящего красного колпака. А Принцесса между тем выпорхнула из блочного бирюлевского замка на простор полей, устроилась в турфирму «Калипсо» и самолично убедилась в том, что времена резко изменились: вокруг просто полным-полно мужиков, не знающих, куда девать свои огромные, размером вот с этот польский баул, мешки с подарками. Каракозин страшно занервничал и совершал одну глупость за другой. Он поссорился с привередливым заказчиком и ударом ноги вышиб железную дверь, которую только-только сам же старательно установил. Из фирмы «Сезам» его выгнали. Джедай начал метаться в поисках денег, вспомнил шабашные времена и устроился каменщиком на строительство особняка где-то на Успенском шоссе. Через какое-то время он с помощью нехитрых арифметических действий уличил подрядчика в утаивании денег от рабочих, набил ему морду и снова оказался без работы. Тогда, учитывая свою склонность к силовым решениям жизненных осложнений, Каракозин поступил вышибалой в казино «Арлекино». И поначалу все шло прекрасно. Но однажды он сгреб какого-то мозгляка. Тот так напился, что мог лишь выть по-волчьи да еще кусать проходящих мимо дам за ягодицы. Джедай отвел его в уютное место и прицепил наручниками к батарее парового отопления. Как только мозгляк протрезвел настолько, что смог связно выражать мысли, он первым делом назвал место своей работы — пресс-центр Администрации Президента. Каракозина вышибли...
Тут-то Башмаков и предложил ему за компанию отправиться в Польшу. И Джедай не только согласился, надеясь радикально пополнить мешок с подарками, но и развил такую бурную деятельность, что Олег Трудович почувствовал себя птахой, залетевшей по собственной дури в аэродинамическую трубу. На каракозинской «божьей коровке» они метались по Москве, скупая все, что могло заинтересовать взыскательного польского потребителя: пластмассовые цветы, градусники, детские игрушки, водку и, конечно, американские сигареты, стоившие во внезапно обнищавшей Москве дешевле, чем в благополучной Варшаве.
Потом все это тщательно упаковывали, прикрывая запретные сигареты и водку разными синтетическими невинностями. Казалось, Каракозин всю жизнь занимался именно этим. Тогда-то он и смастерил для себя и Башмакова специальные брезентовые баулы-рюкзаки с двойным дном и съемными колесами.
— Если наладить выпуск таких баулов, — утверждал Рыцарь Джедай, — то, учитывая всенародный размах челночества, можно озолотиться! Хватит даже на спонсирование отечественной космонавтики!
— Ты сначала так съезди, чтоб тебе самому хватило! — хмуро заметил Гоша, которого раздражала жизнерадостная ураганность Каракозина. — А колеса тебе во время посадки отломают...
Гоша оказался прав. Колесо отлетело и пропало во время самой первой поездки.
Белорусский вокзал, куда они приехали на «божьей коровке», набитой тюками и баулами, напоминал зону срочной эвакуации: сотни людей несли, тащили, волокли, катили, перли, кантовали, толкали, пихали мешки, коробки, баулы, тележки, рюкзаки, сумки, рулоны и много еще разного всякого. «Челноки» толкались, переругивались, и, хотя у каждого был не только билет, но и загранпаспорт, все так торопились к поезду, будто он был самым последним, спасительным, а опоздавших ждала лютая смерть. У одного мужика лопнул мешок — и оттуда посыпались сотни маленьких пластмассовых Чебурашек вперемешку с крокодилами Генами.
— А это для чего? — спросил недовольный Гоша, когда Каракозин вынул из багажника «Победы» гитару с автографом барда Окоемова.
— Для души! — весело ответил Джедай.
— «Для души»... Машину-то где оставишь?
— В переулке.
— Смотри, сопрут! — предупредил Гоша: после кодирования он стал очень подозрительным.
— Сядут за кражу антиквариата! — парировал Джедай.
— Может, возьмем носильщика? — предложил Башмаков, кивнув на огромные сумки.
— Сами дотащим! — отмел Гоша: после кодирования он стал очень скупым.
Когда, обливаясь потом и не чувствуя рук, они доперли багаж до платформы, штурм поезда был в самом разгаре. Вещи затаскивались через двери, впихивались в окна. Со всех сторон доносилась такая глубинная и богатая матерщина, что Башмаков сразу догадался: прозаики новой волны изучают жизнь исключительно на вокзалах, во время посадки на поезд.
— Ведь и не сядем... Четыре минуты осталось! — несмотря на свой опыт, занервничал Гоша: после кодирования он стал тревожно-мнительным.
Рыцарь Джедай с полководческим спокойствием осмотрел весь этот хаос, решительно протиснулся к вагонной двери и стряхнул с подножки мужика, закатывавшего, точно жук-навозник, огромный мешок. Тот глянул на Джедая белыми от ярости глазами.
— С гитарой пропустите! — вежливо попросил Каракозин.
— Ты чево-о? — закоричневел мужик.
— С гитарой, говорю... — пояснил Каракозин и кивнул на инструмент. — Вещь дорогая! С автографом. Пропустите, пожалуйста!
— Ты чево-о-о?
— А ты чево-о-о-о? — визгливо вдруг вмешалась проводница. — Не видишь, что ли: с гитарой человек? Пропусти!
Через две минуты вместе со своим нешуточным багажом они уже сидели в купе, а народ все еще продолжал штурмовать поезд. Гоша огорченно оглядывал измазанный при посадке рукав куртки. Каракозин потренькивал на гитаре. Четвертым пассажиром в купе оказался интеллигентный гражданин в толстых очках. Он объявился, когда поезд уже тронулся и платформа тихо отчалила. С его лица еще не сошел экзистенциальный ужас человека опаздывающего.
— Я, кажется, с вами, — сообщил он и глянул на компаньонов далекими, печальными глазами.
— Билет покажите! — потребовал Гоша.
— Вот, извольте... А сумочку можно куда-нибудь поставить?
— Каждый пассажир имеет право быть везомым и везти ручную кладь, — наставительно подтвердил Каракозин.
Ручная кладь представляла собой набитый товаром брезентовый чехол, в котором туристы перевозят разобранные байдарки. В верхнюю багажную нишу запихивали его всем миром.
— Вот так и пирамиды строили! — предположил, отдуваясь, Башмаков.
— В следующий раз дели на две сумки! — хмуро присоветовал Гоша, снова испачкавший только что отчищенный рукав.
— Извините, — смутился очкарик, забился в уголок купе, достал из наплечной сумки книгу под названием «Перипатетики» и зачитался.
Убегающий заоконный — пока еще московский — пейзаж был представлен в основном личными гаражами, слепленными из самых порой неожиданных материалов. Один, к примеру, был сооружен из больших синих дорожных щитов-указателей и весь пестрел надписями вроде:
КУБИНКА — 18 КМ
АЛЕКСАНДРОВ — 74 КМ
ТУЛА — 128 КМ
СИМФЕРОПОЛЬ — 1089 КМ
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
— Я где-то читал, — заметил Каракозин, глядя в окно, — что в России птицы, живущие возле прядильных фабрик, вьют гнезда из разноцветного синтетического волокна. Очень красиво получается. Иностранцы за безумные деньги покупают!
— Зачем? — удивился Гоша. — У них там такие же птицы и такие же фабрики.
— Заграничные птицы давно обуржуазились и не понимают прекрасного! — тонко поддел Джедай.
— А я читал, — вмешался Башмаков, — что один человек, по фамилии Зайцух, построил себе дачу из пустых бутылок.
— Простите, а он случайно не родственник писателю Зайцуху? — деликатно проник в разговор очкарик.
— Не исключено, — кивнул Гоша, давно уже не читавший ничего, кроме секретных инструкций по установке «жучков» и борьбе с ними. — Одни из пустых бутылок городят, другие — из пустых слов. Родственнички...
— А не выпить ли нам по этому поводу? — предложил Каракозин.
Так и сделали. Когда доставали снедь, Башмаков подумал: «а ведь по тому, как собран человек в дорогу, можно судить о его семейном положении и даже о качестве семейной жизни!» Очкарик достал завернутые в фольгу бутерброды, овощи, помещенные в специальные, затянутые пленкой пластмассовые корытца. Майонезная банка с кусочками селедочки, залитыми маслом и пересыпанными мелко нарезанным луком, окончательно подтверждала: очкарик счастлив в браке. Сам Башмаков и его шурин были собраны, конечно, не так виртуозно, но тоже вполне прилично. Правда, Татьяна положила Гоше в целлофановый пакет побольше фруктов и овощей, но зато Катя снарядила мужа куском кекса, испеченного тещей. А вот Каракозин выложил на стол всего лишь обрубок докторской колбасы, половинку бородинского хлеба и выставил две бутылки водки. Это было явное преддверие семейной катастрофы.
Джедай, умело совпадая с покачиванием вагона, разлил водку в три стакана, которые перед этим с завидной легкостью получил у проводницы. Гоша смотрел на приготовления так, как парализованный центрфорвард смотрит на игру своих недавних одноклубников. А тут еще очкарик невольно подсуропил, заметив, что количество стаканов в некотором смысле не соответствует числу соискателей.
— Ничего-ничего, — успокоил Джедай. — Просто человек на заслуженном отдыхе.
Гоша с ненавистью посмотрел на Каракозина, потом с укоризной на Башмакова, а затем, чтобы не так остро завидовать чужому счастью, достал калькулятор, списки товаров, залез на верхнюю полку и углубился в расчеты.
— За что, товарищи, хотелось бы выпить... — подняв стакан, начал Джедай.
— Вы меня, конечно, извините, — мягко прервал его очкарик. — Но я не очень люблю слово «товарищ».
— Но мы же и не господа! — Башмаков даже осерчал на это занудство, оттягивающее миг счастливого отстранения от суровой действительности.
— Как же к вам прикажете обращаться? — спросил Джедай.
— Мне кажется, самое лучшее обращение, к сожалению, забытое, — это «сударь»... — предложил очкарик.
— А еще лучше — «сэр»! — рыкнул сверху Гоша.
— Дорогой сударь... Простите, не знаю вашего имени-отчества... — обратился к очкарику Джедай.
— Юрий Арсеньевич.
— Так вот, дорогой Юрий Арсеньевич, я слово «товарищ» люблю не больше вашего. Кроме того, мы с Олегом Термидоровичем, — он кивнул на потупившегося от приступа смеха Башмакова, — немало постарались, чтобы эту «товарищескую» власть скопытить. Даже медали за «Белый дом» имеем. Но в данном конкретном случае никакие мы не господа, не судари, а тем более не сэры. Мы самые настоящие товарищи, ибо объединяет нас самое дорогое, что у нас есть в настоящий момент, — наш товар. Вот я, товар-рищи, и предлагаю выпить за ум, честь и совесть нашей эпохи — за конъюнктуру рынка!
— Никогда не думал о такой этимологии, — пожал плечами Юрий Арсеньевич.
Сверху донеслось невнятное бормотание Гоши, подозрительно напоминающее неприличный синоним к слову «пустобол».
Водка сняла предпосадочную напряженность, тепло затуманила душу и сблизила.
— Что везем? — дружелюбно спросил Джедай.
— Сковородки из легких сплавов и часы ручные «Слава». Календарь, автоподзавод, на 24 камнях, — отрапортовал очкарик с готовностью.
— Неожиданное решение. Что скажет главный эксперт? — Каракозин посмотрел на Гошу.
Тот свесился со своей верхней полки и молча глянул на Юрия Арсеньевича так, словно попутчик в этот момент закусывал не селедочкой, а собственными экскрементами.
— А в чем, собственно, дело? — заволновался очкарик.
— Насчет сковородок не знаю — не возил. А вот часы в прошлый раз я дешевле своей цены сдал, чтоб назад не переть, — объяснил опытный Гоша.
— Там наших часов столько, что уже и собаки в «котлах» ходят. Сколько везете?
— Сто, — упавшим голосом доложил Юрий Арсеньевич.
— Сами додумались или кто посоветовал?
— Посоветовали. А что же тогда идет?
— Фотоаппараты, разная оптика, медные кофеварки, цветы, сигареты, конечно...
— Цветы... Какие цветы? Живые?
— Мертвые, — обидно гоготнул Гоша.
— Что же делать?
— Теперь уже ничего...
— Да-а... Прав Хайдеггер... Проклятый «Dasein»! — вздохнул Юрий Арсеньевич.
— А Хайдеггеру вашему передайте, что он козел и дизайн тут ни при чем, — разъяснил Гоша. — Дело в конъюнктуре.
— Не волнуйтесь! — утешил расстроившегося очкарика Джедай. — Я предлагаю второй тост. И опять за конъюнктуру рынка, ибо все мы из нее вышли и все в нее уйдем! Она мудра и справедлива, ведь, пока мы едем, конъюнктура рынка может и поменяться. Например, Пьер Карден выпустит на подиум манекенщицу с часами на обеих руках. И спрос страшно подскочит...
Гоша, после кодирования совершенно утративший чувство юмора, от возмущения повернулся к стенке. Выпили еще и некоторое время молча смотрели в окно: пошли уже подмосковные леса и садовые домики, тоже построенные порой черт знает из чего. Но иногда мелькали замки из красного кирпича.
— Надо же, прямо поздняя готика! — покачал головой Юрий Арсеньевич. — Интересно, какие привидения будут водиться в этих замках?
— Стенающие души обманутых вкладчиков и блюющие тени отравленных поддельной водкой, — мгновенно ответил Каракозин.
Башмаков предложил по этому поводу выпить.
— А кто такие перипатетики? — спросил он через некоторое время, кивнув на книжку, лежавшую обложкой вверх.
— Это ученики Аристотеля — Дикеарх, Стратон, Эвдем, Теофраст, — ответил очкарик.
— Попрошу не выражаться, — пошутил Джедай. — Вы философ?
— Философ.
— А по профессии?
— По профессии.
— Удивительное дело! — восхитился Каракозин. — Первый раз в жизни пью с философом по профессии.
— Аристотель говорил, что философия начинается с удивления. Я профессор. Преподавал философию в Темучинском пединституте.
— А это где?
— Темучин? Это бывший Степногорск, столица Каралукской республики.
— А что, теперь есть и такая?
— Есть, — сокрушенно вздохнул философ.
— Здорово! — обрадовался Каракозин.
— Вы полагаете? — Юрий Арсеньевич поднял на него грустные глаза.
— Конечно. По семейному преданию, один из моих предков происходит из Каралукских степей.
— Там полупустыня, — поправил философ.
— А как же вы... здесь... Ну, вы меня понимаете? — спросил деликатный Башмаков.
— Это долгий и грустный рассказ.
— А мы никуда не торопимся.
Свою историю профессор рассказывал долго и подробно — почти до Смоленска, где был вынужден прерваться и сбегать в привокзальную палатку за выпивкой, потому что на сухую повествовать обо всем, что с ним случилось, не мог.
...До революции на том месте, где сейчас столица суверенной Каралукской республики, был небольшой казачий поселок Сторожевой. Кочевавшие окрест каралуки изредка наведывались туда, так сказать, в целях натурального обмена. В конце 20-х поблизости от Лассаля (так переименовали поселок после революции, в честь знаменитого революционера) нашли ценнейшие полезные ископаемые и вскоре начали возводить единственный в своем роде химический комбинат. Строителей понаехало со всей страны — тысячи, и поселок очень скоро превратился в город. Задымили первые трубы. Каралуки иной раз подкочевывали сюда, чтобы с выгодой продать строителям пастушеские припасы. Занимались они в основном кочевым животноводством и любили рассказывать за чашей пенного кумыса легенду о том, как Чингисхан, стоя в здешней степи лагерем, чрезвычайно хвалил качество местного кумыса и девушек, трепетных, как юные верблюдицы. Каралуки были поголовно безграмотные по той простой причине, что своего алфавита они так и не завели. Во время гражданской войны английский резидент майор Пампкин составил, правда, на основе латиницы какой-то алфавитишко, но тут пришел Фрунзе со своими красными дивизиями, Пампкина перебросили в Китай — на том дело и кончилось. Так и остались каралуки до поры до времени неграмотными скотоводами, и комбинат называли промеж себя «юрта шайтана».
Во время войны в Мехлис (так к тому времени переименовали город, в честь главного редактора газеты «Правда») эвакуировали оборудование сразу с нескольких взорванных при отступлении химзаводов, сюда же перебросили получивших бронь от фронта специалистов-химиков с семьями. И как-то так само собой получилось, что во всем бескрайнем СССР не осталось больше ни одного завода, производящего селитру, кроме мехлисского. Доложили Сталину. Тот постоял перед картой в задумчивости, пыхнул несколько раз трубкой и молвил:
— Мехлис — столица большой химии! СССР — дружная семья народов. Будущее социализма — это кооперация и координация! А что там каралуки?
— Кочуют, Иосиф Виссарионович!
— Хватит уж, покочевали. Учить их будем, приобщать к социалистической культуре! Вот только Гитлеру шею свернем...
Так возник гигантский производственный комплекс, а в жизни кочующих каралуков наметились великие перемены. Дымил заводище. Народ прибывал и прибывал со всех концов страны. После Победы вокруг «юрты шайтана» понастроили больниц, школ, домов культуры, детских садов. В это же время первые каралуки вернулись из Москвы в шляпах и пиджаках, к широким лацканам которых были привинчены синие вузовские ромбики. А в начале 60-х в Степногорске (так переименовали город после разоблачения культа личности) открыли педагогический институт. Юрия Арсеньевича, молодого выпускника философского факультета МГУ, вызвали в райком и торжественно вручили комсомольскую путевку: мол, надо поднимать братьев наших меньших на высоты современного знания! Наука в республике только зачиналась, специалистов было мало, и Юрия Арсеньевича включили в группу филологов, которым было поручено разработать каралукский алфавит. Конечно, главная работа легла на головы столичных лингвистов и представителей нарождающейся местной интеллигенции, но как-то так вышло, что именно Юрий Арсеньевич придумал специальную букву для обозначения уникального каралукского звука, напоминающего тот, который издает европеец, прокашливая от мокроты горло.
— Георгий Петрович, можно на секундочку вашу авторучку? — попросил философ.
— На!
Юрий Арсеньевич взял ручку и на салфетке старательно изобразил эту придуманную им букву:
Учиться, правда, каралукская молодежь особенно не хотела, предпочитая вольное кочевье, и Юрий Арсеньевич вместе с представителями нарождающейся национальной интеллигенции ездил по стойбищам и уговаривал родителей отдавать детей в интернаты. В одном месте им сказали, что есть очень толковый мальчик, он выучился говорить по-русски, слушая радио. Приехали забирать и не могли найти — родители спрятали ребенка под ворохом шкур. Наконец нашли... Мальчик действительно оказался смышленый. Звали его довольно замысловато, и по-русски это звучало примерно так: Гарцующий На Белой Кобыле.
Двадцати шести лет от роду Юрий Арсеньевич возглавил кафедру мировой философии, где и был единственным сотрудником. Вскоре он, благодаря рейду советских танков в Прагу, женился. Как известно, в 68-м провалился заговор мирового империализма против социалистического лагеря. Для разъяснения чехословацких событий при Каралукском обкоме партии была организована специальная лекторская группа, куда, конечно, включили и единственного на всю республику философа. Читать лекции каралукам было одно удовольствие: они вообще не знали, где находится Чехословакия, а при слове «Прага» начинали хихикать, потому что почти такое же слово, только с придуманной буквой вместо «г», означало у них половой орган нерожавшей женщины. А вот среди русских приходилось потрудней: многие знали, где находится Чехословакия, но почти все путали Гусака с Гереком. И уж совсем тяжело пришлось Юрию Арсеньевичу, когда он выступал с лекцией перед персоналом городской больницы. Врачи были политически грамотны и хотя благоразумно не осуждали вторжение в Чехословакию, но в душе считали, что лучше было увеличить количество койко-мест и улучшить питание больных, чем тратить народные деньги на танковые рейды через Европу. Особенно его достала молоденькая врач-физиотерапевт. Судя по ярко горящим глазам и пылающим от волнения щекам, она только-только приехала по распределению. Девушка попросила лектора поподробнее рассказать о преступных планах главарей так называемой «Пражской весны», и особенно об их подлом проекте «социализма с человеческим лицом». Но вот беда, все подробности чехословацких событий Юрий Арсеньевич узнавал из тех же самых газет, что и его слушатели. По сути, добавить он ничего не мог.
— Представляете, ситуация! — философ выпил водки и обвел глазами слушателей.
— М-да, а из зала кричат: «Давай подробности!» — кивнул Джедай.
— И что, вы думаете, я сделал?
— Закрыл собрание! — буркнул сверху Гоша.
— Не-ет! Так нельзя... Но когда нашу лекторскую группу инструктировали в обкоме, то предупредили: если будут каверзные и с антисоветским душком вопросы, предлагать подойти с этими самыми вопросами после лекции. Фамилии же записать...
— Неужели записали? — обмер Башмаков.
— Чего записывать-то? — хохотнул Гоша. — Там небось одних кураторов ползала было.
— Ладно, не мешайте человеку рассказывать. Продолжайте, Юрий Арсеньевич!
...Итак, лектор смерил девушку внимательным взглядом и спросил:
— Простите, как вас зовут?
— Галина Тарасовна.
— А фамилия?
— Пилипенко.
— Галина Тарасовна, ваш вопрос, наверное, всем здесь собравшимся не очень интересен...
— Совсем даже неинтересен! — подтвердил главврач, сидевший вместе с лектором на сцене.
— Вот видите. Так что подойдите ко мне после лекции, я вам все разъясню в индивидуальном порядке.
— А ко мне подойдите завтра после конференции, — добавил главврач. — Я вам тоже кое-что объясню.
Галина Тарасовна подошла. Они долго гуляли по прибольничному саду и говорили обо всем, кроме Чехословакии. И танки на улицах Праги, и самосожжение какого-то студента на Вацлавской площади, и протесты мировой интеллигенции, включая даже такого друга Советского Союза, как Ив Монтан, — все это вдруг показалось Юрию Арсеньевичу чепухой в сравнении с юной смуглянкой, смотревшей на него темными, словно спелые вишни, очами. Выяснилось, что Галина всего год как окончила Киевский мединститут и сама попросилась сюда, в «столицу большой химии». А химия — это наука XXI века. Потом они сели в автобус, доехали до конечной остановки и ушли в степь...
— В полупустыню! — поправил мстительный Джедай.
— Это теперь полупустыня. Тогда была степь, — разъяснил философ.
Свадьбу гуляли в большой столовой педагогического института, а пили в основном настоянный на чабреце медицинский спирт, щедро отпущенный главврачом, очень обрадовавшимся, что история с политической незрелостью его сотрудницы разрешилась столь благополучно.
Сначала устроились в комнате общежития для семейных, а когда родилась дочь Светлана, получили квартиру прямо в центре Степногорска. И все было прекрасно: завод дымил, Юрий Арсеньевич читал студентам историю философии, жена заведовала физиотерапевтическим кабинетом, а дочь росла. Время шло, среди студентов Юрия Арсеньевича и пациентов Галины Тарасовны становилось все больше каралуков, постепенно сменивших халаты на костюмы. Однажды после лекции к Юрию Арсеньевичу подошел стройный студент и спросил:
— Вы меня не узнаете, профессор?
— Нет... Простите!
— Я же Гарцующий На Белой Кобыле! Помните?
— Что вы говорите! Так выросли...
Юноша стал бывать у них дома. И сами не заметили, как Светлана в него влюбилась. А однажды утром в воскресенье раздался звонок, Юрий Арсеньевич открыл дверь и обнаружил на пороге своей квартиры ягненка с шейкой, повязанной алой тряпицей. Прожив здесь столько лет, профессор, конечно, знал, что именно так извещают каралуки родителей невесты о серьезных намерениях своего сына. Свадьбу играли в самом лучшем ресторане города: Юрий Арсеньевич с Галиной Тарасовной были люди не бедные, а отец жениха и вообще оказался пастухом-орденоносцем. И все шло хорошо. Даже замечательно, пока не пришел Горбачев. А ведь как поначалу радовались перестройке! Хочешь на лекции про Ницше говорить — пожалуйста! Хочешь семинар по Кьеркегору вести — обсеминарься! Никто тебя в обком не вызовет, никто на собрании песочить не будет. Свобода! Юрий Арсеньевич решительно вышел из КПСС и вступил в партию кадетов. А его зять тем временем организовывал Каралукский национальный фронт. Фронт, едва образовавшись, тут же провел небольшой, но шумный митинг-голодовку с требованием: «Национальной республике — национального лидера!»
В Москве посовещались, убрали первого секретаря обкома, происходившего из ярославских крестьян, и прислали настоящего природного каралука, родившегося в Москве, окончившего Высшую партшколу и работавшего прежде инструктором отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС. Родители его перебрались в Москву еще перед войной, и по весьма неожиданной причине. В 40-м в столице проводился всесоюзный фестиваль «В братской семье народов», и каждая республика присылала для показа в ЦПКО им. Горького свою семейную пару, одетую в национальные костюмы. Почему каралукская пара по окончании фестиваля не воротилась в родные степи, история умалчивает.
Новый первый секретарь сразу же на собрании степногорской интеллигенции сообщил под гром аплодисментов, что он интернационалист и важнее дружбы народов для него вообще ничего на свете нет. Вскоре русские поисчезали со всех сколько-нибудь приличных должностей. И ректором пединститута, и главврачом больницы стали каралуки. Юрия Арсеньевича не тронули только потому, что его зять был каралук, к тому же из рода Белой Кобылы, к коему, как выяснилось, принадлежал и новый первый секретарь. Но жить становилось все труднее. Выяснилось, что русские ничего, кроме вреда, коренному населению не принесли: во-первых, построили проклятую «юрту шайтана», отравившую пастбища своими ядовитыми дымами, во-вторых, разрушили уникальный образ жизни скотоводов, в-третьих, навязали свой реакционный алфавит вместо прогрессивного алфавита майора Пампкина — и таким подлейшим образом отрезали Каралукскую республику от всего прогрессивного человечества. Более того, собственный зять Юрия Арсеньевича, ставший к тому времени советником первого секретаря (впоследствии первого президента республики), разработал доктрину, согласно которой Каралукское ханство было одним из важнейших улусов Великой Империи Чингизидов, а в настоящее время является единственной ее исторической наследницей. И главная геополитическая миссия каралуков заключается именно в восстановлении империи от Алтая до Кавказа.
Дальше — больше. Оказалось, президент не кто иной, как прямой потомок великого Темучина, женившего своего внука на дочке каралукского хана. Этот исторический факт стал известен буквально на следующий день после разгрома в Москве ГКЧП. И Степногорск стал называться Темучином.
— М-да, — молвил Башмаков, вспомнив ночь, проведенную под «Белым домом».
— Кто бы мог подумать!
— Никто. Каралуки всегда были такие тихие и милые! — согласился Юрий Арсеньевич.
...И вдруг разговаривать по-русски на улицах стало опасно. Закрывались русские школы, пединститут был переименован в Темучинский университет, а все преподавание переведено на каралукский. Юрий Арсеньевич, как и большинство, знал местный язык лишь на бытовом и базарном уровне, поэтому не смог сдать госэкзамен и остался без работы. Без работы осталась и Галина Тарасовна. А тут рухнула последняя надежда — зять бросил Светлану с двумя детьми: иметь русских жен стало неприлично и даже опасно для карьеры.
Некоторое время жили тем, что продавали нажитое — машину, дачку с участком, посуду, ковры, одежду... Потом каралуки стали просто выгонять русских из понравившихся квартир и отбирать имущество. Мужчины, пытавшиеся сопротивляться, бесследно исчезали, а милиция, состоявшая теперь исключительно из лиц кочевой национальности, разводила руками. Химический гигант, гордость пятилеток, продали американцам, концерну «World Synthetic Chemistry», а те его тут же закрыли, чтобы не конкурировал. Тысячи людей остались без работы, причем не только русские, но и каралуки. Пошли грабежи. Не то что в степи погулять — собаку вывести стало опасно. Впрочем, собаки начали исчезать... И вот однажды, открыв утром дверь, Галина Тарасовна с ужасом обнаружила на пороге квартиры дохлую болонку с удавкой на шее. Юрий Арсеньевич достаточно долго жил здесь и знал обычаи. Это означало примерно следующее: убирайтесь прочь с нашей земли, а то и с вами будет то же, что с собакой. Бросив квартиру, мебель и забрав только то, что можно увезти на себе, они бежали в Россию. Сначала жили в доме отдыха «Зеленоградский», среди беженцев. Там оказалось много каралуков. К тому времени в результате свободных выборов под эгидой ООН президентом стал кандидат из рода Гнедой Кобылы, по странному стечению обстоятельств тоже потомок Чингис-хана. Победил он лишь потому, что пообещал снова пустить дым над «юртой шайтана» и перевести алфавит на английский, после чего ожидался большой приток инвестиций. Сторонники прежнего президента пытались с оружием в руках оспорить результаты выборов и были частично перебиты, а частично изгнаны из республики. Однако никакого дыма новый президент не пустил. Зато перешел на Пампкинский алфавит, но инвестиции за этим не последовали, хотя он и получил Нобелевскую премию за неоценимый вклад в мировую культуру. Продав на сто лет вперед все разведанные месторождения тем же американцам, новый президент построил себе в степи огромный дворец с бассейнами и павлинами, вооружил гвардию новейшей техникой и стал тихо править каралуками, постепенно возвращавшимися к своему исконному скотоводчеству. На уик-энд со всей семьей президент отлетал на собственном «Боинге» развеяться в Монако или Испанию. А город Темучин тем временем приходил в упадок. Холодные многоэтажки опустели, на площадях появились юрты, вокруг бродила скотина и щипала травку на газонах. По улицам бегали оборванные, немытые дети. Неожиданно в соседнем доме отдыха, переоборудованном под лагерь беженцев, нашелся бывший муж Светланы. Она, поплакав, его простила: все-таки у детей будет отец. Жизнь постепенно наладилась: Галина Тарасовна устроилась фельдшерицей в сельскую больницу, сняли старенький домик в поселке. Бывший главный технолог химкомбината, торговавший теперь на стадионе в Лужниках колготками, посоветовал Юрию Арсеньевичу и Светлане устроиться реализатором. Устроились. Скопили немного денег и решили расширить бизнес: продавать не чужой товар, а свой, закупленный в Польше...
— Так и живем... — окончил рассказ Юрий Арсеньевич.
— Не хреновее всех живете! — заметил сверху Гоша.
Разволновавшийся философ уткнулся в окно, чтобы скрыть слезы. После Смоленска пошли белорусские болотины и перелески.
— А мы вот на космос работали, — грустно молвил Башмаков. — Я докторскую писал... Как вы думаете, почему это все с нами сделали?
— Потому что расстреливать надо за такие вещи! — гаркнул Гоша.
— Уж больно ты строгий, как я погляжу! — глянул вверх Каракозин.
— А тех, кто с медалями за «Белый дом», я бы вообще на фонарях вешал! Юрий Арсеньевич посмотрел на попутчиков — в его далеких глазах была светлая всепрощающая скорбь.
— Не надо никого вешать! Аристотель говорил, что Бог и природа ничего не создают напрасно. Мы должны были пройти через это. Представьте себе, что наша устоявшаяся, привычная жизнь — муравейник. И вдруг кто-то его разворошил. Что в подобном случае делают муравьи?
— На демонстрацию идут! — предположил с верхней полки Гоша: после кодирования он стал очень язвительным.
— Муравьи на демонстрации не ходят, — совершенно серьезно возразил профессор. — Они спасаются: кто-то спасает иголку, кто-то — личинку, кто-то — запасы корма... А потом через какое-то время муравейник восстанавливается. И становится даже больше, красивее и удобнее, чем прежний. Вспомните, в «Фаусте» есть слова про силу, которая, творя зло, совершает добро...
Постепенно в его голосе появились лекционные интонации.
— А если просто взять и набить морду?! — снова встрял Гоша.
— Кому? — уточнил Юрий Арсеньевич.
— Тому, кто разворошил муравейник!
— Муравей не может набить морду. Он может только попытаться спасти себя и близких.
— И ждать, пока зло обернется добром? — поинтересовался Башмаков.
— А как вы, Юрий Арсеньевич, относитесь к той силе, которая хочет творить добро, а совершает зло? — вдруг спросил Каракозин.
— Простите, а кто вы по специальности?
— Обивщик дверей. Но по призванию я борец за лучшее!
— Борьба за лучшее — понятие очень относительное! — ответил профессор (его голос обрел полноценную академическую снисходительность). — Я уже показал вам, что разрушение — один из способов совершенствования. Так, например, нынешнее могущество Японии — результат ее поражения во Второй мировой войне...
— Выходит, ты за Ельцина? — хмуро спросил Гоша.
— Как человек он мне отвратителен: тупой номенклатурный самодур. Но что ж поделаешь, если история для созидательного разрушения избрала монстра. Иван Грозный и Петр Первый тоже были далеки от идеала...
— А квартирку-то в центре Степногорска вспоминаете? — ехидно поинтересовался Гоша.
— Вспоминаю, конечно. Но давайте взглянем на проблему sub specie aeterni, как говаривал Спиноза.
— Переведите для идиотов, — попросил Каракозин.
— Простите, увлекся. Взглянем на эту ситуацию с точки зрения вечности. Солженицын прав: зачем нам это среднеазиатское подбрюшье? А вот если русские с окраин будут и далее возвращаться на историческую родину, то Россия хотя бы частично восстановит свой разрушенный катаклизмами двадцатого века генофонд... Эта амбивалентность явления, надеюсь, понятна?
— Понятна, — кивнул Гоша. — Нас гребут, а мы крепчаем!
— Подождите, подождите, — вмешался Башмаков. — Значит, я могу убить собственную жену, а если во втором браке у меня родится гениальный ребенок, то с точки зрения истории меня оправдают!
— Ерунду ты какую-то городишь! — заволновался Гоша о судьбе своей сестрички Кати.
— Вы, конечно, привели крайний пример, но, по сути, так оно и есть!
— Это так перипатетики думают или Спиноза? — съехидничал Каракозин, которого профессор-непротивленец начал бесить.
— Нет, это мое мнение.
— Тогда приготовь пятнадцать долларов! — посоветовал Гоша.
— Зачем? — испуганно, вмиг утратив академическую безмятежность, спросил философ.
— Докладываю: в Бресте придут большие злые муравьи. Они тоже восстанавливают свой домик. Им надо заплатить, чтобы они твои часы и сковородки вроде муравьиных яиц не унесли. Ясно?
— Да, конечно... Накладные расходы предусмотрены. Но у меня просьба... Вы за меня... Я не умею, понимаете...
— В лапу, что ли, давать не умеешь? — ухмыльнулся Гоша превосходительно.
— Да.
— Как же ты тогда торговать собираешься?
— Не знаю.
— Давайте выпьем за амбивалентность! — предложил Рыцарь Джедай.
Вскоре Юрий Арсеньевич окончательно захмелел, начал излагать свою теорию геополитического пульсирования нации, но на словах «инфильтрация этногенетического субстрата» уронил голову на столик и захрапел.
В Бресте дверь купе отъехала. На пороге стояла молодящаяся крашеная блондинка в таможенной форме. Она окинула пассажиров рентгеновским взглядом. Но Каракозин, точно не замечая ее, продолжал петь под гитару:
Извилист путь и долог!
Легко ли муравью
Сквозь тысячи иголок
Тащить одну — свою...
Строгая таможенница как-то подобрела и песню дослушала до конца. Джедай отложил инструмент, посмотрел на вошедшую, схватился за сердце и объявил, что всегда мечтал полюбить женщину при исполнении. Таможенница улыбнулась нарисованным ртом и спросила:
— Ничего неположенного не везете?
— Везем, — с готовностью сознался Каракозин.
— Что?
— Стратегические запасы нежности. Разрешите вопрос не по уставу!
— Ну?
— Как вас зовут? Понимаете, я японский шпион. У меня секретное задание: выяснить имена самых красивых женщин в Белоруссии. Если я не выполню задание, мне сделают «кастракири»...
— Что?
— Самая страшная казнь. Хуже, чем харакири, в два раза.
— Ну говоруны мне сегодня попались! — засмеялась женщина и заправила прядь под форменную фуражечку. — Лидия меня зовут.
— Как вино! — мечтательно вздохнул Джедай.
— Как вино, — многообещающе подтвердила она. — А багаж все-таки покажите!
Гоша, изумленно наблюдавший все это с верхней полки, мгновенно спрыгнул вниз и, подхалимски прихихикивая, начал показывать содержимое баулов. Лидия для порядка глянула багаж и лишь покачала головой, обнаружив под пластмассовым цветником промышленные залежи американских сигарет «Атлантис» и бутылки с национальной гордостью великороссов — водкой.
— А этот? — таможенница кивнула на Юрия Арсеньевича, спавшего тем безмятежным алкогольным сном, после которого страшно болит голова и трясутся руки.
— А это профессор. Он книжки везет, — объяснил Джедай и кивнул на багажную нишу, откуда свешивались лямки огромной сумки.
Гоша, успевший вернуться на свою верхнюю полку, сделал Каракозину страшные глаза и даже крутанул пальцем у виска.
— Какие еще книжки? — удивилась таможенница.
— А вот образец! — Джедай взял со столика и протянул ей «Перипатетиков».
— Боже, чем только люди не торгуют! Совсем народ дошел... — не по уставу вздохнула Лидия и, бросив на Рыцаря шальноватый взор, вышла из купе.
Следом за ней Гоша вытолкал и Джедая, предварительно сунув ему в руки сложенные в маленькие квадратики доллары. Тот вернулся минут через десять со следами помады на щеке и молча отдал сдачу.
— Смотри-ка, на пять долларов меньше взяла! — изумился Гоша.
— Любовь с первого взгляда! — поддел Башмаков. — Что же дальше будет?
— Ничего не будет, — вздохнул Каракозин и грустно уставился в окно. Тем временем состав загнали в специальное депо и стали поднимать на домкратах, чтобы заменить колеса.
— А вы знаете, почему у нас железнодорожная колея шире? — спросил Башмаков.
— Кажется, царь Николай Первый так распорядился? — предположил разбуженный философ.
— Совершенно верно. Инженеры его спросили: будем как в европах дорогу строить или шире? А он им и ответил: «На хер шире?» Вот они и сделали почти на девять сантиметров шире...
— Всего-навсего? — удивился Башмаков.
— Я думаю, это просто исторический анекдот, — заметил Юрий Арсеньевич, облизывая пересохшие губы.
— Анекдот не анекдот, а птица-тройка навсегда обречена менять колеса, чтобы въехать в Европу! — Джедай глянул на снующих внизу железнодорожников.
— Пожалуй, — согласился философ. — Чаадаев сказал однажды: «...Мы никогда не будем как они. Наша колея всегда будет шире...»
— И длиннее! — добавил сверху Гоша.
— Разумеется, — подтвердил профессор. — А как вы полагаете, у проводников есть пиво?
— Лучше чайком! — посоветовал Башмаков. — Сидите, я принесу.
Когда он воротился, неся в каждой руке по два подстаканника, спор в купе продолжался.
— А почему именно мы? — возмущался, свесившись с верхней полки Гоша: после кодирования он стал страшно нетерпим к чужим мнениям.
— А почему они? — не соглашался Джедай.
— А почему мы должны делать колею уже?
— А почему они?
— Может, нам еще на ихний алфавит перейти?
— Может, и перейти!
— По сути, — примирительно сказал философ, радостно отхлебнув чайку, — вы сейчас повторяете давний спор славянофилов и западников. Западники, фигурально говоря, считали: хватит играть в особый путь, мы должны сузить колею, чтобы беспрепятственно въезжать в Европу и со временем влиться в мировую цивилизацию! А славянофилы им возражали: нет, широкая колея — наша национально-историческая особенность и менять ничего не нужно, а Европа, если хочет с нами дружить, сама пусть свою колею расширяет... Каждый по-своему прав, а в итоге — тупик!
— Нет, должен быть какой-то выход, — твердо сказал Джедай. — Просто крутой поворот иногда издали кажется тупиком.
— Смотри на своем крутом повороте яйца не потеряй! — пробурчал Гоша, подозрительно принюхиваясь к чаю.
— А нельзя ли так, — предложил Олег Трудович. — Они на четыре с половиной сантиметра свою колею увеличивают, а мы на четыре с половиной убавляем свою.
— Олег Толерантович, тебе надо в Кремле заседать, а не челночить! — захохотал Каракозин.
...Колеса переставили, и они покатили дальше — в Польшу. На смену свеженьким церквушкам, полуразвалившимся деревням, раскисшим грунтовкам и раскидистым колхозным полям явились костлявые костелы, глянцевые после дождя шоссейки, аккуратные домики под черепицей и мелко нарезанные обработанные участки.
В Варшаве они расстались. На прощание многоопытный Гоша посоветовал профессору:
— Цену не спускайте, пока не начнут гнать в шею. «Котлы» водонепроницаемые?
— Только одна модель, остальные проницаемые.
— Плохо, — покачал головой Гоша.
— Нормально, — вмешался Каракозин. — Непроницаемую модель положите в банку с водой и показывайте в качестве образца. Говорите: остальные такие же... А правда, что Ницше болел сифилисом?
— Это выдумка! Он просто сошел с ума.
— За что люблю философов — так это за оптимизм! — вздохнул Джедай.
Юрий Арсеньевич отправился в рейд по часовым магазинам Варшавы, а они покатили свои тележки к большому стадиону, переоборудованному под вещевой рынок. Башмаков поймал себя на том, что растянувшаяся километра на полтора толпа русских, ринувшихся с товаром от поезда к стадиону, если посмотреть сверху, действительно чем-то напоминает оживленную муравьиную тропу.
В первую поездку он заработал сто шестнадцать долларов и еще привез Кате ангоровый комплект — перчатки, шапочку и шарф, Дашке — джинсовую куртку на синтетическом меху, а себе — огромный никелированный штопор с ручкой в виде сирены со щитом и мечом...
17
Эскейперу захотелось вдруг взять штопор с собой. Конечно, это смешно — тащить на Кипр, кроме сомиков, еще и дешевый польский штопор! В Ветином замке, оказывается, даже слуги имеются — греческая семейная пара. Если бы тридцать лет назад пионеру Олегу Башмакову, названному так, между прочим, в честь молодогвардейского вождя Олега Кошевого, сказали, что у него будут слуги, он, не задумываясь, дал бы обидчику в ухо.
Эскейпер вообразил, как они с Ветой утром нежатся в широкой постели, возможно, даже занимаются утренним сексом или, как минимум, целуются, а в это время горничная на подносе втаскивает в спальню завтрак. «Надо все-таки пломбу поставить!» — подумал Башмаков, нащупывая языком острые края отломившегося зуба.
Случилось это два дня назад, и язык еще не привык к перемене во рту, как, наверное, слепец не сразу привыкает к исчезновению из комнаты какой-нибудь мебели, знакомой на ощупь до мелочей, до царапины на полировке...
«Хреновина какая-то в голову лезет!» — удивился Олег Трудович, отправляясь на кухню искать штопор. Он нашел штопор под ворохом целлофановых пакетов от продуктов, которые Катя никогда не выбрасывала, но, отмыв, аккуратно складывала в ящик. Сирена давно облезла. Когда Башмаков покупал ее в сувенирной лавочке, она была серебряная, а щит и меч — золотые. Пожилой поляк, упаковывая покупку, сказал на довольно приличном русском:
— Россию люблю. Но почему вы предали Варшаву в 44-м?
— Это Сталин виноват... — ответил Башмаков.
— Матка бозка, у вас теперь во всем Сталин виноват!
— Сами вы, поляки, во всем виноваты, — засмеялся Каракозин. — Выбрали гербом какую-то девицу с хвостом, дали ей в руки кухонный ножик с тарелкой и думали, что она вас защитит!
— А вы... — начал было поляк.
— А у нас герб — мужик на коне и с копьем, Георгий Победоносец. Попробуй победи!
— Победили, — усмехнулся торговец. — вы к нам теперь за пьенендзами ездите. А про наш герб, пан, больше никому так не говори — побить могут!
Башмаков потащил желающего продолжать дискуссию Каракозина подальше от греха, но спор этот ему запомнился, и он даже потом размышлял, смог бы сам, к примеру, дать в ухо иностранцу, назвавшему, скажем, двуглавого орла
— чернобыльским мутантом или как-нибудь по-другому, но тоже обидно. И пришел к выводу: нет, не побил бы, а посмеялся с ним за компанию. В этом вся и беда!
Гоша накупил для будущего ребенка бутылочек, распашонок и памперсов. А Каракозин все деньги ухнул на умопомрачительное вечернее платье с французской этикеткой. С тех пор они ездили в Польшу каждый месяц, научились угадывать конъюнктуру, торговаться с оптовиками, любезничать с польскими старушками и льстить «пенкным паненкам», которые курили как паровозы, командовали своими мужиками и решали — покупать или не покупать. Специализировались компаньоны в основном на сигаретах. Гоша привык к Каракозину и уже не обижался на его штучки, тем более что Джедаю покровительствовала таможенница Лидия — они уже и поезд подгадывали таким образом, чтобы попасть в ее смену. Когда она входила в купе, Каракозин ударял по струнам и пел куплеты собственного сочинения:
Ах, прекрасная Лидия,
Это явь или сон?
Вас впервые увидя, я
Навсегда покорен!
— Ох, певун-говорун! — улыбалась она и бросала на Каракозина нежные взгляды. — Что везете?
— Вот! — он протягивал ей заранее приготовленный букетик цветов.
Однажды Каракозин показал компаньонам специальную трехгранную отвертку и спросил:
— Что это?
— Отвертка! — догадался Гоша: после кодирования у него резко обострилось эвристическое мышление.
— Трехгранная! — стараясь предупредить подвох, уточнил Башмаков.
— Нет. Это золотой ключик, которым отпирается волшебная дверь в сказочную страну...
— ...дураков, — добавил Гоша.
— Я, кажется, понял! — догадался Юрий Арсеньевич.
Философ, очень удачно продавший в тот первый раз сковородки и часы, ездил теперь в Польшу регулярно. Дела у него шли неплохо: он купил полдомика с четырьмя сотками в Болшево и теперь копил на подержанную машину. В поезде или на варшавском стадионе они частенько встречались. Каракозин уговорил Юрия Арсеньевича вложить деньги в дело, потому что для успеха задуманного нужно было, чтобы в купе ехали только свои люди. Сигарет они закупили раз в пять больше, чем обычно.
— Ты обалдел, что ли? — возмущался Гоша. — Думаешь, если тебе Лидка глазки строит, теперь можно все? Это даже она не пропустит!
— Спокойно, Георгий Петрович, от нервов укорачивается половая жизнь! — оборвал Каракозин, отвинчивая потолочную панель в купе.
Там оказалось довольно обширное пустое пространство, куда и засунули сигаретные блоки, оставив в сумках обычное, не вызывающее подозрений количество. Операция прошла успешно. После возвращения Башмаков отправился в магазин и купил большой японский телевизор со встроенным видеомагнитофоном, о котором давно мечтала Дашка. Заволакивая коробку в квартиру, он чувствовал себя первобытным охотником, завалившим мамонта и втаскивающим в пещеру отбивную размером с теленка.
— Наконец-то, Тапочкин, ты себя нашел! — констатировала обычно скупая на похвалы Катя. — Уважаю!
Дела пошли. Но тут они лишились Гоши. Оказалось, послом может стать любой проворовавшийся или проинтриговавшийся политик, а вот специалистов по «жучкам» не так уж и много в Отечестве. Гошин отказ организовать «прослушку» посла оценили где следует. Ведь даже генералы-гэбэшники ломались, секреты продавали, книжки разоблачительные писать начинали, а тут, смотри-ка, какой-то электромонтеришка устоял. Гошу вдруг вызвали куда следует (называлось это теперь по-другому, но занимались там тем же самым) и предложили работу в Афинах. Он поначалу даже заколебался, не хотел бросать налаженный бизнес, но друзья подсказали, как из Греции можно гнать в Москву дешевые шубы, чем, собственно, в основном и занимаются теперь сотрудники посольства. И он согласился.
Отъезд Гоши оказался очень некстати, потому что у Джедая созрела идея, сулившая огромные — по их челночным понятиям — барыши: один варшавский оптовик, которому они уже доставили сотню театральных биноклей и тридцать микроскопов, теперь заказал партию очень дорогих приборов ночного видения. Каракозин провел большую маркетинговую работу, охмурил секретаршу директора «почтового ящика», и партия новеньких ПНВ досталась им. Повезло! Товар-то ходовой, каждая охранная фирма, любой уважающий себя киллер с удовольствием обзаведется прибором ночного видения! Оставалось найти четвертого компаньона, готового вложить деньги в дело.
И вдруг ночью Башмакову позвонил Каракозин и сказал мертвым голосом:
— Я никуда не еду.
— Что случилось?
— Она ушла.
— Куда?
— К нему... Теперь мне все это не нужно. Идею дарю. Богатей, Олег Триллионович, и будь счастлив! Лидии скажи, что я умер, шепча ее имя...
— Э-э, Каракозин, ты чего надумал?
— Не бойся, Олег Трясогузович, покончить с собой я могу, только бросившись с гранатой под танк.
Верным задуманной негоции остался лишь Юрий Арсеньевич, он согласился вложить в дело деньги, скопленные на автомобиль. Требовались еще два компаньона. Поразмышляв, Башмаков вовлек в мероприятие «челноков», с которыми познакомился в поездках: актрису и завязавшего рецидивиста.
Актрисе он как-то помог втащить в поезд сумки — и она ему понравилась. У Башмакова даже появилось настойчивое желание выяснить, насколько форма ее груди соответствует характеру. А рецидивиста, учитывая будущий грандиозный заработок, он взял скорее для безопасности. Однажды, идя со стадиона на вокзал, Башмаков отстал от своих. Вдруг из кустов выскочили три качка и на чистейшем русском языке, правда, немного окая, потребовали деньги. Случившийся рядом рецидивист покрыл их такой затейливой бранью, подкрепленной ножом-выкидушкой, что злоумышленники отступили. В общем, и актриса, и рецидивист вложили в эту негоцию довольно приличные суммы.
— Таможенников не бойтесь, — убеждал Олег Трудович новых компаньонов, — у меня все схвачено! А старшая по смене, Лидка — просто свой человек!
— Смотри, деловой, — предупредил рецидивист. — Я тебя за язык не тянул!
Отвинтив не только потолочную, но и боковые панели, они сложили туда коробки с приборами, оставив в сумках невинные сигареты и пластмассовые розы. Потом расселись, начали выпивать и разговаривать. Рецидивист рассказывал, как в закатанных банках сгущенки им в зону передавали дурь, а актриса жаловалась на главного режиссера театра. Оказалось, этот мерзавец, не добившись от нее взаимности, отдал роль Саломеи своей жене, а та даже по сцене двигаться не умеет! Утка, просто утка!
— А ведь я столько размышляла над этой ролью! Понимаете, у Уайльда Саломея целует отрубленную голову Иоанна Крестителя... И почему-то всегда считалось, что целует в губы! И эта дурища тоже целует в губы. Но если бы я играла Саломею, я бы целовала в лоб! Понимаете — в лоб!
— Еще бы! — значительно кивнул Башмаков.
— Да? Понимаете? Правда?!
Она положила ему ладонь на колено и посмотрела с восторгом одинокой души, наконец-то нашедшей в этом страшном мире родственную консистенцию. Потом актриса стала жаловаться на то, что мерзавец режиссер сдал полтеатра под эротическое шоу — и ей приходится делить гримерную с омерзительной стриптизеркой, а к той шляются разные мужчины известного сорта — она незаметно показала глазами на рецидивиста. Олег Трудович успокаивал ее, тоже клал руку на колено, уверяя, что эти страшные для тонких, талантливых людей времена обязательно кончатся и она непременно сыграет Саломею... Актриса смотрела на него с трогательной благодарностью и неуловимым движением ресниц давала понять, что после успешного завершения дела ее благодарность может перерасти в более конкретное чувство... Вечером в тамбуре, после курения, он сорвал у нее поцелуй, сладкий от помады и горький от табака, поцелуй, напомнивший ему давнюю-предавнюю шалопутную Оксану и вызвавший нежное волнение. В Бресте дверь купе шумно отъехала — и вошли два сурово насупленных молодых таможенника в новенькой форме.
— А где Лидия? — растерянно спросил Олег Трудович.
— Что везете? — вопросом на вопрос ответил тот, что понасупленнее.
— Как обычно, — стараясь не выдать волнения, пробормотал Башмаков и предъявил показушные пластмассовые цветы, сигареты и водку.
— Больше ничего?
— Только героин в заднем проходе! — пошутил рецидивист, вызвав крайнее неудовольствие актрисы.
Таможенники нехорошо посмотрели на него и как по команде достали из карманов одинаковые «трехгранники».
— Это чье? — спросил тот, что понасупленнее, вытаскивая на свет первую коробку.
— А что это такое? — изумился Башмаков, от растерянности решивший ни в чем не сознаваться.
— Прибор ночного видения... Их здесь много. Это ваше?
— В первый раз вижу! — отмел подозрения Олег Трудович. Остальные негоцианты столь же решительно отказались от обнаруженных залежей редкостной оптики.
— Враги подбросили! — просипел рецидивист.
— Мистификация какая-то! — пожал плечами философ.
— А можно посмотреть в стеклышко? — детским голоском попросила актриса.
В окно было видно, как таможенники, весело переговариваясь, катят тележку, нагруженную конфискованными коробками. Актриса рыдала, размазывая по лицу тщательный свой макияж, и ругала Башмакова чудовищным рыночным матом, порываясь при этом выцарапать ему глаза. Рецидивист скрипел железными зубами и твердил:
— Опарафинили, как быдленка! Готовь, отмороженный, капусту!
И только Юрий Арсеньевич философски вздохнул и молвил:
— Не переживайте, Олег Трудович, утраты закаляют сердце. Зато хоть теперь Варшаву посмотрим... Вавель! Старо Място... Музей Шопена! А то ведь я из-за этого товара со стадиона никуда никогда и не ходил...
— Я тоже, — кивнул Башмаков.
Он пребывал в таком состоянии, словно очнулся от наркоза и увидел вдруг, что нога у него ампутирована под самый пах. Увидеть-то увидел, но пока еще не осознал окончательную и бесповоротную утрату конечности.
— А где находится музей Шопена? — спросил он. — Я бы тоже...
Но договорить ему не дали: рецидивист и актриса буквально в один голос высказали решительное намерение немедленно вступить с великим польским композитором в разнузданно-противоестественные сексуальные отношения. Башмаков вздрогнул от неожиданности и осознал чудовищность потери... В Москву Башмаков вернулся в ужасном состоянии. Особенно его угнетала мысль, что случись при этой катастрофе Джедай, он бы обязательно что-нибудь придумал. Ну, отвлек бы таможенников автографом барда Окоемова на «общаковой» гитаре, рассказал бы им какую-нибудь смешную историю, дал бы денег, в конце концов. Олег Трудович не знал наверняка, как именно поступил бы Каракозин, но в одном он был уверен: катастрофы бы не произошло!
Катя, узнав о случившемся, ничего не сказала, а только посмотрела на мужа так, как смотрят на мальчика, которого родители объявили уже совсем взрослым и даже переодели в брючки вместо коротких штанишек, а он вдруг на глазах у гостей эти брючки взял да и обмочил. Еще бы! По сравнению с великим и могучим Вадимом Семеновичем Башмаков выглядел жалко и ничтожно. А через несколько дней рецидивист, неведомо откуда узнавший адрес Башмакова, отловил его вечером в подъезде, приставил к горлу нож-выкидушку и просипел:
— Ты что, дешевло, не понял? Половину, так и быть, с меня — за то, что, как ибанашка, на зрячую пошел. А половина с тебя за хреновую натырку! Въехал или уговорить?
— Въехал! — еле вымолвил Башмаков.
— Актриске все отдашь. Понял?
— Понял. Я с ней сам...
— Не-е, это я с ней... сам! — осклабился рецидивист и значительно цыкнул зубом. Немного денег удалось занять у Труда Валентиновича, но в основном выручили Каракозин и, как ни странно, теща... Оставшись без Петра Никифоровича, Зинаида Ивановна задумала разбогатеть и поменяла свою трехкомнатную квартиру с доплатой на однокомнатную в том же подъезде. А вырученные деньги под триста процентов годовых вложила в банк «Аллегро», организованный каким-то администратором Москонцерта. Сделать это посоветовал ей по старой дружбе композитор Тарикуэллов, утверждавший, будто даже Алла Пугачева держит сбережения в этом банке. Теща после долгих уговоров Кати и унизительных просьб Башмакова сняла все-таки деньги со счета, погубив проценты, но при этом она взяла с зятя слово никогда больше не заниматься коммерцией. Катя обидно кивнула и пообещала не подпускать мужа к бизнесу на пушечный выстрел.
— Зачем куда-то ездить? — удивлялась теща. — Положил деньги в банк — и полеживай себе на диване!
Башмаков возместил потери профессору. Отдал деньги рецидивисту и больше никогда его не встречал. А вот актрису он совсем недавно увидал. В отечественном сериале «Тайны высшего света», где она играла сумасбродную графиню, ушедшую из-за несчастной любви в монастырь. Олег Трудович, смотревший по вечерам эту тягомотину, обратил внимание на то, что графиня-монахиня в каждой серии обязательно норовила поцеловать кого-нибудь в лоб...
Банк «Аллегро» лопнул через полгода, администратор Москонцерта ушел в бега, а вкладчики хоть и разгромили центральный офис, но не получили назад ни копейки. Потрясенная случившимся, теща сдала свою однокомнатную квартиру азербайджанцу и, окончательно поселившись вместе с Маугли на даче, завела козу и кур. А композитор Тарикуэллов, так тот просто от огорчения умер, не успев, как сообщили по телевизору, дописать рок-оперу «Живое кольцо», посвященную третьей годовщине обороны «Белого дома» от гэкачепистов. Башмаков отдал долг Зинаиде ивановне лишь недавно, продав после смерти бабушки Дуни егорьевскую избушку-развалюшку. По этому поводу Катя заметила, что ее мать совершила в жизни лишь два умных поступка: вышла замуж за Петра Никифоровича и одолжила деньги зятю.
А вот Каракозину Олег Трудович долг так и не отдал. Не успел... Бедный Джедай!
Принцесса нашла в «Московском комсомольце» объявление: «Руководителю страховой фирмы требуется личная секретарша. Рабочий день и вознаграждение ненормированные». Позвонила — и ей назначили день собеседования. Собиралась она долго и тщательно, перемерила все свои наряды и остановилась на строгом английском костюме, газовой блузке, а прическу соорудила такую скромную, точно шла поступать в московский филиал Армии спасения. И не ошиблась. На собеседование собралось десятка два женщин, начиная со школьниц в маминых туфлях и заканчивая курортными львицами пятидесятых годов, которые каким-то чудом сумели растянуть свой женский рассвет до самого заката (Принцесса все это потом со смехом рассказывала Джедаю). Припорхали и очевидные жрицы любви, даже не смывшие с лиц рабочую раскраску и не снявшие полупрозрачную униформу. Забрели в поисках работы и несколько профессиональных секретарш. Но их даже не допустили до начальства.
Принцесса продуманно опоздала и появилась в тот момент, когда шеф уже обалдел от бывалых дам, старавшихся сесть так, чтобы предъявить высокое качество нижнего белья, и озверел от малолеток, обещавших ему взглядами весь набор позднеримских удовольствий. В своем строгом костюме Принцесса выглядела как весталка на торжище продажной любви. Шеф страховой компании, молодой, коротко стриженный парень с боксерским приплюснутым носом, был одет в красный кашемировый пиджак и, как положено, имел вкруг шеи золотую якорную цепь. Он посмотрел на Лею с удивлением, облизнулся и принял ее на работу.
— Ну, как начальник? — после первого рабочего дня поинтересовался Джедай.
— Никак. Чистит ногти скрепками...
— Если начнет приставать — скажи! Я с ним поговорю.
— Обязательно.
Вскоре Принцесса начала постоянно задерживаться в офисе, а когда Каракозин в своей «божьей коровке» пытался караулить ее у входа, вышла ссора. Потом Лея стала сопровождать шефа в загранкомандировки, откуда возвращалась веселая и загорелая. Одевалась она теперь только у Карло Пазолини, а сына устроила в дорогой интернат, где все преподаватели были американцы. Джедай несколько раз звонил ей ночью из Варшавы и натыкался на автоответчик. Кончилось тем, что он ворвался в кабинет к шефу, устроил скандал и был вышвырнут вон «шкафандрами», которые оказались куда круче тех, что у Верстаковича.
После этого скандала Принцесса ушла из дому. Каракозин кричал, что никогда не даст ей развод, что отсудит у нее ребенка, а через неделю получил по почте свеженькое свидетельство о разводе. Сына же она попросту перевела в другой интернат — в Шотландию. Джедай бросился в милицию, в суд. В милиции его обещали посадить за дебош в общественном месте. А судья, дама с благородными чертами собирающейся на пенсию Фемиды, пряча глаза, посоветовала ему не связываться и оставить все как есть. Джедай был настолько поражен этим новым, неведомым прежде всесилием денег, что сник, отказался от борьбы и, как водится у русских, конечно, запил.
Башмаков в эти трудные времена к нему часто заезжал. Обычно Каракозин сидел один в неприбранной квартире и бренчал на знаменитой гитаре. Поначалу при нем крутились какие-то женщины, всякий день новые. Каждая своей суетливой заботливостью давала понять, что именно она — теперь и навсегда — нежная подруга и хранительница очага, но затем бесследно исчезала. Олег Трудович с Каракозиным одиноко выпивали и вели те восхитительные хмельные беседы, когда все проклятые тайны бытия становятся почти понятны и для полной ясности нужно выпить еще чуть-чуть, рюмочку. Но именно до этой последней, все-раз-и-навсегда-озаряющей рюмочки добраться почему-то никак не удавалось...
Однажды Башмаков, в сотый раз выслушивая историю принцессиной измены, спросил вдруг:
— Можно нескромный вопрос?
— Давай!
— Не обидишься?
— Нет.
— Какая у нее была грудь?
— Что-о? А тебе-то зачем?
— Нужно, раз спрашиваю.
Рыцарь задумался, и на его лице возникло выражение нежной мечтательности.
— Во-от така-ая! — он сделал движение пальцами, точно оглаживал невидимые полусферы.
— Нарисуй! — потребовал Башмаков, подвигая бумажку и давая ручку.
Каракозин еще немного поразмышлял и неуверенно изобразил.
— М-да... «Фужер для шампанского». Скрытная, опасная, холодная женщина. Я так и думал. Забудь о ней. Ты был обречен с самого начала!
— Холодная? — Джедай захохотал. — Холодная!!! — Он разорвал в клочья рисунок и заплакал целительными пьяными слезами.
— Забудь о ней! — успокаивал, как мог, Башмаков.
— Не могу!
— Значит, если она к тебе завтра вернется, ты ее простишь?
— Прощу...
— Я бы Катьку никогда не простил! — убежденно сказал Башмаков.
— Я его убью! — угрюмо сообщил Каракозин.
— Кого?
— Этого подонка! Задушу его же цепью! А мертвый он ей не нужен.
— Мертвые вообще мало кому нужны, — рассудительно заметил Башмаков. — Но ты его не убьешь...
— Почему это?
— При такой охране ты к нему близко подойти не сможешь! Проще революцию сделать. У него тогда все отберут — и она сама к тебе вернется! — с пьяным сарказмом пророчествовал Башмаков.
— А что? — задумался Джедай. — А что?! — повеселел Каракозин. — А что!!! — Он вскочил, схватил гитару, рванул струны и запел:
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...
Потом Рыцарь отбросил гитару, обнял Башмакова и зашептал вдохновенно:
— Олег Трисмигистович, вот что я тебе скажу...
И тут раздался телефонный звонок. Это была Катя.
— Нет, вообще не пьем — разговариваем! — неуверенно ответил, теряя отдельные звуки и даже целые слова, Каракозин и протянул трубку Башмакову.
— Тебя...
— Тунеядыч, срочно домой! Борис Исаакович при смерти...
18
И тут на самом деле раздался телефонный звонок. Эскейпер снял трубку, приладил ее к уху, но «алло» на всякий случай говорить не стал.
— Это я, — сообщила Вета тихо и таинственно.
— Я думал, ты уже не позвонишь, — по возможности холодно произнес Олег Трудович.
— Я не могла, — еще тише и еще таинственнее сказала она. — Потом все объясню. Ты собрался?
— Да, но... Что случилось? Что с анализом?
— Я еще не была у врача...
— А где ты была? — спросил Башмаков голосом внутрисемейного следователя.
— Потом. Билеты уже у меня. Сомиков взял?
— Да.
— И того, с грустными глазами?
— Конечно, — устало соврал Башмаков.
— Молодец! Я соскучилась! Знаешь, чего мне сейчас хочется больше всего?
— Догадываюсь.
— А знаешь, какое самое удивительное открытие в моей жизни?
— Какое же?
— А вот какое... Когда тебя целуют всю-всю-всю, это намного лучше, чем когда тебя целуют всю-всю...
— Интересно. А почему ты так долго не звонила?
— Ну хорошо, сейчас объясню. Только ты не сердись! В общем, понимаешь... Ой, больше не могу говорить — возвращается... Я тебе перезвоню! Обязательно дождись моего звонка! Не сердись, эскейперчик...
В трубке послышались короткие гудки.
«Кто возвращается? — удивился Башмаков. — Этого еще не хватало!»
Будет смешно, если Вета окажется в конце концов женщиной-елкой и бросит его. Ну, бросит и бросит... Не станет же он из-за этого, как Рыцарь Джедай, вступать в Партию революционной справедливости! Нет, не станет...
Олег Трудович вдруг поймал себя на том, что с самого утра, с самого начала сборов чувствует в теле какое-то знобкое недоумение. Это похоже на то, что он испытывал много лет назад, когда темным знобящим утром собирал вещевой мешок, чтобы идти на призывной пункт. «А вот брошу все и никуда не пойду!» — храбрился он, но прекрасно понимал: ничего не бросит, а пойдет как миленький, потому что в кармане лежит неотменимая, ознаменованная строгими печатями повестка...
Собственно, жизнь превращается в судьбу благодаря таким вот повесткам — и печати совсем не обязательны. Та дурацкая банка с икрой была повесткой. И гибель «Альдебарана» — тоже повестка. Но чаще всего повестки приходили к нему почему-то в виде женщин — Оксана, Катя, Нина Андреевна, а теперь вот Вета. Юная повесточка с нежной кожей, требовательным лоном и преданными глазами... Но преданность ненадежна и скоротечна. Ему будет шестьдесят, а ей всего тридцать семь. Она отберет у Башмакова переходящий алый колпак и отдаст другому... эскейперчику...
А не хотелось бы остаться в старости, как Борис Исаакович, беспомощным и одиноким.
Слабинзон уехал в Штаты в 90-м. Он долго стоял в очереди к американскому посольству, отмечался в списках, как за дефицитом. Наконец его вызвали на собеседование, и посольский юноша с лицом утонченного вырожденца подробнейшим образом расспрашивал Борьку о житье-бытье, родителях, работе, политических взглядах. Неизвестно, что там Слабинзон наплел, но ему дали разрешение выехать в Америку чуть ли не в качестве беженца. Теперь оставалось главное — пробиться сквозь ОВИР. И он пробился! Оставшееся до отъезда время счастливый отъезжант бегал по разным инстанциям, вплоть до районной библиотеки, собирая подписи и печати, удостоверявшие, что он, Борис Леонидович Лобензон, ничего больше не должен этой стране и с чистой совестью может отправляться на новое место жительства. Кроме того, Слабинзон доставал через знакомых отца текинские ковры и переправлял их дальним родственникам своей бывшей жены Инессы, имевшим магазинчик на Брайтон Бич. Олег помогал ему возить ковры в Шереметьево и очень удивлялся, зачем тащить в изобильную Америку отечественные изделия, например вот этот старый, затрепанный коврище с огромными, прямо-таки чернобыльскими, синими розами. Таможенники, брезгливо осматривая ковер, даже спросили ехидно:
— А собачий коврик тоже в Америку пошлете?
Борька в ответ лишь вздохнул, как духовидец на лекции по научному атеизму.
Башмаков тоже удивлялся:
— На черта ты все это тащишь?
— Ну как ты не понимаешь, Тугодумыч! Что в первую очередь делает человек, уехавший из этого проклятого Совка?
— Что?
— Он создает в отдельно взятом районе Нью-Йорка, а точнее, на Брайтон Бич, свой маленький, миленький Совочек. А какой же Совочек без ковров! Понял?
— Приблизительно. Проводы были скромные. Борис Исаакович приготовил прощальный ужин, благо как раз получил ветеранский продзаказ. Прилавки гастрономов к тому времени настолько опустели, что даже мухи исчезли. Правда, иногда по телевидению сообщали о том, как селяне пошли за грибами и наткнулись в лесу на гору сваленной на полянке любительской, реже — сырокопченой. Колбаска была еще совсем свеженькая — и деревня, поменяв излишки на водку, гуляла целую неделю.
— Вредительство! — замечал по этому поводу Борис Исаакович.
— В тридцать седьмом за такие вещи расстреливали! — добавлял Борька.
— И правильно делали! — кивал генерал.
— Дед, а нельзя как-нибудь так, чтобы не расстреливать и чтобы колбаса была?
— Очевидно, нельзя...
Прощальный ужин проходил печально. Ели фаршированную курицу, приготовленную по рецепту покойной Аси Исидоровны. Борька в очередной раз разлил в стопки купленную по талонам водку и сказал:
— На посошок!
— Не жалко уезжать? — спросил Башмаков.
— Из старой квартиры всегда жалко уезжать, даже если переезжаешь из коммуналки в отдельную. Так ведь, дед?
Борис Исаакович, ставший на время сборов внука еще молчаливее, чем обычно, посмотрел на Борьку печальными глазами. И Башмаков вдруг изумился: как же он с такими печальными глазами красноармейцев в бой водил?
— По-моему, ты совершаешь очень серьезную ошибку! — тихо молвил генерал.
— Человек имеет право жить там, где хочет! Я свободная личность!
— Ты? — удивился Башмаков.
— Я!
— Это ты, Слабинзон, в очереди к посольству заразился.
— Да пошел ты, комса недобитая!
— Заткнись, морда эмигрантская! Спор, перераставший из шутливого во всамделишный, остановил Борис Исаакович, пресек молча, одним лишь взглядом — и Башмаков вдруг понял, как он поднимал залегшую роту.
— Не надо путать свободу перемещения со свободой души. Можно и в колодках быть свободным, — сказал Борис Исаакович.
— Осточертели вы мне с вашей романтикой глистов, сидящих в любимой заднице! Нет, Моисей правильно водил наш маленький, но гордый народ по пустыне, пока последний холуй египетский не сдох!
— Ты где это прочитал?
— Какая разница? В Библии! — гордо ответил Борька.
— Ага, в Библии! В «Огоньке» он прочитал, — наябедничал Башмаков, — в статье публициста Короедова «Капля рабства в бочке свободы». Там еще про то, что раба из себя нужно выдавливать, как прыщ.
— Моя воля, я бы этих публицистов порол прилюдно. Начитались предисловий! — посуровел генерал. — Моисей водил народ свой по пустыне, чтобы умерли те, кто помнил, как сытно жили в Египте. «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Хорошо нам было в Египте!» Водил, потому что в земле обетованной их ждали кровопролитные сражения за каждую пядь, голод и лишения... А раба, друзья мои, если слишком торопиться, можно выдавить из себя вместе с совестью. К этому, кажется, все и идет...
Провожали они Слабинзона вдвоем с Борисом Исааковичем. Шереметьево напоминало вокзал времен эвакуации. Народ, лежа на тюках, дожидался очереди к таможенникам, которые свирепствовали так, словно искали в багаже трупик ритуально замученного христианского младенчика. Но оказалось, у Борьки все схвачено: сразу несколько человек из начала очереди зазывно помахали ему руками. С собой он нес всего-навсего небольшую спортивную сумку.
— Ну, дед, прощай! Надумаешь к нам в Америку, позвони — эвакуируем! Я, между прочим, думал о том, что ты вчера говорил. Так вот, лучше быть рабом свободы, чем свободомыслящим рабом! Понял?
— Я-то понял. А вот ты пока ничего и не понял. Не забывай, звони!
И Башмаков впервые увидел в глазах Бориса Исааковича слезы. Старый генерал обнял внука и прижал к себе. Засмущавшийся таких нежностей, Борька резко высвободился и повернулся к другу:
— Смотри, Трудыч, на тебя державу оставляю! Вы уж тут без меня перестройку не профукайте! А теперь пожелайте мне удачи — сейчас будет самый ответственный момент в моей жизни!
Он глубоко вздохнул и по-йоговски, мелкими толчками, выдохнул.
— Кто там следующий? — противно крикнул таможенник, ухоженный юноша с фригидным лицом.
— Я там следующий!
Башмаков и Борис Исаакович остались у железных перил, чтобы увидеть, как Слабинзон пройдет все преграды и скроется за будочками паспортного контроля.
— Это все? — с раздраженным удивлением спросил таможенник, оглядывая спортивную сумку.
— Все, что нажито непосильным трудом! — погрустнел Борька.
— А это что еще такое? — таможенник ткнул в экран дисплея.
— Где?
— Вот!
— Бюстик.
— Какой еще бюстик? Откройте сумку!
Слабинзон расстегнул молнию. И на свет божий был извлечен бюстик Ленина из серебристого сплава — такие тогда рядами стояли в любом магазине сувениров.
— Зачем вам это? — спросил таможенник, с нехорошим интересом осматривая и ощупывая бюстик.
— Исключительно по идейным соображениям!
— Ах так... Открутите! — приказал таможенник.
— Что? — изумился Слабинзон.
— Голову.
— Ленину?!
— Бюсту.
— Одну минуточку. — Борька споро отвинтил голову Ильичу.
Очередь, наблюдавшая все это, затаила дыхание. Пополз шепоток, будто один очень умный устроил тайник в бюстике Ленина и попался.
— Боже, что он делает, шалопай! — Борис Исаакович полез за валидолом.
— Что там? — радостно спросил таможенник, заглядывая в голову вождя, которая, как и следовало ожидать, оказалась полой.
— Где? — уточнил Борька.
— А вот где! — таможенник (его лицо уже утратило фригидность и приобрело даже некоторую страстность) ловко извлек из недр ленинской головы небольшой тугой полиэтиленовый сверточек. — Что это такое?
— Это... понимаете... как бы вам объяснить...
— Да уж постарайтесь! — ехидно попросил таможенник и нажал потайную кнопочку.
— Видите ли, это горсть земли.
— Какой еще земли?
— Русской земли, — отозвался Слабинзон дрогнувшим голосом и смахнул слезу.
— А зачем вам русская земля? — спросил таможенник, удовлетворенно заметив, как к ним торопливыми шагами направляются два офицера.
— Мне?
— Вам.
— А вы полагаете, если я еврей, так меня русская земля уже и не интересует? Вы случайно не антисемит?
— Прекратите провокационные разговоры! — испугался таможенник.
Его можно было понять: в России оказаться антисемитом еще опаснее, чем евреем.
— Разверните!
Борька бережно развернул пакет. Башмаков привстал на цыпочки вместе со всей очередью: похоже, в полиэтилене действительно была земля. Таможенник и подбежавшая охрана оторопело склонились над горстью российской супеси. Очевидно, снова была нажата потайная кнопка, потому что в боковой стене открылась дверь, и оттуда выкатился майор.
— Земля, — подтвердил он, понюхав. — А почему в... в бюсте?
— А разве нельзя?
— Нежелательно.
— В следующий раз учту.
Майор смерил Борьку расстрельным взглядом и махнул рукой. Таможенник маленькой печатью, величиной с большой перстень, проштамповал декларацию. И только тут Слабинзон, наконец глянув в сторону деда и Башмакова, хитро-прехитро подмигнул. Для чего был устроен этот спектакль и что на самом деле провез с собой Борька, Башмаков так никогда и не узнал. Через полгода Борис Исаакович позвонил и сообщил, что от Борьки пришло письмо, точнее, фотография с надписью. Башмаков не поленился, съездил посмотреть. Борька запечатлелся на фоне иномарки в обнимку с мулаткой. Машина была длинная, колымажистая, а темнокожая девушка, одетая в чисто символическое бикини, ростом и статью подозрительно напоминала приснопамятную Валькирию — Борька едва доставал ей до плеча. На нем были длинные шорты и майка, разрисованные пальмами. На обратной стороне фотографии имелась короткая надпись: «Привет из солнечной Калифорнии!»
С тех пор Башмаков не виделся со старым генералом. И если бы не врач «скорой помощи», так бы, наверное, и не увиделся. Доктор позвонил, объяснил, что Борису Исааковичу было плохо, и поинтересовался:
— А вы ему кто?
— В общем-то никто, — растерялась Катя.
— Странно... Ваш телефон тут на стенке!
Дело в том, что Борька всегда самые важные номера записывал на обоях прямо над телефоном. Башмаков, как самый близкий друг, к тому же начинавшийся на вторую букву алфавита, стоял первым.
— А что все-таки случилось с Борисом Исааковичем? — спросила Катя.
— Ничего страшного, гипертонический криз. Старичок он у вас еще крепкий, просто разволновался. Но недельку придется полежать. Как я понял, он одинокий. Лучше, конечно, чтобы кто-нибудь присмотрел. Ему нужен покой и уход.
— Обязательно присмотрим.
Катя быстро вычислила, где мог задержаться муж, позвонила Каракозину и была особенно сурова, потому что не одобряла этих встреч, заканчивавшихся тяжкими утренними пробуждениями и напоминавших давние райкомовские времена. Однако если в те времена на дурно пахнущего, опухшего супруга Катя смотрела с болью и отвращением, но все же как на часть собственного тела, пораженную отвратительным недугом, то теперь это было отчужденное отвращение с легким оттенком соседского сострадания...
— Борис Исаакович при смерти! — сказала Катя, специально сгущая краски.
Получив по телефону взбучку, друзья подхватились и, трезвея на ходу, помчались к Борису Исааковичу. Но судя по тому, что дверь открыл сам генерал, ничего особенно опасного не произошло.
— Реаниматоров вызывали? — нетрезво пошутил Каракозин.
Борис Исаакович ответил грустной беспомощной улыбкой и, шаркая ногами, вернулся на диван. На генерале была зеленая офицерская рубашка с тесемками для погон и старенькие синие тренировочные брюки. Он тяжело сел. На клетчатом пледе лежали заложенные очками мемуары де Коленкура. На стуле — таблетки, пузырек и стакан, резко пахнувший валокордином.
— Я нашел у Коленкура любопытную мысль. — генерал раскрыл книгу и надел очки. — Вот, послушайте: «Гений императора всегда творил такие чудеса, что каждый возлагал на него все заботы об успехе. Казалось, прибыть на место ко дню битвы — это все...»
— Понятно, — кивнул Джедай. — Чем гениальнее правитель, тем раздолбаестей народ.
— Примерно. Чем гениальнее политик, тем требовательнее и суровее он должен быть к окружающим.
— А людей вам совсем не жалко?
— От глупой доброты правителя, молодой человек, народу гибнет гораздо больше, чем от умной жестокости, — ответил Борис Исаакович, взяв в руки пузырек с каплями.
Башмаков укоризненно глянул на Джедая, схватил стакан и помчался на кухню за водой.
...А приступ вышел вот из-за чего. В течение многих лет Борис Исаакович о деньгах почти не думал: пенсия у него была хорошая, путевки в санаторий бесплатные, кое-что и прикопилось — за статьи в военных журналах, за лекции ему прямо на сберкнижку перечисляли. Да и много ли пенсионеру нужно? Тратился он в основном на книги и журналы — тогда много печаталось нового, необыкновенного, рассекреченного. Из дому он выбирался редко — в Ленинскую библиотеку или в Подольский архив. Дело в том, что обнаружились считавшиеся утерянными протоколы допросов генерала Павлова, и монографию пришлось переписывать практически заново, нарушая все сроки. В «Воениздате», конечно, возмутились, ведь книга была уже в темплане. Борис Исаакович гордо вернул аванс. Мог себе позволить! И вдруг, буквально за несколько месяцев, все изменилось. Сбережения превратились в пыль: на восемь тысяч, лежавших на книжке, не то что машину — трехколесный велосипед не купишь. Пенсии едва хватало на хлеб. А подзаработать негде. Журналы или позакрывались, или влачили такое жалкое существование, что о гонорарах и речь не заходила. Лекции читать тоже не приглашали. Какие там лекции, если вся страна проснулась нищей и надо было соображать, как жить и что жевать! Правда, однажды Международный исторический фонд имени Иосифа Флавия пригласил генерала выступить на научной конференции «СССР как главный инициатор Второй мировой войны» и даже пообещал приличное вознаграждение в долларах. Борис Исаакович в своем коротком сообщении блестяще, ссылаясь на документы, объяснил, кто на самом деле был главным инициатором войны.
— Но позвольте! — оппонировал ему взвинченный историк-возвращенец с неопрятной диссидентской бородой. — Сталин готовил танки на шинном ходу, чтобы двигаться по европейским автострадам!
— Ну и что? «Танки на шинном ходу»... Если у вас борода, это еще не значит, что вы монах. Зал засмеялся и зааплодировал. Но гонорар генералу почему-то не заплатили. Более того, к нему как бы приклеили некий предупредительный ярлычок, и уже больше никогда никакой фонд не приглашал его ни на одну конференцию, хотя таких специалистов, как Борис Исаакович, было раз-два и обчелся. Времена настали тяжелые: даже книги он не мог теперь покупать, а до обнищавших библиотек новые издания вообще не доходили. Свежие монографии по военной истории Борис Исаакович изучал прямо у магазинного прилавка, даже выписки ухитрялся делать. Но однажды молодая нервная продавщица в историческом отделе Дома книги наорала на старика:
— Вы же, дедушка, конфеты до того, как чек пробьете, не жрете! А страницы грязными пальцами хватаете!
Бориса Исааковича, маниакального чистюлю, постоянно гонявшего Борьку за грязные ногти, последнее замечание просто убило. Сразу из магазина, держась за грудь, наполнившуюся вдруг какой-то болезненной ватой, он поехал в свою поликлинику. Сняли кардиограмму и нашли довольно сильную аритмию.
— Нервничаете? — спросила врач.
— А кто теперь не нервничает? — вздохнул генерал.
— Это правда. Я иногда просыпаюсь — и не верю, что все это с нами произошло.
Борис Исаакович знал эту кардиологиню еще юной выпускницей мединститута, трепетавшей перед своими чиновными пациентами. Он всегда приносил ей коробку конфет или какой-нибудь сувенир. Впервые за много лет он пришел с пустыми руками. Вернувшись домой, генерал долго размышлял, прикидывал и решил продать квартиру, а купить другую, поменьше, и желательно в новом, зеленом районе. На разницу — а это огромные деньги — можно было спокойно жить, покупать книги, дарить врачихам конфеты и писать труд о командарме Павлове. Но по Москве ходили вполне достоверные слухи, что у заслуженных стариков выманивают их большие квартиры в сталинских домах, а когда приходит время расплачиваться, попросту убивают. Рассказывали даже леденящую историю бывшего замнаркома из соседнего подъезда, исчезнувшего через два дня после продажи квартиры, а потом найденного расчлененным в помойных баках микрорайона. Борис Исаакович смерти не боялся, но быть зарезанным каким-нибудь уголовником, тем более когда еще не дописана книга о командарме Павлове... Нет уж, увольте! Тогда он решил поискать постояльцев, дал объявление в газете «Из рук в руки», но откликались в основном блудницы, какие-то башибузуки в кожаных куртках или молоденькие бизнесмены, которые, войдя в квартиру и оглядевшись, заявляли:
— Эту стену надо снести... А здесь (кивок в сторону Асиной комнаты) будет гостевой туалет...
Естественно, Борис Исаакович квартиру так никому и не сдал. Написать сыну гордость не позволяла, ведь звали же, упрашивали: «Поедем! Поедем!» И потом еще знакомых подсылали: «Надо, надо уезжать! Слышали, Щукочихин вчера по телевизору погромы обещал!» Не поехал... Да и какая от сына помощь? Сам в письмах постоянно жалуется, как трудно приживаться на новом месте: за все плати. А Борька прислал фотографию из Калифорнии и пропал — ни письма, ни звонка...
И вот как-то раз Борис Исаакович отправился в магазин военной книги на старом Арбате — тамошние продавщицы его давно знали и снисходительно смотрели на то, как он читает у прилавка. Прогуливаясь по старому Арбату, превратившемуся к тому времени уже в сувенирный базар, Борис Исаакович увидел на лотке среди обыкновенных солдатских шапок, ремней и гимнастерок настоящий парадный генеральский мундир, висящий на плечиках и обернутый от дождя прозрачной пленкой. Точно такой же хранился у него в шкафу. Генерал остановился как завороженный. Так и стоял, покуда продавец, верткий молодой парень, виртуозно всобачивал доверчивому иностранцу кроликовую ушанку с кокардой, на ломаном английском уверяя, будто такие шапки носят бойцы спецдиверсионного отряда «Айсберг», который предназначен для захвата Гренландии... Успешно нахлобучив шапку на радостного интуриста, парень повернулся к Борису Исааковичу:
— Что берем?
— Что-то я не припомню такой спецгруппы — «Айсберг».
— Секретная группа... Под грифом: «Супер-дупер»!
— И грифа такого не помню.
— Склероз у вас, папаша! Что интересует?
Борис Исаакович кивнул на генеральский мундир и был потрясен, узнав цену: она равнялась его годовой пенсии. Парень прилавочным чутьем угадал: старичок с потертым портфелем не случайно спрашивает. Он стал объяснять, что с удовольствием купит мундиры, шинели, медали, ордена, фуражки, причем заплатит долларами. Настоящие боевые ордена и медали были разложены тут же, на прилавке.
— А у вас, папаша, случайно орден Славы первой степени не наблюдается? Второй и третьей есть. Комплект нужен. Очень нужен!
— Не стыдно славой чужой торговать? — тихо спросил генерал.
— А почему мне должно быть стыдно? Я у вас ордена не ворую — сами несете! Я вот тут стою и думаю иногда: это же как интересно устроено, в двадцать лет, когда вся жизнь впереди и хрен в подбородок упирается, человек за орден или медаль под пули лезет и не боится. А когда жить-то осталось, уж извини, отец, совсем ничего и от хрена одна шкурка, несет мне свои цацки. А то, понимаешь, валидол купить не на что... Бережет сердчишко-то... А может, и правильно делает? Ты, отец, подумай. Может, у тебя китель какой зря гардероб занимает? Моль-то, она не разбирается, где пиджак, а где мундир... Прайс-листик-то возьми! — И парень протянул ему бумажку, где подробно указывались цены на все — от Звезды Героя до медали в честь 40-летия Победы.
По пути домой Борис Исаакович кипел и возмущался, что боевые награды, которые давали за геройство и пролитую кровь, стали теперь предметами омерзительной купли-продажи. Но при этом в каком-то подсознательном вычислительном закутке одновременно шел подсчет стоимости хранившихся в специальном замшевом мешочке двух орденов Красного знамени, ордена Отечественной войны I степени, ордена Александра Невского, польского «Белого орла», многочисленных медалей, боевых и накопившихся за послепобедные юбилеи. Полученная в результате сумма как-то сама собой выскакивала из умственного закутка и вторгалась в возмущенное сознание генерала. Открывая дверь квартиры, Борис Исаакович почти убедил себя в том, что парадный мундир ему, собственно, не нужен. Да и моль в самом деле не дремлет — на рукаве недавно появились две маленькие пока еще проплешинки. А похоронят уж как-нибудь в обычном мундире. Более того, с некоторыми, особенно юбилейными, наградами тоже можно расстаться. Ничего страшного. Даже есть какая-то диалектическая логика в том, что на эти деньги он сможет закончить исследование о командарме Павлове. Перед тем как отнести мундир на Арбат, генерал напоследок решил еще раз его надеть и сразу заметил, что тот стал ему великоват: за последнее время от плохого питания и от переживаний Борис Исаакович сильно похудел. И вот когда он стоял перед зеркалом, разглядывая себя, ему вдруг стало душно, словно из комнаты, как из лейденской банки, откачали воздух... До телефона удалось добраться с трудом. Потом по стеночке дошел в прихожую, отпер и приоткрыл входную дверь... Приехавшая бригада нашла его лежащим на диване в расстегнутом генеральском мундире, с мокрым полотенцем на груди.
— Никогда не думал, что до такого доживу! — шептал и плакал Борис Исаакович.
— Не волнуйтесь, скоро все это кончится! — успокаивал Джедай. — Наши уже близко.
Они просидели с Борисом Исааковичем до самой ночи, а когда за полчаса до закрытия метро Башмаков засобирался домой, Джедай сказал, что ему торопиться некуда, никто его не ждет и он, пожалуй, переночует у Бориса Исааковича. Через несколько дней Олег Трудович с сумкой продуктов, собранных старательной Катей, приехал на улицу Горького и застал там Каракозина в халате, кашеварящего на кухне. Сам генерал полулежал на диване. К дивану был придвинут ломберный столик, накрытый, точно скатертью, большой картой, испещренной черными и красными изогнутыми стрелками.
— Вы представляете, Олег, они не дают мне прочитать предсмертное письмо Павлова к Сталину!
— Кто?
— КГБ... Или как они там теперь называются?
— Это, наверное, из-за Борьки. Родственники за границей и все такое...
— Хрен тебе с помидорами, — выходя из кухни с кастрюлькой дымящейся каши, сообщил Рыцарь Джедай. — Просто теперь пользование архивом КГБ платное. Пятьсот долларов — и обчитайся... Тысяча — копию снимут.
— Я скоро тебе отдам. Я сейчас на стоянку устроился... — уловив в словах Каракозина упрек, забормотал Олег. — Я вот, наверное, в Таиланд скоро поеду за ангоровыми шапочками...
— Да сиди ты уж лучше дома, Олег Таиландович! Целее будешь. Вскоре Каракозин сдал свою квартиру за триста долларов в месяц и переехал к Борису Исааковичу. На эти деньги они и жили. Башмаков иногда захаживал к ним в гости. Чаще всего Борис Исаакович сидел в кабинете, изредка выходя в просторную гостиную и благосклонно взирая на то, что в ней происходит. А происходили в ней вещи пречудесные. Гостиная была оборудована под штаб партии революционной справедливости. В комнате крепко пахло теплой марганцовкой — это Джедай размножал на ксероксе листовки к очередному митингу. Ксерокс купили, продав орден Белого орла. Как раз в ту пору появилось много публикаций о польских офицерах, расстрелянных в Катыни. Борис Исаакович был абсолютно уверен в том, что расстреляли их немцы, а не наши, и очень негодовал по поводу публикаций польских историков:
— Они бы лучше вспомнили, сколько Пилсудский красноармейцев в лагерях сгноил!
Квартира генерала стала центром бурной политической жизни. Время от времени раздавался звонок — и в гостиной появлялся очередной народный мститель. Войдя в уставленную книгами и антиквариатом гостиную, он, конечно, робел, а обнаружив под ногами наборный паркет, бросался в прихожую снимать ботинки. Но, как справедливо заметил кто-то из мудрых, снятие одной проблемы лишь открывает взору проблему новую. Пришедший начинал мучиться несвежестью или даже дырявостью своих носков. Торопливо схватив пачку листовок и получив информацию о предстоящем митинге, он убегал в массы. Борис Исаакович и Каракозин не пропускали ни одного стоящего митинга или какого-нибудь народного веча. Генерал уже вполне окреп и появлялся в рядах протестующих, в зависимости от сезона, или в шинели с золотыми веточками в петлицах, или в том самом кителе, из-за которого пережил сердечный приступ. Джедай завел специальный флаг с серпом и молотом на свинчивающемся металлическом древке, а также складной картонный плакат со стихами собственного сочинения:
Напрасно радуешься, сэр!
Мы восстановим СССР!
Стихи сопровождались рисунком, тоже выполненным Каракозиным: зубасто, совершенно по-крокодильи улыбающийся американец в полосатых штанах и цилиндре кроит ножницами карту Советского Союза. У Бориса же Исааковича для демонстраций имелся небольшой портрет Сталина. Генерал и Джедай, как говорится, нашли друг друга, но иногда спорили о методах борьбы. Каракозин был за немедленное вооруженное восстание против антинародного режима, а Борис Исаакович — за шествия, гражданское неповиновение, забастовки и как результат — передачу власти до выборов нового президента Верховному Совету...
Как-то раз они потащили с собой Башмакова на народное вече, бушевавшее на Манежной площади, еще не застроенной, не утыканной бронзовым церетеливским зверьем. Олег Трудович сдуру нацепил нежно-палевую замшевую куртку, недавно купленную ему Катей, и ловил на себе косые взгляды плохо одетых и злых людей. Трибуна, украшенная кумачом, еще пустовала. Большие алюминиевые репродукторы, установленные на автобусе, оглушительно бубнили «Марш энтузиастов». Борис Исаакович был в генеральской шинели, а Каракозин — в своем вечном джинсовом костюме. Вступив на тропу политической борьбы, он отпустил бородку, отрастил длинные волосы, схваченные особой узорчатой повязкой. Узор назывался посолонью. Джедай вообще в это время увлекся славянским язычеством и постоянно вступал в споры с монархистами, стыдившими его за красный флаг. В ответ он доказывал, что русские всегда уважали красный цвет и громили ворогов под червонными стягами. Свидетелем одного такого спора и стал Башмаков. Каракозин сцепился с казаком, одетым в мундир явно домашнего производства.
— Значит, говоришь, Митрий Донской под красным флагом, как Чапаев, воевал? Допустим... — поигрывая самодельной нагайкой, строго молвил казак.
— Ты извини, служивый, я в погонах ваших не очень разбираюсь. Ты кто по званию? — уточнил Джедай.
— Разрешите представиться: есаул Гречко, заместитель краснопролетарского районного атамана по связям с общественностью. А ты кто таков?
— Член политсовета партии революционной справедливости.
— Любо. Добрая партия. А серп с молотом тебе на что?
— А чем тебе, служивый, серп и молот не нравятся?
— А вот и не нравятся. Зачем тебе, русскому, как я наблюдаю, человеку, — говоря это, казак покосился на Бориса Исааковича, — значки масонские?
— Дурак ты, ваше благородие! Золотой молот с серпом славянскому вождю Таргитаю с неба упали.
— С неба? Ну-ну... — есаул Гречко снова внимательно посмотрел на Бориса Исааковича, усмехнулся и затерялся в толпе.
Музыка исчезла в площадном гуле. На трибуне, устроенной из грузовика с высокими бортами, начали появляться люди. Башмаков узнал лысого Зюганова, шевелюристого Бабурина, вечно хмурого Илью Константинова... Зюганов подошел к микрофону и заговорил, но ничего не было слышно. Толпа взволновалась.
— Провокация! — побежало по рядам. — Сволочи, ельциноиды трепаные, специально отключили микрофоны... На ступеньках гостиницы «Москва» началось какое-то угрожающее движение, демонстранты, крича «долой!», накатились на цепь омоновцев.
— Пропустите! Да пропустите же! — мимо Башмакова проталкивался толстый подполковник с шипящей рацией в руке.
Олег Трудович узнал в нем того майора, что пробегал мимо во время разгона демократического митинга здесь же, на Манежной, когда Башмаков в последний раз объяснялся с Ниной Андреевной. При воспоминании о Чернецкой он ощутил в сердце остаточный трепет.
— Андрей, — вдруг сказал Борис Исаакович, — вы не совсем точно ответили этому... ну, допустим, есаулу... Таргитаю упали с неба молот, плуг и еще жернова. Из чистого золота, это верно. Но не серп!
— Повезло! — заметил Башмаков.
— Борис Исаакович, иногда в споре можно поступиться мелкой деталью ради большой исторической правды.
— Не думаю. Большая историческая правда держится исключительно на мелких деталях. Но вы не так уж далеко отошли от истины. В первые годы советской власти на гербе действительно были плуг и молот, а позже плуг поменяли на серп. Я думаю, из-за того, что серп выглядит погеральдичнее...
— Ну вот видите!
— Да. А вашу повязку с посолонью я вам, Андрей Федорович, давно уже рекомендую снять. Очень уж на свастику смахивает.
— Это, Борис Исаакович, древний арийский знак.
— Я-то знаю. Но ведь вы это каждому не объясните! — возразил генерал.
Башмаков вдруг уловил некоторую наигранность в их словах и понял, что свой привычный спор они повторяют специально для него, оттачивая аргументы и проверяя реакцию нового человека.
— Но ведь вы же сами ходите со Сталиным.
— Я ценю в нем великого стратега и геополитика.
— А ГУЛАГ?
— ГУЛАГ он искупил победой над Гитлером. И кто вам сказал, что, если бы Ленин прожил лет на двадцать дольше, ГУЛАГа не было бы? Соловки ведь еще при нем появились.
— Но ведь вы это, Борис Исаакович, каждому не объясните.
— Видите ли, Андрей Федорович...
В это время над площадью разнесся громовой треск включенного микрофона. Зюганов поднял над головой руку и зарокотал:
— Товарищи! Преступный режим Ельцина...
До позднего вечера они слушали ораторов и скандировали что-то упоительно антиправительственное. Митинг закончился принятием резолюции о немедленной отставке Ельцина. После этого люди успокоились и пошли по домам. Площадь начала пустеть. Оставались лишь группки тех, кто не успел доспорить:
— ...Руцкой? Да что же вы такое говорите! Руцкой такой же мерзавец... Это он расколол коммунистов! А Хасбулатов вообще чечен... Они его специально в оппозицию внедрили. Он провокатор.
— Это ты провокатор!
Самая большая кучка собралась вокруг Каракозина. Джедай пел, наяривая на гитаре:
И чтоб увидеть свет зари
Измене вопреки,
Предателей — на фонари
Вдоль всей Москвы-реки!
Народ подхватывал:
Вдоль всей Москвы-реки,
И Волги, и Оки...
Когда песня закончилась, знакомый уже есаул Гречко обнял Каракозина и достал бутылку водки:
— Сам сочинил?
— Сам.
Потом, когда выпили, казак обнял уже и Бориса Исааковича, бормоча, что ничего против отдельно и конкретно взятых евреев он, конечно, не имеет, но всем им в совокупности не может простить расказачивания.
— Что они на Дону-то творили, нехристи в кожанках! Что творили!
Борис Исаакович согласился: да, расказачивание было трагедией русского народа.
— Казацкого народа, — поправил есаул.
— Допустим. Но евреи как нация к ней отношения не имеют. Хотя, конечно, среди большевиков было немало евреев...
— И к лютому убийству государя императора с чадами и домочадцами тоже не имеют отношения? Опять большевички виноваты?
— Да, большевики.
— А надпись еврейская на стеночке расстрельной?
— Надпись была на немецком.
— Врешь!
— Есаул, как вы с генерал-майором разговариваете? — прикрикнул Джедай.
— Виноват... Правда на немецком?
— На немецком, — подтвердил Каракозин и повернулся к Башмакову.
— На немецком! — кивнул тот, хотя понятия не имел, о чем идет речь.
— Ну, тогда все правильно, — заулыбался есаул, — революцию-то на немецкие денежки делали. Ленина с Троцким в вагоне из Германии привезли. И надпись на немецком. Все сходится... Выпьем, Исакыч!..
Когда они уже возвращались домой, Каракозин ядовито спросил:
— Борис Исаакович, значит, нельзя поступаться мелким фактом ради большой исторической правды?
— Нельзя.
— А строчечки-то на стене из Гейне были... «И только лишь взошла заря, рабы зарезали царя...»
— Говорите прямо. Гейне был евреем, так? Вы это, Андрей Федорович, имеете в виду?
— В общем, да.
— А если бы это были строчки из Пушкина или Рылеева? Это меняло бы дело? «Самовластительный злодей, тебя, твой род я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью я вижу!»
— Но ведь строчки тем не менее из Гейне. И Юровский был евреем, и Голощекин...
— Ах, Андрей, на все процессы надо смотреть исторически. Не забывайте, у евреев были очень сложные отношения с империей...
— А у вас? — неожиданно для себя спросил Башмаков.
— У меня? Я ведь, Олег Трудович, не еврей. Я — советский человек. И всю жизнь считал, что это очень хорошо.
— А теперь?
— А теперь не знаю... Я всегда считал главным историческую правду. И кажется, ошибался. Главное — миф, который создает себе каждый народ. Русские, например, считают себя освободителями. Евреи — мстителями. Неважно, насколько это соответствует действительности. Так они себя ощущают. Таковы их главные мифы. Русские при каждом удобном случае будут всех освобождать, проливая кровь и не спрашивая, хотят этого другие народы или не хотят. А евреи будут мстить. Если есть реальный повод для мщения — хорошо; если нет — его придумают. Революция — самое лучшее для мщения время. Вот почему так много евреев в любой революции. Вот почему Россия, когда ощущала себя освободительницей, так стремительно росла. Вот почему Германия всегда проигрывала. Нельзя победить, сознаваясь себе в том, что ты захватчик. Но сейчас все меняется... Сейчас у России вообще нет мифа. И в этом катастрофа...
— Значит, все дело только в мифе?! — Каракозин в волнении закинул гитару на спину.
— Да, в мифе, — кивнул генерал.
— Выходит, у какого народа воображение сильнее, тот и прав перед историей и Богом?!
— Перед историей — да. Перед Богом — нет... Кто знает, возможно, на судных весах будут взвешивать не только души, но и целые народы...
19
Эскейпер вдруг почувствовал жажду, отправился на кухню и напился из трехлитровой банки с уксусным грибом, похожим на серую неопрятную медузу. Бабушка Дуня называла его «грип». У Башмакова мелькнула даже мысль прихватить с собой на развод отпочковавшуюся маленькую медузку. И будет у него там, на Кипре, к изумлению слуг, трехлитровая банка с обвязанным серой марлей горлышком, а внутри...
Олег Трудович вздрогнул, почувствовав на своем плече чью-то руку. У него потемнело в глазах, и по телу пробежала знобящая слабость. Только не Катя! Она не должна... У нее же уроки! А с урока уйти она не может ни при каких обстоятельствах. Даже когда Катя была беременна тем, так и не родившимся, ребенком, когда чуть сознание не теряла от токсикоза, все равно с урока не уходила... Башмаков иной раз представлял себе Катю в виде юной комсомолки-партизанки, попавшей в плен к гестаповцам. Они осыпают ее киношными пощечинами, скалят зубы, повторяя: «Пароль! Говори пароль, сволотчь!» А она только молчит в ответ и сверкает ненавидящими глазами.
Башмаков внутренне сознавал, что, окажись он сам в этом воображаемом фашистском застенке, то выдал бы пароль при первом же грубом окрике. Явки, может быть, и не сдал, а пароль точно выдал бы...
Олег Трудович медленно обернулся.
Перед ним стоял улыбающийся Анатолич:
— Испугался?
— Н-немного...
— Ну извини! У тебя «накидушка» тринадцатая есть?
— Была.
— Представляешь, я вчера этому, из третьего подъезда, ну, у которого еще пудель ненормальный, дал на час. Вторые сутки пошли. Точно говорят: какая собака — такой и хозяин!
Башмаков, еще ощущая в ногах игольчатую слабость, взял кухонный табурет, отправился в коридор, достал с антресолей ящик с инструментами и нашел, погремев железяками, «накидушку», сохранившуюся с тех времен, когда он калымил на автостоянке.
— Спасибо! — сказал Анатолич. — Через полчаса отдам.
— Через полчаса не надо, — насторожился Башмаков. — Я скоро уеду. Завтра отдашь.
— Завтра так завтра. Спасибо!
— Назад опять через балкон полезешь или тебе дверь открыть?
— Давай через дверь. Я веревки для гороха натянул, неудобно перелезать. Чуть не свалился. А здорово я тебя напугал?
— Здорово...
Башмаков проводил соседа и закрыл дверь. Потом пощупал пульс — частый-частый. «Напугал, полканавт хренов!»
Было время, они с Анатоличем частенько лазали друг к другу через балкон. Кстати, свой второй, неудавшийся побег Башмаков совершил именно через балкон: вышмыгнул, незамеченный, через квартиру Анатолича. И, уезжая в такси, злорадно воображал, как жена начнет искать его по квартире, пугаясь и недоумевая, куда же мог подеваться муж, никуда вроде не отлучавшийся из дому. Анатолич, тогда еще майор, и жена его Калерия, или просто Каля, появились в доме лет четырнадцать назад. До них в двухкомнатной квартире проживала изможденная женщина с сыном-алкоголиком Герой. Гера запивал раз в полтора месяца, тогда соседка звонила Башмаковым в дверь и строго предупреждала:
— Герка будет деньги занимать — не давайте!
Но он у них ни разу не занимал. Дважды среди ночи плачущая соседка вызывала Башмакова вязать забуянившего Геру полотенцами. Третий раз Олега Трудовича в качестве понятого вызвал милиционер. Скрюченный Гера неподвижно лежал на тахте, залоснившейся до черноты, и лицо его напоминало зачерствевший плавленый сырок. Над покойником склонился врач. На столе стоял граненый стакан, покрытый изнутри коричневым налетом, как от крепкого чая, а рядом валялся шприц с иглой, затертой до желтизны. Размеченный рисками стеклянный цилиндрик и поршень были тоже грязно-коричневого цвета.
— Передозировка, — констатировал врач, распрямляясь.
— Подпишите! — приказал милиционер Башмакову и ткнул пальцем в протокол.
Было лето, и вскоре Башмаковы уехали в Крым по путевкам, которые — как всегда, за полцены — достал Петр Никифорович. А когда вернулись, заметили: дверь соседской квартиры обита красивым темно-вишневым дерматином, перетянутым золотыми шнурочками. Башмаков разбирал чемоданы, ругая Дашку за то, что она забыла в пансионате свои новые пляжные тапочки, как вдруг Катя поманила мужа пальцем и выпроводила на балкон:
— Посмотри, Тунеядыч, тебе полезно!
— Ну повешу я тебе новые веревки! Повешу! — огрызнулся Олег Трудович.
— Нет, ты посмотри, что они сделали!
Собственно говоря, балкон у них с соседями был общий, разделенный посередине упиравшейся в потолок гипсолитовой перегородкой. Башмаков перегнулся через железные перила и заглянул к соседям. Прежде там ничего интересного не наблюдалось: все пространство было тесно заставлено импортными бутылками, которые в пункте не принимались, и только очень редко, раз в год, во двор приезжали на грузовой машине особые стеклотарщики и брали «импорт» по две копейки за штуку. Этого счастливого момента и дожидалась, пылясь, нестандартная посуда на Герином балконе. И вот теперь вместо толпы пыльных емкостей, словно сбившихся на какой-то свой бутылочный митинг, потрясенный Башмаков обнаружил совершенно иную картину. Он увидел новенький навесной шкафчик с зеркалом, небольшой столик, прикрепленный к стене, примерно как в купе поезда, а к перилам с внешней стороны были прихвачены специальными скобами длинные ящики, из которых торчали юные перышки лука. Но больше всего Олега Трудовича поразил установленный у противоположной панели верстачок с тисочками и точильным колесиком. Из специальных ячеек торчали инструменты — отвертки, плоскогубцы, сверла, напильники... Чтобы рассмотреть все эти чудеса получше, Башмаков основательно перегнулся через перила. Как раз в этот момент на балконе появился, насвистывая, коренастый белобрысый мужичок в синей майке и черных сатиновых трусах.
— Здравия желаю, — сказал он, заметив башмаковскую голову в своих владениях.
— Здравствуйте, — отозвался Олег Трудович, понимая, что вот так сразу исчезнуть неприлично. — С новосельем!
— Спасибо.
— Красиво у вас тут теперь стало...
— Теперь — да. Столько грязи пришлось перетаскать. Вас как зовут?
— Олег, — ответил Башмаков и смутился.
Ситуация и в самом деле комическая: ведь обыкновенно имя относится ко всему человеку в целокупности, а не к одинокой голове, торчащей из-за перегородки.
— А меня Николай Анатолич. Предлагаю по чуть-чуть за знакомство! — новый сосед открыл дверцу под верстаком, вынул оттуда початую бутылку «Старки», две рюмочки и тарелочку с солеными домашними сухариками из бородинского хлеба.
Башмаков простер на дружественную территорию руку, с благодарностью принимая рюмочку. они чокнулись и выпили.
— Видел? — с радостным укором спросила Катя, когда он вернулся.
— Да! — откликнулся Башмаков, стараясь не дышать в ее сторону.
На следующий день утром он столкнулся с Анатоличем у лифта — тот был одет по форме: с майорскими погонами и артиллерийскими крестиками в черных бархатных петлицах. Башмаков (он тогда работал в «Альдебаране») был в сером финском костюме с металлическим отливом, в рубашке, галстуке и с портфелем. Анатолич уважительно покосился на портфель и спросил:
— А по отчеству как будете?
— Трудович... Странное отчество, правда?
— Нормальное отчество. У нас в дивизии зам. по тылу был, армянин, Петросян... Так его вообще Гамлетом Дездемоновичем звали. И ничего... В воскресенье приглашаем вас на новоселье!
Узнав о приглашении, Катя разволновалась, затеяла пирог с яблоками, и хотя несколько раз звонила матери, консультируясь, пирог не задался, расползся по противню и не пропекся. В последний момент Башмаков был откомандирован в магазин за тортом, и ему повезло: только что привезли страшный дефицит
— «Птичье молоко». Потерпев неудачу с выпечкой, Катя отыгралась на Дашке: надела на нее новенькое китайское платье, все в кружавчиках, и увенчала дочь таким огромным бантом, что при резком порыве ветра ребенка вполне могло унести, как на парусе. Потом жена долго не могла выбрать наряд для себя, советовалась с Башмаковым и дочерью. Олег Трудович порекомендовал золотистое платье, привезенное несколько лет назад Гошей из Стокгольма. Но оно было отвергнуто как слишком шикарное и нескромное для визита к соседям по лестничной площадке. Дашка настаивала на курортном сарафане с глубокой выемкой на спине и получила по попе за дурацкие советы. В результате был надет югославский брючный костюм. Костюм этот добыла одна из родительниц на праздничной распродаже в своем учреждении и предложила его Кате, так как в нервной суматохе схватила не тот размер. Катя долго колебалась: сын обладательницы костюма был жутким лоботрясом, за полугодие у него вырисовывалась твердая двойка по русскому языку. Понятно, что, взяв обновку без переплаты, пришлось бы натягивать ему тройку. Катя долго колебалась — и не устояла. Потом они, как и положено семье, идущей в гости, оснастились коробкой с тортом, слюдяным кульком с тремя гвоздиками и бутылкой шампанского, в последний раз глянули на себя в зеркало (Катя, вздохнув, поправила Дашке бант, мужу галстук), пересекли лестничную площадку и нажали кнопку звонка рядом со свежеобитой дверью. Открыла полногрудая, голубоглазая блондинка в облегающем вишневом платье с несоветским глубоким вырезом:
— Входите, пожалуйста!
Женщины мелькнули друг по другу взглядами, словно поединщики, мгновенно, по одним лишь им ведомым приметам оценивающие шансы противника. Кажется, обе молчаливо сошлись на том, что шансы примерно равны.
— Калерия, — сказала хозяйка, протягивая руку. — Можно просто Каля...
— Очень приятно... Катя.
— Ой, какая девочка! — Каля присела перед Дашкой. — Тебя как зовут?
— Дарья Олеговна, — заявила дочь, в ту пору именовавшая себя почему-то исключительно по имени-отчеству.
— А у нас для тебя дружок имеется. Костя, иди сюда! К нам тут такая хорошенькая девочка в гости пришла!
Никто не отозвался. Зато с кухни появился Анатолич в цветастом переднике:
— Стесняется. Потом придет. Катя, как вы относитесь к «Молоку любимой женщины»?
— Н-не пробовала... А что вы имеете в виду?
— Это вино такое — мы из Германии привезли.
Стол был отменный: несколько затейливых салатов, домашние соленья, заливная рыба, украшенная морковными звездочками, оранжево светившими из мутно-янтарной глубины подрагивавшего желе. Посредине раскинулся большой румяный пирог с белыми грибами. Башмаков не упустил возможность и глянул на жену с привычным упреком: вот ведь какие хозяйки бывают! Катя в отместку показала глазами на балкон: мол, чья бы мычала...
Расселись. Тут из комнаты появился щуплый мальчик в коротких штанишках. Он был острижен наголо — оставался только большой смешной чуб, почти закрывавший глаза. Мальчик тихо сказал «здрасте», перехватил высокомерный взгляд Дашки, покраснел и сел, уставившись в тарелку.
— Ничего, он еще не освоился. Только вчера приехал, — сообщила Каля и погладила ребенка по голове.
— Сколько ему? — спросила Катя.
— Во второй класс ходим. Только вот что-то растем плохо... Ну ничего...
Анатолич принес из холодильника «Посольскую» водку, разлил по рюмкам. На заиндевевшей бутылке, поставленной в центр стола, остались круглые проталины от пальцев. Дамы предпочли «Молоко любимой женщины». Выпили. Закусили. Из разговоров выяснилось, что Костя — сын товарища по артиллерийскому училищу. Койки рядом стояли. Теперь товарищ служит в Мурманске, а до этого сидел в Средней Азии на «точке», там была очень плохая вода, и он испортил себе желудок. Поэтому каждый отпуск ездит в Ессентуки, но в санаторий с женой еще можно, а детей ни за что не принимают. Вот они, проезжая через Москву, и оставили Костю у друзей.
— Как сын нам... — вздохнула Каля.
И в словосочетании «как сын», и в этом вздохе, и в том, как Анатолич виновато взглянул на жену, обозначилась на миг печальная тайна их бездетности.
— Давайте за родителей! — предложила тактичная Катя.
Между разговорами Башмаков оглядел квартиру: мебель обычная, но поражало обилие ковров, ажурных покрывал, леопардовых пледов, в серванте была развернута в полную мощь «Мадонна» — сервиз, без которого из Германии не возвращался ни один офицер. На тарелках, чашках, чайниках, соусницах уныло повторялись одни и те же пасторальные сцены, и почему эта посуда получила название «Мадонна», Башмаков так никогда и не узнал.
— Под Западным Берлином стояли, — доложил Анатолич, перехватив взгляд гостя, — на расстоянии гаубичного выстрела. Полк был рассчитан на пять минут боя с бригадой НАТО...
— Неужели всего на пять минут? — удивилась Катя.
— Но за эти пять минут можно сделать о-очень много! — пропела Каля, улыбаясь.
Дашка быстро наелась одними закусками, тяжко вздохнула, снисходительно посмотрела на Костю, так ни разу и не поднявшего глаз от тарелки, и смилостивилась:
— Ладно, пошли гулять!
Мальчик, просветлев, выскочил из-за стола.
После горячего — нашпигованного мяса под брусничным соусом (каждое блюдо Каля сопровождала подробными кулинарными комментариями) Анатолич вдруг спросил:
— А хотите, я покажу, где родился? Пошли!
Все отправились следом за ним на балкон.
— Во-он, видите, аптека? Там был наш дом. Корову держали, поросят, кур...
— А вон там, где автобусный круг, мой дом был, — сообщила Каля.
— Так вы из одной деревни?
— Ага. Только с разных концов. Деревня Завьялово называлась. И фамилия у нас тоже — Завьяловы. Знаете, Анатолич ко мне на свиданки вон тем оврагом добирался, через капусту. Даже из школы нельзя было вместе возвращаться... Мы тайком, на кладбище встречались! Или в Москву на автобусе ехали: там можно, там все чужие...
— Почему? — спросила Катя.
— Ну как же, он был с другого конца деревни. Лет восемьдесят назад его дед пырнул ножом моего деда... В общем, кровная месть, как у Монтекки и Капулетти.
— Он пырнул, не он пырнул, это не доказано, — уточнил Анатолич, — а вот то, что дедушка Калерии Васильевны, когда бились стенка на стенку, в рукавицу свинчатку засунул, это все знают!
— Вот только не надо искажать исторические факты! — возмутилась Каля. — Свинчатку мой дедушка положил в рукавицу, когда узнал, что твой дедушка своих дружков подговорил...
— Понятно, — кивнул Башмаков, — истоки конфликта теряются в глубинах истории.
— Да, в глубинах... — вздохнула Каля. — а потом приехали бульдозеры и все сломали, все глубины... И нет Завьялова. Одни Завьяловы остались... Из дальнейших рассказов вырисовывалась типичная история подмосковной деревни, сожранной разбухающим городом. Дома снесли, а людей расселили по всей Москве, но, несмотря на это, Коля и Каля не потерялись, а поженились сразу после школы, даже разрешение в райисполкоме пришлось получать. Потом юный муж уехал поступать в училище. Из всех курсантов он был единственным женатиком. Ко всем в училище родители ездили, а к нему супруга. Кстати, чтобы не издевались, он долгое время всем объяснял, что Каля — его сестра. И только когда на третьем курсе оскоромился еще один курсант, он признался.
После окончания училища Анатолича отправили сначала под Смоленск, потом еще куда-то, а затем уже в Германию. Повезло. Из ГДР в Подмосковье. Снова повезло. Хотя, возможно, это везение было связано с тем, что Каля всегда умела подружиться с женами начальников. На скопленное они купили однокомнатную кооперативную квартиру в Печатниках и сразу же стали искать варианты обмена с доплатой, чтобы вернуться в родные места. Тут-то по объявлению и позвонила башмаковская соседка, решившая после смерти Геры переехать в однокомнатную квартиру и подальше от страшного места. Башмаков сразу обратил внимание на то, с каким удовольствием, даже с гордостью Анатолич смотрит на свою жену. Катя потом часто ставила соседа в пример: мол, видишь, как жен любят? В Кале действительно была какая-та особенная, невыразимая словами тайная женская ценность, но не холодная, как в Принцессе Лее, а теплая, домашняя...
Обливаясь слезами и размазывая по лицу сопли, воротились дети. У Кости были сбиты в кровь колени и под глазом оформлялся значительный синяк. Кружева на Дашкином платье были оборваны, а бант напоминал парусную систему после серьезного шторма.
— Что это такое? — рассвирепела Катя. — Платье... Бабушка узнает...
— Дураки, приревновали меня к Коське, — сообщила Дашка, дергая плечиком,
— но мы им тоже дали! Правда, Коська?
— Правда, — кивнул мальчик и с обожанием сквозь слезы посмотрел на подругу.
Костя жил у Завьяловых почти месяц, и все это время они с Дашкой были неразлучны — даже в куклы вместе играли. Он покорно превращался в больного на приеме у зубного врача и отважно пробовал все блюда, приготовленные подружкой из травы, росшей возле подъезда. А в конце концов лишился и своего замечательного чуба, отхваченного ножницами во время игры в парикмахерскую. Когда его увозили в Мурманск, он рыдал.
Башмаковы и Завьяловы стали дружить: отмечали вместе праздники, ездили на пикники — у Анатолича был «москвичонок». Дашка любила ходить к тете Кале серьезно поговорить о жизни. Потом Анатолича отправили служить в Таджикистан. В квартире поселились какие-то их дальние родственники, но с ними отношения ограничивались «здрасте» и «до свидания». Завьяловы же появлялись раз в год и то проездом в санаторий. Вернулись они насовсем, когда вовсю шла перестройка, будь она неладна. За Анатоличем, уже полковником, стала заезжать черная «Волга», функционировавшая, правда, по принципу маршрутного такси — рядом жили еще три офицера Генштаба, где служил теперь башмаковский сосед. К большому праздничному обеду в честь их возвращения Катя, взяв реванш, очень удачно испекла огромный пирог с визигой. Пили за Москву, за скорейшие лампасы: должность у Анатолича была теперь генеральская, а перспективы — необыкновенные.
— Растешь! — похвалил Башмаков.
— Перестройка. Кадры решают все! — усмехнулся полковник.
В Таджикистане он прокоптился, стал еще поджарее и белобрысее, а Каля, наоборот, располнела, но осталась такой же белолицей, словно и не жила под палящими лучами. Кстати, встретила она их в пестром восточном халате и угостила настоящим пловом из казана. В Таджикистане у Анатолича был замполит, помешанный на аквариумных рыбках. А дело это заразное — и в квартире Завьяловых появился огромный аквариум.
— Рекомендую, лучше всякой релаксации оттягивает... Я когда из Афгана возвращался, потом часами сидел. Поглядишь-поглядишь — и отмокнешь...
— А что, посылали?
— Да, в командировку...
— Ну и как там?
— Горы...
Однажды (Анатолич дохаживал свои последние полковничьи дни) к Завьяловым снова приехал Костя. Дашка к тому времени у матери уже косметику таскала и плакала по ночам из-за того, что у подружки-одноклассницы ноги длинней и грудь наливистей. А Костя, хоть и был старше Дашки, так и остался щуплым, по-детски одетым мальчуганом с большим чубом. Только этот мальчуган неимоверно вытянулся и перерос даже Башмакова. Дашка посидела с ними немножко и засобиралась в кино.
— Возьми Костю, — шепнула ей Катя.
Дашка изобразила на лице презрительное недоумение, что в последнее время делала в ответ на любое замечание матери. И ушла. Костя, покраснев, сделал вид, что ничего особенного не произошло.
— Ваши планы на будущее, юноша? — чтобы замять неловкость, спросил Башмаков. — Чему посвятим жизнь?
— Борьбе с дураками! — буркнул Костя и вышел из комнаты.
— Какие могут быть у нас планы? — ответил за него Анатолич. — Есть такая профессия — Родину защищать.
— От кого? — удивилась Катя.
— Найдется от кого! — успокоил Анатолич.
— Если очень искать, то, конечно, найдется! Устроили тут Верхнюю Вольту с атомным оружием...
— Понятно. Газетки читаем. Новое мышление: армия не нужна, офицеры все — садисты и дармоеды...
— Ну, не знаю... Мои ученики из армии все какие-то изломанные возвращаются. Если бы у меня был сын, я бы его в армию не отдала!
— А я бы отдала! — вздохнула Каля.
— Неужели?! — поддела Катя с чувством превосходства рожавшей женщины над нерожавшей.
— Да, отдала бы! — твердо сказала Каля и строго глянула на соседку. — Нам бойцы после «дембеля» письма пишут и в гости приезжают...
— А у меня один выпускник вернулся из армии и сказал: накоплю денег, куплю ружье, поеду в часть и застрелю старшину! — почти радостно сообщила Катя.
— Очень вы тут в Москве все нервные! — пожала полными плечами Каля.
— Да уж куда нам до деревни Завьялово!
— Девочки, не ссорьтесь! — взмолился Башмаков.
Но было поздно.
После того неудачного разговора и Дашкиного небрежения Костей отношения между соседями похолодали. Нет, они не поссорились, но как-то само собой вышло так, что очередной праздник отмечали уже врозь. С Анатоличем Башмаков частенько встречался в лифте — размолвка жен на их отношениях особо не отразилась. Иногда они перекидывались несколькими фразами. В августе 91-го, когда на перекрестках стояли бронемашины, они снова столкнулись в лифте. На Анатоличе была полевая форма, на боку болтался планшет.
— В народ стрелять будете? — улыбаясь, спросил Башмаков.
— Вы сами себя смотрите не перестреляйте, демократы хреновы! — вздохнув, ответил полковник.
— Пиночет-то у вас хоть есть? — не остался в долгу Олег Трудович.
— Пиночета еще заслужить надо!
Вскоре Башмаков встретил Анатолича в штатском.
— В отпуске?
— Сократили.
— За что?
— Ни за что. Просто демократам артиллерия не нужна. Из Царь-пушки херачить будут...
— И куда ты теперь?
— Черт его знает... Соображу. Голова есть. Руки тоже. Прокормимся.
И сообразил — нанялся охранять автомобильную стоянку, которую буквально за неделю воздвиг на пустыре, как поговаривали, некий кавказец. Там давно уже планировалась детская площадка, и несколько мамаш ходили по квартирам, собирая подписи под воззванием к Гавриилу Попову, странному тогдашнему градоначальнику, похожему больше на хитроумного корчмаря-процентщика. Воззвание бесследно сгинуло где-то в канцелярских лабиринтах, а самую активную мамашу ввечеру прищучили в лифте и так пугнули, что весь ее темперамент иссяк. Стоянка была окружена сетчатым забором с колючей проволокой поверху, а посредине на пятиметровых стальных сваях, наподобие лагерной вышки, установили газетный киоск с надписью «Союзпечать», служивший сторожкой. Стоянка довольно быстро наполнилась машинами — в основном новенькими «Жигулями» и разнообразными подержанными иномарками. Имелся даже «линкольн» длиной в пол-улицы. А вроде совсем недавно покойный Уби Ван Коноби, привезший из загранкомандировки подержанную «симку», зарабатывал хорошие деньги, сдавая ее «Мосфильму» на время съемок кино про западную жизнь. А теперь по столице косяками летали «мерседесы», «ниссаны», «ауди» и «БМВ», в которых восседали неизвестно откуда вдруг возникшие крепкие парни с короткими стрижками и золотыми цепями на бычьих шеях...
На эту стоянку и устроился сторожем Анатолич. Соседи почти не виделись. Башмаков как раз наладился ездить в Польшу, а когда бывал дома, то с утра до вечера мотался по городу, набирая товар. Умников, сметающих для перепродажи все, что попадется под руку, развелось множество — и прилавки стояли пустые, как зимние поля. После катастрофы с приборами ночного видения Олег Трудович как-то забрел с бутылочкой к соседу — пожаловаться на жизнь. И тогда Анатолич предложил:
— А иди ты к нам!
На следующий день он поднял Башмакова в семь утра, и они пошли.
Хозяин приехал после обеда. В ворота вполз «крайслер» с затемненными стеклами. Дверь открылась, и показалась сначала коротенькая ножка в лакированном ботинке, потом огромный живот, обтянутый белой рубашкой, и наконец лысая голова с усами.
— Здравствуйте, Шедеман Хосруевич! — Анатолич зачем-то стащил шапку с головы.
— Здравствуй. Как тут дела?
— Нормально. Вот, вы просили человека найти... Я нашел.
Башмаков вышел из-за спины Анатолича и встал, переминаясь с ноги на ногу. Так неловко и тревожно в последний раз он чувствовал себя, когда его утверждали заведующим отделом на бюро райкома партии и покойный Чеботарев, постукивая прокуренными пальцами по знаменитой зеленой книжечке, смотрел на него строго-пытливым взором.
Шедеман же Хосруевич уставился на Башмакова внимательными, черными, как маслины, глазами.
— Пьющий?
— Нет. Только по праздникам.
— Смотри!
Так Башмаков начал работать на автостоянке: выписывал квитанции, открывал-закрывал ворота, если выдавалось спокойное время, помогал Анатоличу делать мелкий ремонт. Его удивляло, что, прослужив столько лет в армии, Анатолич вместе с формой словно снял с себя и все эти годы. Даже выправка сразу куда-то исчезла. Ходил он теперь сутулясь, а разговаривал тихо и чуть насмешливо:
— Мадам, можно не любить своего мужа. Но не любить свою машину...
— С чего вы взяли, что я не люблю мою машину?
— А вот посмотрите! — Анатолич, словно шпагу из ножен, извлекал из мотора масляный щуп. — Видите?
Ниже риски «min» набухала черная капля мертвой машинной лимфы.
— Ой! А у вас есть масло?
— Только для вас, мадам!
Первое время они трудились спокойно. Зарплата была неплохая. Кое-что удавалось выручить, пуская кого-нибудь без квитанции на постой. Кроме того, Башмаков изредка прирабатывал срочной мойкой или мелким ремонтом. Поначалу его пугали и раздражали здоровенные парни в черных кожаных куртках. Моешь такому, скажем, «БМВ», а он нервно ходит вокруг, то и дело срывая с пояса попискивающий пейджер или, как ствол, выхватывая из кармана «мобилу»:
— Нет, не освободился... Связался тут с одним козлом, никак машину не вымоет! Да ладно тебе! Ага, умный... Смотри, чтоб тебя не грохнули, пока я еду!
Башмаков, трепеща всем своим миролюбивым телом, ускорял помывку как только мог, а потом, приняв от бандюка шуршик, благодарно улыбался и ощущал в пояснице внезапную слабость, обрекавшую туловище на непроизвольный заискивающий, совершенно халдейский поклон. Но потом, когда свежепомытая машина отруливала со стоянки, на Олега Трудовича наваливался стыд, даже стыдобища. Нечто подобное, наверное, наутро испытывает добропорядочная дама, по роковому стечению обстоятельств отдавшаяся смердящему, запаршивевшему бомжу. Однажды вечером, лежа уже в постели, он смотрел по телевизору какой-то фильм про революцию. Там юная дворяночка выходит замуж за чекиста, простого деревенского парня. И вот свадьба, по-сельски пьяная и горластая. Мать невесты, ломая аристократические руки, жалуется родственнику, бывшему графу:
— Боже! У нас в доме... Эти... Видел бы мой покойный муж! Скажите, граф, что происходит? Ведь за моей дочерью ухаживал молодой князь Одоевский!
— Что происходит? — отвечает граф, жадно поедая свадебный студень. — Революция, сударыня! И скажите еще «спасибо», что этот вахлак на вашей дочери женится — мог бы и просто так... По праву торжествующего хама!
После окончания фильма и последовавших за этим необязательных супружеских объятий Башмаков спросил Катю:
— А ты бы могла?
— Что?
— Отдаться торжествующему хаму?
— Почему бы и нет? Он же победитель, — ответила Катя и повернулась к мужу спиной.
С тех пор Олег Трудович и смирился. Он словно чувствовал себя тайным аристократом, вынужденным скрывать свое происхождение в городе, захваченном торжествующими хамами. И если раньше, общаясь с клиентами, он с трудом удерживал на лице предупредительную улыбку и казнился потом за свои халдейские поклоны, то теперь, наоборот, стал получать даже какое-то мучительное удовольствие от собственной угодливости, ибо теперь это была никакая не угодливость, а умелая конспирация, требовавшая ума, артистичности, железной воли.
Довольно долго они жили спокойно. И вдруг как-то ночью кто-то свинтил с машин несколько зеркал и спер из салона магнитолу. Произошло все очень быстро: перекусили кабель-воздушку, и свет на площадке вырубился. В темноте воров не заметили. Шедеман Хосруевич устроил страшный разнос и вычел стоимость украденного из зарплат сторожей. Тогда, поразмышляв, Анатолич приволок большой моток кабеля и протянул его к соседнему дому. Но в течение месяца все было спокойно. И вдруг, как раз в их дежурство, снова посреди ночи погас свет. Анатолич выждал несколько минут — мол, пусть увлекутся — и врубил запасной источник: в ярком внезапном свете заметались фигурки в гимнастерках. Они бросились к ограде, но Анатолич выскочил из дежурки, скатился по металлической лестнице и громовым командным голосом рявкнул:
— Отставить! Ко мне! Бегом!
Наверное, человек в армии и в самом деле становится чем-то вроде дистанционно управляемой машины, надо только знать частоту, на которой подаются команды. Анатолич знал. К изумлению Башмакова, давно уже подзабывшего это особое армейское безволие, солдаты остановились и, словно влекомые неведомой силой, побрели к бывшему полковнику.
— Становись! — скомандовал Анатолич, когда бойцы приблизились. Они покорно построились. Четверо. Даже автоматически разобрались по росту. Анатолич несколько раз прошелся мимо строя, приказал одному застегнуть воротник. Потом отобрал у другого большие садовые ножницы с заизолированными длинными ручками.
— Умельцы! Из автобата?
— Так точно.
— Так я и думал... Олег Трудович, записывай фамилии!
Башмаков вынул из нагрудного кармана карандашик и бланк квитанции.
— Кормят, что ли, плохо? — спросил Анатолич, внимательно оглядывая злоумышленников.
— Так точно, — вразброд ответили бойцы.
— В тюрьме еще хуже кормить будут! Матери дома дни считают до возвращения детушек, а детушки с метровыми елдами в игрушки играют. — Анатолич хищно щелкнул ножницами. — А за такие игрушки три года не глядя дают. Комбат у вас все еще Суровцев или заменился?
— Суровцев... Мы больше не будем!
— Это вы, сержант, прокурору расскажете. Девок ваших, пока сидеть будете, всех разберут и перетопчут... Командир знает, что вы сюда повадились?
— Нет, не знает... Он ничего не знает! Ничего... — испуганным хором ответили бойцы.
— Я-а-асно. Получку-то офицерам дают?
— Нет. Четыре месяца не дают.
— Злые ходят?
— Злы-ые...
Анатолич несколько раз прошелся вдоль жалкой шеренги. Бойцы стояли испуганные и следили за бывшим полковником глазами, полными мольбы. Башмакова поразило, что они даже не помышляли о бегстве. Анатолич остановился, внимательно и долго посмотрел каждому в глаза и сказал:
— Олег Трудович, не надо записывать фамилии.
Потом он достал бумажник, отсчитал сначала пять купюр, потом, подумав, одну вернул назад в кожаные складки и всунул деньги в нагрудный карман сержанту:
— Поровну. И чтобы больше здесь я вас никогда не видел — под трибунал пойдете!
— Спаси-ибо, — нестройно пробасили бойцы.
— На здоровье, — ответил Анатолич ласково, а потом вдруг рявкнул грозно:
— Ра-авняйсь! Смир-рна! Нале-е-во! В расположение части строевым шагом арш!
И бойцы, лупя асфальт и показательно вытягивая мыски, замаршировали к выходу. Анатолич долго глядел им вслед, а когда они скрылись за деревьями, тихо попросил:
— Трудыч, будь другом, за водкой сбегай! Они пили до утра, и в первый раз Анатолич, всегда отличавшийся завидной умеренностью в алкогольных вопросах, напился в стельку. Он скрипел зубами, стучал кулаком по столу, хватал Башмакова за грудки:
— Ты мне объясни, что происходит! Что?! У меня отец в Померании погиб! Дядька без ног пришел! Мы Берлин взяли! А потом все отдали! Все!!! Армию в помойку выбросили. У этих пацанов на прошлой неделе лейтенант застрелился. Мне рассказали... Денег нет. Двое детей. Он целый день в ангаре с техникой, а жена... А что ей еще делать? Ну, плюнут ей в матку — зато детей и мужа можно накормить! Лейтенантик узнал — и из табельного шлепнулся! Знаешь, сколько таких самошлепов теперь в армии? Все время шлепаются! Эпидемия! Я ведь, когда меня выкинули после беспорочной службы, тоже хотел... Но сначала... Понимаешь, если б каждый, перед тем как шлепнуться, пошел бы и хоть одну только гниду прикончил! Хоть одну! В Кремле или еще где-нибудь... Может, все бы по-другому у нас было? Как считаешь, Трудыч?
— Н-не исключено... Но ты-то никого ведь не шлепнул!
— Никого. Не могу! Калька ни разу ни на одного мужика даже не глянула! Куда она без меня? Но за это на том свете я буду вариться в походном котле. Знаешь, здоровый такой, на колесах? А черт мне будет по башке поварешкой лупить и приговаривать: «Варись, сапог, варись, трус поганый!»
— Д-допустим... Но у лейтенанта-то жена, скажем интеллигентно, на других смотрела, а он все равно никого в Кремле не шлепнул. Парадокс?
— Парадокс-с!
— А вообще, хоть один офицер хоть какого-нибудь самого завалящего демократа шлепнул?
— Не слышал.
— И я не слышал. Парадокс?
— Парадокс-с...
Потом они обнялись и пели:
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат!
Пусть солдаты немно-ого поспят!
— А знаешь, Анатолич, как мы в райкоме эту песню переделывали?
— Как?
— А вот так:
Комары, комары, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты орлом посидят!
А что война для комара,
Ведь комару пожрать пора...
— Вот так вы в своих райкомах страну орлом и просидели... — грустно молвил Анатолич. — Переделали!
— А вы в своих генштабах?
— И мы...
Утром, сдавая дежурство, они заплетающимися языками, перебивая друг друга, рассказали сменщикам о случившемся. Пока выпивали на дорожку, приехал хозяин: кто-то оперативно стукнул ему на пейджер. В ворота медленно вполз «крайслер». Как всегда, показалась сначала нога, потом живот и наконец — голова с усами. Хозяин был в ярко-красном кашемировом пиджаке и галстуке-бабочке. Сквозь затемненные стекла автомобиля просматривался женский силуэт. Судя по одежде и сыто-невыспавшемуся лицу, Шедеман Хосруевич прибыл прямо из ночного клуба.
— Зачем отпустил? — сурово спросил он.
— Отпустил и отпустил, — с необычной суровостью буркнул Анатолич.
Хозяин подозрительно понюхал воздух, оценил амплитуду покачивания подчиненных и потемнел:
— Пили?
— Пили, — с вызовом ответил Анатолич.
— Чуть-чуть, — уточнил Олег Трудович.
— Я тебя уволил, — сообщил Шедеман Хосруевич сначала почему-то Башмакову, а затем продолжил кадровую чистку: — И тебя... Я думал, ты, полковник, серьезный человек, а ты — пьяный ишак!
— Кто ишак? — Анатолич шагнул к хозяину.
В это время дверь машины распахнулась, и оттуда с томной неторопливостью явилась пышноволосая девица в облегающем платье из золотистого плюша. Впрочем, какая там девица! Кожа на ее немолодом уже лице была ухожена до лоснящейся ветхости, глаза ярко накрашены, а светлые волосы кудрились с неестественной регулярностью.
«Парик», — догадался Башмаков.
— Шедеман, — она топнула ногой, обутой в черный замшевый ботфорт, — хватит, поехали!
Если бы не голос, Олег Трудович так, наверное, никогда бы и не узнал в этой Шедемановой подруге Оксану — свою первую, «недолетную» любовь. Они встретились взглядами. Да, это были те же глаза — светло-голубые, но только уже не лучистые, а словно бы выцветшие. Оксана равнодушно скользнула взглядом по Башмакову, не узнавая, передернула плечами и повторила:
— Поехали домой! Я хочу спать, я устала...
— Поехали. — Шедеман Хосруевич покорно стал затрамбовываться в машину и, багровея от неравной борьбы с животом, прохрипел: — Больше я вас здесь не видел!
— Да пошел ты, чурка долбаный! — ответил Анатолич.
Машина уехала.
— Не узнала! — облегченно вздохнул Башмаков.
Они отправились домой, прихватив по пути еще бутылку. Русский человек последователен — он должен напиться до ненависти к водке.
— При советской власти хрен бы ты водку в восемь утра купил! — высказался Анатолич, оглаживая поллитру.
— Это точно. А жить было все-таки веселее! Парадокс?
— Парадокс-с. Идем ко мне!
— А Калька ругаться не будет?
— Нет, не будет.
— Парадокс?
— Никакого парадокса. мы войдем тихонько, она и не проснется.
Дверь Анатолич открывал старательно тихо, пришептывая:
— Без шума, без пыли слона схоронили...
Калерия, в длинном черном халате с усатыми китайскими драконами, встречала их на пороге.
— Ого! — сказала она, оценивая состояние мужа. — С горя или с радости?
— С горя. Нас уволили, — сообщил Башмаков.
— Понятно. Спать будете или допивать?
— Честно? — Анатолич посмотрел на жену долгим, любящим взглядом.
— Честно!
— Допивать.
— Хорошо, я сейчас закуску порежу. Сколько у вас выпивки?
— Айн бутыльсон, — сообщил почему-то не по-русски Башмаков.
— Но это последняя. Договорились?
Каля накрыла им стол и ушла.
— Парадокс! — восхитился Башмаков. — Моя, знаешь, что бы сейчас сделала?
— Что?
— Страшно сказать! А твоя... Счастливый ты мужик! — Олег Трудович вдруг
встрепенулся. — Слушай, а какая у Кальки грудь?
— Что ты имеешь в виду? — сурово уточнил Анатолич.
— Форму я имею в виду. А что еще можно иметь в виду? Нарисуй!
— Зачем?
— Это для науки. Ты рисуй, а я буду клас... клафиссицировать...
— Мою жену классифицировать могу только я. Ты понял? Или объяснить?
— Эх ты! — Башмаков обиделся до слез. — Ну ударь! Бей соседа!
— Ладно тебе... Но про такие вещи ты меня больше не спрашивай! Миримся?
— Не сердишься?
— Нет.
— Парадокс?
— Парадокс-с.
Они пожали друг другу руки и поцеловались.
— А с Катериной ты сам виноват. Женщину нужно баловать! Подарки дарить. Если ты сегодня к ней с подарком придешь, она слова тебе не скажет.
— С каким подарком?
— С любым. Подари ей... — Анатолич окинул глазами комнату. — Да хоть рыбок... Рыбок ей подари!
— Зачем?
— Во-от! Поэтому у тебя с Катькой и не ладится! Подарок дарят не «зачем», а «почему»!
— Почему?
— Потому что любят!
Анатолич принес с кухни литровую банку и, вооружившись сачком, долго гонялся по аквариуму за увертливыми рыбками, взметая со дна хлопья ила.
— Погоди, сейчас они успокоятся. Знаешь, Трудыч, если и в самом деле люди рождаются после смерти в другом самовыражении, я бы хотел меченосцем родиться. Ты посмотри! — он ткнул пальцем в ярко-алую рыбку с черным шпаговидным хвостом. — Красавец!
Наконец рыбки были пойманы. Башмаков, прижав банку к груди, налетая на косяки, двинулся к выходу.
— Нет, ничего ты в подарках не понимаешь! Нужен сюрприз. Она должна открыть глаза, а на тумбочке — рыбки... Понял?
— Нет.
— Объясняю: лезешь через балкон. Она думает, что ты вообще еще не пришел домой... А ты пришел — и с рыбками!
— Парадокс?
— Парадокс-с.
Эта идея страшно воодушевила Башмакова. Он легко, словно воздушный акробат, перескочил на свою половину балкона, после чего Анатолич, перегнувшись через перила, подал ему банку.
— Погоди! Посошок...
Он сбегал за рюмочками, и они выпили как тогда, в первый день знакомства.
Больше Олег Трудович ничего не помнил. Проснулся он оттого, что душа устала плутать по ярким, головокружительным лабиринтам пьяного сна. Он несколько раз пытался выбраться из лабиринта, но попадал в новые и новые сюжетные извивы, оканчивавшиеся тупиками, пока не ухватился за тонкую серебряную ниточку, она-то и вывела его на волю. Башмаков открыл глаза и увидел родной потолок с пятном от неудачно открытой бутылки шампанского. А серебряной ниточкой оказался Дашкин голосок:
— Ой, какие рыбки! Откуда?
— Это подарок. А где мама?
— Десятые классы в Суздаль повезла. Еще вчера! Мама же тебе говорила... Не пей столько — козленочком будешь!
В середине дня заглянул бодрый Анатолич со здоровенной сумкой картошки и двумя бутылками пива:
— Ты как?
— Нормально, — ответил Башмаков слабым голосом.
— Может, похмелишься?
— Нет! — в ужасе поперхнулся Башмаков, борясь с тошнотой.
— Ну смотри... Звонил Шедеман и сказал, что погорячился. Велел на работу выходить. Такого с ним еще ни разу не было!
— Значит, узнала, — прошептал Башмаков. — Парадокс...
20
Телефон зашелся частыми междугородными звонками. «Дашка!» — сообразил эскейпер и потянулся к трубке. Но поднять все-таки не решился: говорить с дочерью как ни в чем не бывало он не мог. Ситуация в общем-то подловатая: дочка где-то там, в Богом забытой бухте Абрек, посреди скудного и сурового быта, готовится произвести на свет первенца, а ее папаша, можно сказать, без пяти минут дедушка, собирает манатки, чтобы с юной любовницей отлететь на Кипр — к вечно теплому морю, под сень олеандровых кущ, в рододендроновые ароматы, на самовозносящуюся к небесам кровать...
«Потом напишу и все объясню!» — решил он.
Телефон смолк на полугудке. И Башмаков постарался затолкать мысль о дочери подальше, в безответственную глубину сознания, как затолкал некогда память о той, последней встрече с Оксаной. Он, между прочим, это умел — заталкивать неприятности в самый дальний, темный, редко посещаемый закоулок памяти, туда, где клубились, теснясь, как в узилище, тени самых гнусных событий его жизни, а также страшные сны, наподобие того жуткого сна про отца и безногого Витеньку. Но иногда эти изгнанные воспоминания нагло врывались в светлую часть минувшего. Чаще всего это случалось во время бессонницы или длинной скучной дороги, но иногда совершенно ни с того ни с сего. Олег Трудович мог безмятежно мыть после ужина посуду — как вдруг цепочка ленивых предпостельных мыслеформ обрывалась, и из мрачных глубин всплывали лучащиеся презрением Оксанины глаза или высовывалась циклопическая рука инвалида Витеньки с пороховой отцовской наколкой: «Труд». Башмакова сотрясал озноб, он мотал головой, отгоняя назойливое воспоминание, и даже мог заверещать тонкой скороговоркой:
— Нет-нет-нет-нет!
— Что с тобой, Тапочкин? — удивлялась Катя.
— Ничего. Желудок что-то крутит...
Не мог же он объяснить ей, что как раз в этот момент вдруг вспомнил про Оксану или про то, как уходил от нее, Кати, через балкон к Нине Андреевне!
Честно говоря, Башмаков никогда бы и не решился на вторую попытку к бегству, если бы не одно важное обстоятельство: жена ему изменила. И это нарушило, уничтожило многолетнюю семейную традицию, в соответствии с которой Олег Трудович являл собой грешащую, даже свинячащую, но неизменно прощаемую сторону, а Катя, наоборот, стерильно чистую и без устали прощающую. Нельзя сказать, что измена жены потрясла или уничтожила его, нет, произошло нечто другое. Так случается иногда с новой мебелью... Допустим, на новеньком столе вдруг обнаруживается белесый и непоправимый след от утюга. Этот след можно закрыть вазой, салфеточкой или скатеркой, но он все равно время от времени будет лезть в глаза и постепенно приближать к мыслям, что мебелишка уж свое отслужила, застарела и пора бы ее, наконец, сменить!
После тридцати Катя превратилась в Екатерину Петровну. Девичья, довольно долго сохранявшаяся худоба преобразилась в зрелую стройность со всеми необходимыми женской фигуре обогащениями. Башмаков во время воскресных семейных прогулок даже перехватывал примерочные взгляды прохожих самцов, но в жене он был уверен, как можно быть уверенным в собственных частях тела, хотя причину такой безоглядной уверенности, если бы его попросили, объяснить бы не смог. Даже успокаивая брошенного Джедая, Башмаков тем не менее испытывал к нему легкое презрение и чувство безусловного превосходства.
И ведь если кому-нибудь рассказать, что все дело исключительно в конфигурации груди, никто не поверит! Но все совпадает. Форма «киви» сообщает женщине: сильный характер, преданность и постоянство, злопамятность. И лишь потом, когда все выяснилось, он новыми глазами взглянул на привычную Катину грудь и вдруг обнаружил в ней еле уловимую грушевидность. А «груша» — это, как известно, самая неприятная форма, свидетельствующая о непостоянстве и своенравии. Впрочем, вполне возможно, что эта грушевидность померещилась ему от огорчения.
Вообще, преподавательская работа сильно повлияла на Екатерину Петровну. К примеру, привыкшая стоять к доске передом, а к классу задом, она научилась чувствовать ситуацию спиной. После ужина, склонившись над раковиной с грязной посудой, жена часто выговаривала Дашке за очередную тройку или скверное поведение на уроке, но если Башмаков имел неосторожность успокаивающе подмигнуть провинившейся, то немедленно следовал громовый окрик:
— А ты, добрый папа, пожалуйста, не лезь! Олег Трудович тоже обладал спинной чувствительностью, но в гораздо меньшей степени. Иной раз, сидя возле своего любимого аквариума (а все началось с той банки, подаренной Анатоличем), Башмаков вдруг начинал ощущать знобкую неуютность, а когда оборачивался — обнаруживал жену, которая, по всем приметам, уже давненько стояла у него за спиной.
— Тебя хоть что-нибудь, кроме этого (кивок на аквариум), в жизни интересует?
— Конечно! — отвечал Башмаков с вымученной игривостью, вставал и шел обнимать жену.
Но с таким же успехом можно было обнимать памятник Крупской на Сретенке. Это совсем не означало, что Екатерина Петровна полностью потеряла плотскую заинтересованность в муже. Напротив, интерес стал мощнее и требовательнее, но... как бы поточнее выразиться... локальнее. Да, именно локальнее. Прежде ночное соединение являло собой лишь последнее звено в цепи прожитого дня, а чаще недели или двух. И в этом последнем звене соединялось все: ссоры и примирения, бытовые обиды и мелкие коммунальные радости, жизненные удачи и провалы. Теперь же это стало совершенно самостоятельным, почти изолированным от всего остального актом. Так в тонущем пароходе залитые мертвой водой отсеки совершенно не сообщаются с другими, в них можно еще жить и даже обниматься. Кроме того, Екатерина Петровна больше не ждала милостей от мужа, а брала их ласковой, но твердой рукой.
Да, Катя сильно изменилась. Ее слегка подкрашенные глаза излучали теперь не нежное изумление перед жизнью, но спокойное и чуть насмешливое презрение умной, волевой и недоласканной женщины. Было и еще одно немаловажное обстоятельство: жена довольно быстро сделала карьеру — стала завучем. Она была строга: прийти к ней на урок, не выполнив домашнего задания, мало кто отваживался.
Однажды Олег Трудович по какой-то бытовой надобности зашел к жене в школу часов эдак в шесть. Коридоры были уже пустынны, классные комнаты безмолвны, и лишь из кабинета литературы доносился какой-то гул. Он заглянул: за партами сидели старшеклассники, в основном парни, человек десять, и хором бубнили:
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег...
Выяснилось: Екатерина Петровна их всех наказала и распорядилась пятьдесят раз прочитать вслух и хором невыученное дома стихотворение, а сама ушла по делам в учительскую. Башмакова поразил не тот факт, что его жена налагает на детей наказание, напоминающее епитимью (времена-то были еще советские), а то обстоятельство, что ученики даже в ее отсутствие не пытались схитрить и покорно бубнили:
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...
Катю Башмаков нашел в кабинете завуча — она занималась с каким-то шалопаем. Кстати, жена очень прилично прирабатывала репетиторством, так что даже в самые лучшие времена, когда Башмаков защитил диссертацию и стал начальником отдела, получали они примерно одинаково. О более поздних временах — когда, благодаря знаменитому бандиту Коровину, школа стала лицеем — и говорить нечего! Лицей облюбовали «новые русские». По утрам школьный подъезд напоминал подъезд посольства, устроившего дипломатический прием: иномарки цугом. Так что в последние годы кормилицей в семье в основном была Екатерина Петровна.
Став добытчицей, она даже слегка тронулась характером. Например, семейные деньги (так повелось сразу после свадьбы) лежали всегда в хлебнице, и каждый брал столько, сколько потребуется. И вдруг однажды они исчезли. Олег Трудович, в ту пору безработный, с ужасом обнаружил это, снаряжаясь за пивом. Он деликатно спросил у супруги, не с разгулом ли организованной преступности связано то, что она поменяла место хранения семейных средств. Но Катя твердо и даже надменно ответила, что деньги достаются ей слишком тяжело («Попробуй порепетируй с жертвами бытового алкоголизма!»), а Башмаков этого не понимает и, как все безработные и низкооплачиваемые персонажи, склонен к транжирству.
Был и другой случай. Однажды Каракозин, только что брошенный Принцессой, запил, забуянил, и Олег Трудович повез его домой да и остался там ночевать. Кате он позвонил поздно, натяжеле и поэтому довольно невнятно объяснил причину своего отсутствия в супружеской постели. На следующий день по возвращении домой он был демонстративно, в присутствии Дашки, лишен недавно справленной замшевой куртки, причем с унизительной мотивировкой: ты, мол, на такую куртку не зарабатываешь, и вообще от тебя одни убытки. И наверное, оттого, что в Катиных словах содержалась изрядная доля истины, Башмакову стало особенно, буквально до слез, обидно. Правда, через день жена одумалась, даже извинилась и куртку вернула, но рана в душе осталась...
Теперь, собственно, об измене. Конечно, никого Олег Трудович не заставал при непосредственном любодействе, это вообще случается не так часто, как можно заключить из романов и кинофильмов. Он даже не обнаруживал очевидных знаков супружеской неверности, как-то: позднее возвращение домой со следами неумеренных лобзаний на теле или письмо с перечислением интимных подробностей незабываемого свидания. Он не встречал Катю идущей на улице в обнимку с посторонним мужчиной. Женщины вообще в этом деле гораздо бдительнее и таких глупостей, как помада на воротничке или тихо излучаемый волосатым торсом запах чужой «шанели», они себе не позволяют. Олег Трудович обнаружил факт измены исключительно дедуктивным методом. А началось все с того, что в лицее возник новый преподаватель истории, Вадим Семенович. Впрочем, он работал там и раньше, но почасовиком — появлялся два раза в неделю и в жизни педколлектива специального участия не принимал, хотя уже и тогда производил на Катю некоторое впечатление. А тут вдруг он перешел на полную ставку. Фамилию его Башмаков так и не выяснил. Зачем? Разве с помощью фамилии соперник вторгается в принадлежащую тебе женщину?
О великом Вадиме Семеновиче жена стала рассказывать все чаще и все восторженнее. Конечно, можно было насторожиться уже тогда: ведь если речь заходила о новом историке, сдержанная обычно Екатерина Петровна вдруг утрачивала всю свою холодную насмешливость и живописала Вадима Семеновича с такой горячностью, что даже вызывала снисходительную усмешку Дашки. Причины же восторгов сводились к следующему. Вадим Семенович был вегетарианцем и каратистом. Как-то раз он поспорил с учителем физкультуры: у кого пресс крепче — и прямо в учительской на глазах педагогов предложил спор этот разрешить, так сказать, практически. Когда физрук ударил его кулаком в живот, он даже не пошатнулся, а вот когда Вадим Семенович таким же способом проверил тренированность пресса физрука, тот скрючился и повалился на пол. Далее, у Вадима Семеновича была своя собственная концепция мировой истории. Он считал, что не было никакого древнего мира, никаких Древних Греций и Римов, — все это результат путаницы в хронологии и неточных переводов первоисточников. Он утверждал, что европейская история началась с Диоклетиана, создавшего первую империю со столицей в Никомедии.
— Погоди, — обалдел, впервые услышав об этом, Олег Трудович. — А Колизей? А Парфенон?! А пирамиды?!!
— Пирамиды — это усыпальницы византийских императоров. Колизей был построен после завоевания Карлом Великим Италии, а Парфенон — это вообще храм Пресвятой Девы, сооруженный в Афинском княжестве в XIV веке!
— А Гомер? — Олег Трудович напрягал школьную память.
— А Гомер — это граф Сент-Хомер, писавший на самом деле о подвигах крестоносцев!
— М-да...
— И татаро-монгольского нашествия, между прочим, не было...
— Совсем?
— Совсем.
— А что было?
— Была казачья орда — регулярные войска. От слова «орднунг» — порядок. Население платило подать на содержание войска. Потом по недоразумению это стали считать данью. А Батый — это казацкий атаман, батя...
— Ни хрена себе батя!
Оказалось, новый учитель устроил для коллег своего рода спецсеминар, и Екатерина Петровна старательно записывала весь этот бред в тетрадочку. Полистав конспекты, Башмаков обнаружил вдобавок, что Иисус Христос — это на самом деле император Юлиан-философ, чья мумия до сих пор под именем фараона Ра-Мессу Миамуна хранится в Каире. Первыми забили тревогу родители одиннадцатиклассников: детям ведь в институты поступать. Они вызвали какую-то комиссию. Комиссия, посидев на уроке и послушав, как Вадим Семенович доказывал, будто Куликовская битва случилась не на Куликовом поле, а в центре нынешней Москвы — в Кулишках, постановила: запретить учителю истории морочить голову подрастающему поколению. Но они плохо знали Вадима Семеновича. тот дошел до замминистра просвещения Акмолова и в течение трехчасовой аудиенции (сначала ему было выделено пять минут) убедил руководителя в том, что под именем Ивана Грозного на самом деле скрываются три разных царя, а Степан Разин был последним Рюриковичем, подло изведенным интриганами Романовыми. Акмолов дал указание в порядке эксперимента разрешить в лицее преподавание двух альтернативных курсов истории, причем ученики могли выбирать сами. Но родители, боясь, что приемным комиссиям трудно будет объяснить, что Чингисхан и Рюрик — это одно и то же лицо, не пускали детей к Вадиму Семеновичу. И эксперимент прекратился как-то сам собой.
— Власть тьмы! — заявил по этому поводу неугомонный историк на педагогическом совете.
Но своеобычным взглядом на мировую историю достоинства Вадима Семеновича не исчерпывались. Он, по словам Екатерины Петровны, был тем былинным типом мужчины, который соединяет в себе мощь духа с необыкновенными рукотворными способностями. Когда в конце 80-х на учительскую зарплату стало невозможно жить, он, освоив искусство кладки каминов, зарабатывал очень приличные деньги. Камины Вадим Семенович украшал мрамором и гранитом, каковые совершенно бесплатно добывал на огромной свалке камнетесных отходов в Долгопрудном, под Москвой. Он уверял, что Микеланджело при желании мог бы там, в Долгопрудном, найти кусок мрамора для еще одного Давида с пращой. И наверное, чтобы окончательно добить мужа, Екатерина Петровна рассказала, какой Вадим Семенович неповторимый отец. Он разработал особую музыкальную программу, вобравшую в себя все — от реконструированного свиста гуанчей до Губайдуллиной, и заставлял свою жену во время беременностей каждый день слушать музыку. Более того, рожала она в присутствии мужа, и не просто как-нибудь там, а в воду! И вот результат: оба сына обладают абсолютным слухом, кроме того, старший самостоятельно выучил санскрит, а младший (в восемь лет!) иллюстрирует Борхеса. Но и это еще не все. Одну из четырех комнат своей квартиры Вадим Семенович превратил с спортзал с тренажерами и шведской стенкой, причем сделал все это своими руками!
А квартиру, между прочим (рассказывая это, Екатерина Петровна глянула на мужа особенным образом), Вадим Семенович получил вместо своей двухкомнатной хрущевки очень оригинальным способом. Он написал письмо Горбачеву о том, что внутри собственной семьи ставит уникальный эксперимент: воспитывает детей как гармоничных сверхлюдей коммунистического будущего — и на тридцатиметровой жилплощади продолжать его не может. Необходимо по меньшей мере сто квадратных метров. Горбачев, естественно, никоим образом не отреагировал. Тогда Вадим Семенович сделал вот что: на Красной площади, возле Исторического музея, он разбил палатку, написал на транспаранте свои требования, залег и объявил голодовку, а дети, стоя снаружи, всячески поддерживали отца: младший исполнял на скрипке концерты Моцарта, а старший декламировал на санскрите Калидассу. Палатка простояла всего четверть часа до прихода милиции, но этого хватило, чтобы сюжет об умирающем с голоду отце двух вундеркиндов появился в СNN. Горбачев в это время был с женой и своим новым мышлением за границей, кажется в Германии, и на итоговой пресс-конференции сразу несколько журналистов, страдальчески морща лбы, задали вопросы о судьбе голодающих вундеркиндов. Горбачев как-то выкрутился, ссылаясь на отсутствие альтернативы реформам, но Раиса Максимовна, фигурявшая за границей в виде покровительницы детей и изящных искусств, по прилете домой страшно наорала на Ельцина, который как раз в ту пору выступал первым секретарем московского горкома партии. С этого, если верить Вадиму Семеновичу, и началась вражда, в конечном счете погубившая не только самого Горбачева, но и целый Советский Союз! А квартиру им дали буквально через несколько дней, в хорошем доме на Таганке; на одной лестничной площадке с ними оказались космонавт, народная артистка и сын кремлевского парикмахера.
Почти каждый день за ужином Олег слышал о Вадиме Семеновиче все новые и новые достопримечательные подробности. То он швырнул через бедро забредшего в школу агрессивного бомжа, то перевел двоечников на раздельное питание — и успеваемость сразу же метнулась вверх, а то к 8 Марта каждой лицейской даме написал по акростиху. Екатерине Петровне досталось вот такой:
Когда я встретил вас —
Ах, как сказать мне это? —
То в этот самый час
Я вздрогнул, как от света.
— Правда, здорово: «Я вздрогнул, как от света»? — Катя была в таком восторге, точно преподавала не литературу, а какое-нибудь домоводство и стихов прежде не читывала. Но и тогда Олег Трудович ничего не заподозрил!
А потом на зимние каникулы Башмаков с Дашкой поехали в дом отдыха под Новгород. Екатерина Петровна занималась русским языком с сыном туристического агента, и тот расплатился путевками. Поначалу с Дашкой должна была ехать она сама, но потом вдруг возникла проблема с оформлением методического кабинета — и в дом отдыха был отправлен безработный и потому безропотный в ту пору Олег Трудович. Когда они вернулись, Башмаков сразу почувствовал некую перемену, но только через несколько дней сообразил, в чем дело: жена ничего больше не рассказывала о Вадиме Семеновиче.
— А как поживает ваш великий Вадим Семенович? — спросил он с живейшим и совершенно невинным интересом.
— При чем здесь Вадим Семенович? — насторожилась Екатерина Петровна.
— Да так, я на отдыхе, знаешь, поразмышлял, сопоставил кое-что и пришел к довольно странному выводу... — Олег Трудович сделал многозначительную паузу. — Сказать?
— Говори. Я тебя слушаю, — побледнела жена.
— Так вот, я пришел к выводу, что Ленин и Леннон — это одно и то же лицо, просто историки немножко напутали, — вывалил Олег Трудович и, восхищенный своим остроумием, заржал.
— Какой же ты дурак! — не поднимая глаз и очень тихо сказала жена.
Больше об учителе истории они не говорили. Не придал Олег Трудович значения и некоторой интимной подробности. Жена стала как-то совсем уж к нему нетребовательна, и конечный результат размеренных супружеских объятий почти перестал ее интересовать. Ну, как если бы взявшую накануне олимпийское золото бегунью заставляли участвовать в рутинном клубном кроссе. Но это Олег Трудович понял гораздо позже. А ведь был еще целый ряд дополнительных признаков. Например, Катя стала допоздна засиживаться в школе, ссылаясь на трудности, связанные с введением новых программ по литературе. Вскоре она нашла какого-то ученика, жившего чуть ли не за окружной дорогой, и стала ездить к нему, тратя по часу в один конец, хотя всегда до этого предпочитала заниматься репетиторством у себя в кабинете. Возвращалась она домой поздно и такая усталая, что почти сразу ложилась спать, даже если в мойке возвышалась гора грязной посуды, — а это уж совсем было на нее не похоже!
Накануне 23 февраля Башмаков, в который раз объявив войну животу и решив начать по утрам бегать, залез в поисках своей старой, райкомовских времен, «олимпийки» в медвежий угол гардероба и вдруг обнаружил там алую глянцевую коробку с очень красивым галстуком от Диора. Сам он галстуков почти не носил, достаточно натерев ими шею еще во времена райкомовской молодости, и предпочитал теперь разные там свитерочки и маечки. Но тем не менее в его мозгу забрезжило некоторое обидное недоумение. Он положил коробку на кухонный стол и стал ждать возвращения жены.
— Это не тебе! — холодно сказала она, войдя и увидев галстук.
— А кому?
— Вадиму Семеновичу.
— Да? — усмехнулся Башмаков.
Смысл и назначение усмешки заключались в том, что в прошлом году жена к 8 Марта получила в подарок в школе какой-то дешевенький дезодорант, годный лишь на то, чтобы освежать воздух в туалетной комнате.
— Да, — твердо ответила Екатерина Петровна, мгновенно расшифровав и отринув башмаковскую иронию. — В школе мужчин трое, а нас — сам знаешь, поэтому на собранные деньги можно подарить что-нибудь приличное. Вопросы еще есть?
— Вопросов нет.
— Ты, Тапочкин, с возрастом глупеешь.
Вечером, уже в постели, жена вдруг тронула его за плечо:
— А тебе что, галстук понравился?
— Понравился.
— Хорошо. Оставь себе. Вообще-то я хотела тебе одеколон подарить. Но если тебе понравился галстук...
— Спасибо. — Башмаков хотел дурашливо погладить жену по голове, но наткнулся на бугорчатые бигуди.
Тому, что Катя стала каждый день накручиваться на бигуди, он тоже не придавал значения. Как-то, вернувшись с птичьего рынка с прикупленными рыбками, Олег Трудович открыл своим ключом дверь и обнаружил на вешалке тещино пальто. Посещения Зинаиды Ивановны Башмаков не любил, ибо она с некоторых пор смотрела на зятя так, точно тот был не просто бесталанным безработным, а патологическим бездельником, которого ее родная дочь вынуждена кормить чуть ли не грудью.
— И не думай даже, — ругалась теща. — Выбрось из головы! Куда ты уйдешь? Кому ты нужна?
— Нет, я все скажу, все...
— Только попробуй! Ты что, совсем уже дура? У тебя — дочь. И муж какой-никакой. Только попробуй!
За несколько дней до этого разговора Башмаков спросил жену, почему она в последние дни ходит странно задумчивая, прямо-таки натыкаясь на мебель, и даже умудрилась два раза посолить борщ.
— Влюбилась, что ли?
— Я поссорилась с Вожжой, — был ответ.
Речь шла о директрисе лицея Вожжаевой, которую Башмаков видел всего пару раз мельком, но сразу понял: эта надзирательница вырабатывает стервозность в промышленном количестве, как большая ГЭС — электричество. Конфликт с ней был вполне закономерен, но уйти из-за этого из лицея! Сейчас! И он, мысленно поблагодарив тещу за верные установки, что было большой редкостью, отправился выпускать в аквариум петушка-самца, купленного взамен сдохшего. Петушки у него почему-то не приживались. Только-только петушок, переливаясь благородным ультрамарином и подрагивая пышными плавниками, устроится в уголочке и начнет, пуская пузыри, строить гнездо, как глядь — поутру уже плавает блеклый, вверх брюхом. Олег Трудович покупал нового — результат тот же. А бедная самочка с квадратным, распертым икрой брюшком неутешно слонялась по аквариуму, не находя себе места.
Катя тоже вдруг очень погрустнела и поблекла. Она перестала ездить к ученику за окружную. Перестала задерживаться в школе. Перестала накручиваться каждый вечер. Однажды, прибежав вечером со стоянки перекусить, Башмаков застал ее голой в спальне, она с ненавистью разглядывала себя в зеркале. В тот момент, когда Башмаков вошел, Екатерина Петровна как раз, подперев ладонями свои довольно большие груди, пыталась придать им девичью приподнятость. Увидев супруга, Катя отпустила их — и они тут же распались в пышном бессилии. (Кстати, именно в этот момент Олег отметил появившуюся некоторую их грушевидность.) На мужа Екатерина Петровна глянула так, точно он персонально и был виноват в том, что время ее не щадит.
— К сорока женщина должна утрачивать пол, — вздохнув, молвила она.
— Ну а пока ты его еще не утратила, — похотливо прогундосил Башмаков и начал расстегиваться.
— Отстань, Тапочкин... Весной, по сложившейся традиции, в садике, прилегающем к лицею, был родительский субботник, куда, понятное дело, Катя откомандировала Башмакова. И там, сгребая прелую листву, собирая банки из-под пива и одноразовые шприцы, Олег Трудович от одной болтливой родительницы узнал потрясающую новость: знаменитый Вадим Семенович жутко оскандалился. Историк спутался со старшеклассницей по имени Лолита (голову надо родителям отрывать за такие имена!) и по взаимной любви сделал ей ребенка. Теперь он развелся с женой и на днях по специальному разрешению префектуры должен с беременной школьницей расписаться. В лицее Вадим Семенович, конечно, после всего этого больше не работает. Но самое интересное то, что с женой-то он формально развелся, а расходиться вовсе не собирается, более того — Лолита уже живет в его квартире, каждый день слушает по особой программе музыку, а сам Вадим Семенович вместе с бывшей женой собирается присутствовать при ее родах, и рожать она будет непременно в воду, причем в морскую, заказанную на специальной фирме!
— А вы разве не знали? — удивилась родительница.
— Конечно, знал. мне просто интересна ваша версия! — отозвался Башмаков, пораженный тем, что ни жена, ни тем более дочь даже словом не обмолвились об этом потрясающем происшествии...
— Это правда? — строго спросил он за ужином.
— Что? — побледнела Катя и взглянула почему-то на Дашку.
— Что твой хваленый Вадим Семенович...
— Да. Он оказался подлецом! — тихо ответила Екатерина Петровна.
— А Лолитка — дура трахнутая! — выпалила дочь. Но и тогда Олег Трудович ничего не понял и ни о чем не догадался. Мужская доверчивость в своей тупой неколебимости может быть сравнима разве что с необъяснимой верой русских людей в очередного проходимца, засевшего в Кремле. Понимание обрушилось на него внезапно, однажды вечером, когда он отдыхал перед аквариумом, наблюдая грустную самочку, потерявшую своего очередного супруга-петушка. Башмаков успокаивал самочку, обещал в воскресенье купить ей сразу двух мужей — для более легкого освобождения от икорного бремени.
— Ну что ты такая грустная! Ну улыбнись, — гулил Олег Трудович. — Ну сдох твой паренек — ничего не поделаешь. Нельзя же так огорчаться...
И вдруг он все понял. И ученик за окружной дорогой, и галстук от Диора, и постельная необязательность жены, и бигуди, и даже полное исчезновение Вадима Семеновича из семейных разговоров после возвращения из Новгорода — все это, как и многое прочее, внезапно сложилось в отчетливую до оторопи картину. Есть такие тесты на внимательность. Смотришь — и кажется, что это простое нагромождение пятен, а пригляделся — и внял: так это же большая рыбка за маленькими гонится!
— Петушок сдох! — вслух сказал Башмаков и даже засмеялся.
Нет, его не терзали ярость и муки ревности, он даже ни на мгновение не пытался представить себе волосатую поясницу историка (почему-то он был убежден, что поясница у Вадима Семеновича волосатая), обхваченную скрещенными Катиными ногами. Все осознание случившегося произошло на каком-то бестелесном уровне, точно между мужчинами и женщинами вообще не бывает ничего физического, а измена — что-то вроде откровенного разговора с посторонним человеком. Возможно, это было связано с тем, что он никогда не видел живьем Вадима Семеновича и тот был для него только неким символом, абстракцией, знаком измены... Зато Башмаков ощутил в душе некую безответственную легкость — и цепь, прочно связывавшая его с женой, цепь, звеньями которой были его измены и обиды, причиненные Кате, разорвалась. Он встал, вышел на балкон и перелез на соседскую сторону. Балконная дверь оказалась приоткрыта.
— Ты чего? — спросил Анатолич, отрываясь от телевизора.
— Ты меня не видел! — предупредил Башмаков и двинулся к выходу.
— Поссорились, что ли?
— Нет, не поссорились... Я прогуляюсь...
Он вышел на улицу, поймал первую же машину, выгреб из карманов все деньги — их как раз хватило, чтобы добраться до Нины Андреевны и остаться там навсегда. Шофер всю дорогу вздыхал, что продешевил, и рассказывал о том, как сдуру выкупил у таксопарка «Волгу», а теперь ишачит практически на бензин и запчасти. Раньше хоть ночью можно было на водке наварить, а теперь вон ее, проклятой, на каждом шагу — залейся...
— Чего молчишь?
— У меня петушок сдох.
— А-а...
Потом ехали молча. Таксист покрутил колесико приемника и нашел какую-то политическую передачу. Тот самый профессор, с которым вместе Башмаков некогда получал партвыговор, соловьисто расписывал светлое будущее России. Но для этого, твердил он, нужно буквально за несколько лет создать класс собственников, поэтому каждый предприимчивый россиянин должен приватизировать все, что, как говорится, плохо лежит.
— Скажите, — спросил профессора ведущий, — а если потом придут из милиции и скажут, что все это лежало, оказывается, хорошо?
— Кто не рискует, тот не пьет шампанское! — ответил профессор и хихикнул.
Интервью закончилось, и пропикало одиннадцать.
Возле памятного подъезда стояли новые лавочки. Появился даже кодовый замок, но он не работал. На лестничной площадке царил знакомый мусорный дух, вызвавший вдруг у Олега Трудовича по прихотливой мужской ассоциации радостное шевеление плоти. На двери, как и прежде, висел ящик с наклеенными логотипами «Комсомольской правды» и журнала «Шахматы и шашки». Башмаков нажал кнопку звонка и решил: если Рома спит, то сразу, ничего не говоря, он подхватит Нину Андреевну и отнесет в спальню...
— Ты? — только и вымолвит она.
— Я, — ответит он. — Ты же сказала, что будешь ждать. Вот я и пришел. Навсегда.
Дверь отворил лысый мужик, одетый в синие спортивные штаны и майку. На майке две большие пешки, черная и белая, пожимали друг другу руки на фоне земного шара. Лицо у лысого было отстраненно-сосредоточенное, как у человека, привыкшего обдумывать свои ходы.
— Вам кого? — спросил он, не прерывая раздумий и даже не удивляясь позднему звонку.
— Мне бы Рому! — вдруг ответил Башмаков.
— Рома в армии.
— Давно?
— Только забрали. А вы кто?
— Я? Я с ним в шахматы иногда играл...
— Теперь через два года.
Сквозь шум душа из ванной донесся голос Нины Андреевны:
— Звереныш, кто там пришел?
Дверь ванной выходила прямо в прихожую. Башмаков сразу почувствовал витающую в воздухе ароматную шампуневую сырость, а теперь отчетливо вообразил, как вот прямо сейчас, всего в метре от него, за тонкой перегородочкой обнаженная Нина Андреевна стоит под струями. И вода, стекая по упругому животу, свивает курчавые волоски в мокрый трогательный клинышек. Они часто принимали душ вместе, и Нина Андреевна обязательно говорила: «А сейчас мы помоем звереныша!»
— Звереныш, это кто пришел? — повторила из-за двери она.
— Это к Роме!
— Пусть подождут. Я уже выхожу. А почему так поздно? Что-нибудь случилось?
— Да, а в самом деле, почему так поздно?
— Я тут мимо ехал... Будете писать ему в армию, передавайте от меня привет!
— От кого?
— Он знает...
— Ах, ну конечно!
В ванной оборвался шелест воды, и раздался ясный теперь голос Нины Андреевны:
— Я выхожу-у!
Башмаков стремглав сбежал по лестнице и кустами, чтобы даже из окна его не было видно, выбрался со двора на улицу. Денег у него не оказалось даже на метро, и он долго собирался с духом, прежде чем подойти к контролерше в форменке и путано объяснить, что потерял кошелек. Старушка посмотрела на него так долго и пристально, будто просился он не в метро, а минимум на секретный объект, потом покачала головой и презрительно кивнула — мол, проходи, прощелыга ты эдакий!
На его осторожный звонок открыл Анатолич. Судя по сощуренным глазам, он уже улегся.
— Извини.
— Ладно... Нагулялся?
— От души.
Башмаков перелез через перила. Он на цыпочках прошел мимо спящей Дашки. Катя лежала в постели и читала «Комментарии к „Евгению Онегину"» Лотмана. Она или вообще не заметила полуторачасового отсутствия мужа, или просто сделала вид, что не заметила.
— Я еще почитаю, — сказала Катя, на минуту оторвавшись от книги. И Башмаков вдруг почувствовал к жене жгучую ненависть, перерастающую в необыкновенное, чудовищное, знобящее вожделение. Он сорвал с себя одежду, отмел всяческие отговорки и ссылки на то, что Дашка еще не спит, погасил свет и набросился на Катю. Борясь в потемках, Олег Трудович грубо прорвал сопротивление жены и, постыдно заломив ее тело, опустошился с зубовным скрежетом.
— Что с тобой? — спросила Катя.
Она включила ночник, отдышалась и подобрала с пола книгу.
— Петушок сдох! — ответил Башмаков.
21
Эскейпер открыл скрипучую дверцу гардероба. «Надо же, так и не смазал, а ведь сколько раз собирался!»
Он отправился на кухню, достал из-под мойки пластиковую емкость с остатками подсолнечного масла, сунул в горлышко указательный палец и перевернул бутылку. В следующий миг, подставив ковшиком ладонь под стекающие с намасленного пальца капли, Башмаков бегом вернулся к гардеробу, смазал латунные петельки и попробовал — больше не скрипело. Потом он зашел в ванную и сначала с помощью мыла, а потом и порошка «Ариэль» отмыл испачканные руки. Сделав все это и воротившись в комнату, Олег Трудович вдруг забыл, зачем, собственно, полез в гардероб. «Склероз — лучший способ бегства от действительности. Ах да, галстуки... Галстуки, галстуки — теплого мая привет...» Галстуки висели на специальной планочке на внутренней стороне дверцы.
«А что такое галстуки? Галстуки — это биография мужчины, запечатленная особой формой узелкового письма... Где же я это читал? Где-то читал...»
И ведь на самом деле в этих узких разноцветных кусках материи была записана вся его, башмаковская, жизнь. Во всяком случае, жизнь с Катей точно уж записана... Вот в этом широченном, с золотистыми парчовыми завитушками галстуке он женился. Сейчас повяжи такой, скажем, отправляясь в ресторан, и тебя примут за идиота. Девушка тебя разлюбит, а метрдотель прикажет охране приглядывать за тобой повнимательнее. Впрочем, если все остальное — рубашка, костюм, ботинки, часы — высший класс, тебя сочтут не идиотом, а, наоборот, продвинутым. И ты можешь снова ввести в моду вот такую павлинятину. Но для этого лучше, конечно, появиться не в ресторане, а в телевизоре. Олег Трудович потрогал галстук — ткань на ощупь напоминала портьерную... А вот другой галстук — поуже и покороче, красно-синий, клетчатый, как юбка-шотландка, и с вечным узлом на резиночке. В этом галстуке Олег Трудович ходил на работу в райком. Надо сказать, завязывать галстук быстро и красиво он так и не научился. Обычно помогала Катя. На работу в райком из их спального района дорога была неблизкая, автобусы вечно куда-то проваливались, а потом появлялись сразу стаями. В очереди на остановке зло шутили, что водилы не выезжают с конечной, пока не доиграют партию в домино. Возможно, так оно и было... А опаздывать в райком нельзя ни в коем случае! Покойный Чеботарев раз-два в месяц (в какой именно день — не угадаешь) любил без пяти девять прохаживаться в скверике перед райкомом, похлопывая по ладони своей знаменитой зеленой книжицей. Номенклатурная шелупонь летела от автобусной остановки, как на юношеской спартакиаде. Кстати, сотрудники, прибывшие на собственных машинах, оставляли тачки за квартал и чесали к месту службы на всякий случай показательным пешеходным аллюром. Был случай, когда перспективный, только что назначенный замзавотделом прикатил на новенькой темно-синей «семерке» и поставил ее прямо у дверей райкома. Чеботарев, восхищенно цокая языком, обошел «жигуленок», встал рядом и у каждого пробегавшего мимо сотрудника радостно спрашивал:
— Хороша машинка? А?
На ближайшем заседании бюро райкома он разжаловал замзава в инструкторы, сказав при этом исторические слова:
— Партия не имеет права жрать большой ложкой, если народ ест маленькой. Запомните! Бедный марксистско-ленинский романтик Федор Федорович! От каких чудовищных разочарований он уберег себя, застрелившись в 91-м!
Пошел в народ и другой афоризм Чеботарева: «Женщина в брюках — это так же противоестественно, как мужчина без галстука!» Гонял он брючниц и безгалстучников страшно. Одного докладчика поманил пальцем, снял с себя галстук и затянул на шее нарушителя этикета поверх свитера. Тот так и выступал. Кстати, всех опоздавших Чеботарев записывал и лишал еженедельного райкомовского продовольственного заказа.
— Пусть-ка в гастроном сходят, понюхают, чем народ живет! Чтобы утром не терять ни минуты и, не дай Бог, опоздать, Олег Трудович купил себе этот галстук на резиночке: застегнул крючочек, подхватил портфель — и вперед в светлое будущее!
В «Альдебаране» Башмаков специально не носил галстуков: во-первых, надоели после райкома, а во-вторых, не хотелось этой номенклатурной деталью в одежде подтверждать обидное прозвище «Товарищ из центра». Первым его альдебаранским галстуком стал этот — темно-синий с маленькой алой аббревиатуркой «ВВС», означавшей — «Британская строительная корпорация». В этом галстуке, подаренном Петром Никифоровичем, Олег Трудович защищал кандидатскую диссертацию.
А у тестя галстук от ВВС объявился при довольно необычных обстоятельствах. Петр Никифорович принимал по министерской разнарядке английскую делегацию. По этому случаю у дверей ремстройконторы прикрепили роскошную вывеску, в кабинете заменили мебель, стоявшую там с довоенных времен, а всем рабочим выдали новенькие болоньевые зеленые куртки с надписью «Мосстрой» и пластмассовые оранжевые шлемы с буквами «СССР». Шлемы они, по сценарию, разработанному в главке, должны были подарить англичанам в качестве сувениров. Двое рабочих, кстати, специально забюллетенили, чтобы не присутствовать на братании с иностранными коллегами и таким образом сохранить понравившиеся шлемы. Петр Никифорович страшно еще возмущался по этому поводу. Англичане же отдарились галстуками, и тестю из-за отсутствия двух рабочих досталось сразу три штуки. Один он оставил себе. Второй вручил зятю. Третий презентовал Нашумевшему Поэту. И здесь приключилась замечательная история. Нашумевший Поэт начал демонстративно расхаживать в этом галстуке по Дому литераторов, специально даже расстегнув пиджак, чтобы завистливая писательская дребедень непременно видела пикантную аббревиатурку «ВВС». Естественно, появились вопросы. Нашумевший Поэт уверял доверчивых литераторов, будто галстук этот ему вручили в Лондоне, на радиостанции Би-би-си, после выступления...
— А мы что-то не слышали... — удивлялись коллеги, ежевечерне припадавшие к приемникам, чтобы послушать антисоветчину, едва пробивавшуюся сквозь эфирный треск...
— Заглушили, — тонко улыбался Нашумевший Поэт, — боятся правды...
Разумеется, кто-то из собратьев по перу мгновенно стукнул куда положено. Нашумевшего вызвали на Лубянку и отчихвостили, строго-настрого запретив повязывать антисоветский галстук и распространять небылицы о выступлении по Би-би-си. Обо всем этом Башмаков прочитал недавно в книге мемуаров Нашумевшего Поэта под названием «Одиночка». Но почему-то ни о Петре Никифоровиче, ни о подлинном происхождении галстука в книжке ничего не было. Глава называлась «Роковой узел» и повествовала о том, как за ношение галстука, подаренного поэту благодарным коллективом радиостанции Би-би-си, костоломы из КГБ на пять лет сделали его невыездным. В конце шло длинное стихотворение, заканчивавшееся такими строчками:
Я жил в стране, разгульной и вихрастой,
Где лес до неба и без края степь...
Я жил в стране, где за английский галстук
Сажали, словно пса, меня на цепь!
Однако потом Олег Трудович прочитал в «Московском комсомольце» интервью бывшего гэбэшного генерала, обойденного очередным званием и ставшего в этой связи страшным разоблачителем. Генерал писал, будто Нашумевший Поэт с юных лет выполнял деликатные поручения Конторы, а вся история с галстуком, специально привезенным для этой цели из Англии, была тонко продуманной и коварной операцией. КГБ хотел подманить к якобы обиженному властью вольнописцу вражескую агентуру... И подманил!
«Черт их там всех разберет! — вздохнул Башмаков. — Но стихи получились хорошие...»
После галстука с буковками «ВВС» последовал вот этот, темно-коричневый с палевыми горошинками, подаренный Ниной Андреевной вскоре после того, как Башмакова назначили начальником отдела. И по понедельникам на директорскую планерку он стал являться в галстуке. Нина Андреевна очень обижалась, если любовник повязывал какой-то другой, не ею подаренный галстук.
Затем случился новый, довольно длительный безгалстучный период. Зачем, в самом деле, новые галстуки безработному, челноку или сторожу автостоянки? В театр можно и старый повязать... Но только не тот — изменный, от Диора. Катя, кстати, делала вид, будто такого галстука у мужа вообще нет.
А потом появился сразу целый ворох новых галстуков. Это когда он устроился в «Лось-банк». Олег Трудович обнаружил, что его сослуживцы каждый день меняют галстуки и что заявляться в течение недели в одном и том же, даже самом великолепном, галстуке вроде как неприлично. В следующий понедельник — пожалуйста. Этот комплект, наподобие женских трусиков, так и назывался — «неделька». Был даже такой дежурный комплимент:
— «Неделька» у тебя что надо!
— В Голландии прихватил...
Башмаков пожаловался Кате на свое, так сказать, галстучное несоответствие занимаемой должности — но она поначалу даже возмутилась:
— Как это у тебя нет галстуков? Я тебе сейчас не на неделю, а на месяц наберу!
Жена решительно подошла к гардеробу, открыла дверь и первое, что ей бросилось в глаза, был тот, изменный, диоровский, купленный для Вадима Семеновича. На следующий день Катя повезла мужа на Арбат, в магазин «Подарки», но обнаружилось, что более-менее приличный галстук стоит тридцать долларов...
— Боже, на эти деньги неделю жить можно!
— Можно и месяц, — злопамятно улыбнулся Олег Трудович.
Тогда они поехали в Лужники и, потолкавшись на огромном вещевом рынке, поглотившем это спортивное некогда пространство, на те же тридцать долларов купили целую «недельку». Если не очень присматриваться, галстуки вполне можно было принять за фирменные. Но, оказавшись рядом с настоящим диоровским, они сразу как-то подешевели, в общем, стали тем, чем были на самом деле, — корейской дрянью, схваченной на толкучке. Зато в галстуке от Диора на фоне этих подделок, наоборот, проступила некая врожденная аристократичность, копившаяся многими поколениями и уходившая в глубину веков, к истокам, к великому предку — к какому-нибудь кружевному жабо, которое носил любовник Людовика ХIII...
Догадавшись об отношениях Кати и Вадима Семеновича, Башмаков поклялся никогда не повязывать этот изменный галстук. Никогда! Но клятву не сдержал. Он повязывал его три или даже четыре раза. В первый раз — когда отвозил Принцессе предсмертное письмо Джедая...
Впрочем, Башмаков так до конца и не был уверен в смерти Каракозина. Он же не хоронил его и не видел в гробу, утихшим и овосковевшим, как Бориса Исааковича. Ах, Борис Исаакович, Борис Исаакович!..
Случилось это во время демонстрации. В 93-м. Башмаков там, конечно, не был, а подробности узнал во время поминок. Поначалу митинговать собирались на площади Гагарина, но потом толпа двинулась по привычке на Манежную — там прокричать: «Банду Ельцина под суд!» — чтобы этот беспалый белобилетник слышал и трепетал в своем кремлевском логове. Борис Исаакович был, как всегда, в генеральском мундире, при наградах и, как всегда, шел в первых рядах с красным флагом на свинчивающемся древке. Рядом шагал верный Джедай с гитарой. Толпа дошла до омоновцев, перегородивших Ленинский проспект, и остановилась. Точнее, остановились первые шеренги, а задние все подходили и подходили от площади Гагарина, туже и туже сжимая народную пружину. Башмаков запомнил это выражение — «народная пружина», брошенное на поминках говорливым есаулом Гречко.
«Я даже вначале не понял, — вспоминал есаул после второй. — Стоим. Впереди эти, в касках, со щитами, как псы-рыцари... Стоим. Спиной прямо чувствую, как сзади, понимаешь, народная пружина сжимается... И вдруг слышу звон. Сначала думал — в ушах. У меня так от давления бывает. Прислушался — нет, не в ушах! Огляделся и понял: медали звенят! Фронтовиков-то тысяч десять было, не меньше. Сзади напирают, толкаются — и медали звенят... Звенят! Прямо-таки набат мести! Никогда не забуду!..» Борис Исаакович подошел к омоновцам и строгим голосом спросил:
— Почему не пускаете?
— А куда надо? — спросил омоновец.
— К Кремлю!
— Не положено, отец!
— В 45-м было положено, а теперь не положено...
— Отец, ты сам человек военный. Должен понимать: приказ есть приказ.
— А если вам прикажут по фронтовикам стрелять? Тогда что?
— Да что ты с ним пустоболишь? — крикнул, подбегая, другой омоновец, явно офицер. — Он же провокатор!
— Эй, ты, охломоновец, — вмешался Джедай, — соображай, с кем разговариваешь!
— А с кем я разговариваю?
— У тебя теперь каска вместо башки? В погонах не разбираешься?
— Ага... А чего так слабо? Мог бы на Арбате и маршальские купить!
— Не сметь! — возвысил голос Борис Исаакович. — Я генерал Советской Армии!
«Ты понимаешь, — удивлялся на поминках после четвертой есаул Гречко, — Исакыч-то обычно не картавил. Только когда запсиховывал, из него тогда это еврейское „р" и перло... Он как закричит: „Я генер-рал Советский Ар-р-рмии!" Ты уж меня, Трудыч, прости, но у него на самом деле как-то не по-русски получилось...»
— Ах ты, жидяра, китель чужой напялил, — крикнул офицер, — и еще выстёбывается!
— Что? Что ты сказал, сопляк? — Борис Исаакович двинулся на него.
— А вот что я тебе, тварь порхатая, сказал! — и омоновец с размаху ударил генерала резиновой палкой по голове.
Джедай хотел броситься наперерез, но не успел.
Генеральская фуражка слетела и откатилась. Удар был довольно сильный, но, конечно, не смертельный. Смертельной оказалась обида. Борис Исаакович схватился за грудь, захрипел и стал заваливаться.
Каракозин и Гречко еле успели его подхватить.
— Врача! — закричал Джедай.
— Вот тебе врача!
Офицер хотел ударить и Джедая, но есаул успел схватиться за дубинку и вытащить омоновца из цепи. С этого, собственно, и началось то печально знаменитое побоище ветеранов, много раз потом описанное газетами и показанное по телевизору. Каракозин, прикрывая собой хрипящего генерала, стал вытаскивать его из толпы. Но по рядам уже побежало: омоновцы генерала забили!
— Какого генерала?
— Исакыча!
— Су-у-уки!
Генералов среди митинговавших было немного. Но главное — Борис Исаакович с Джедаем не пропускали ни одной демонстрации — «Исакыча» и «Андрюху с гитарой» знали многие. Народ озверел — начали отрывать от плакатов и знамен древки и, как острогами, бить ими омоновцев. Появились и предусмотрительно заточенные арматурины. Булыжники и кирпичи, невесть откуда взявшиеся посреди асфальтового Ленинского проспекта, забухали о щиты.
«Мне самому в поясницу таким бульником зазвездячили! — жаловался после шестой есаул Гречко. — Я потом неделю перекособочившись ходил. Но того охламоновца я все ж таки умял! Умя-ал!»
Джедай наконец вынес из толпы Бориса Исааковича и подтащил к крытому КрАЗу, стоявшему в арке дома. В кабине сидел водитель. Джедай распахнул дверь и крикнул:
— Его надо в больницу! В больницу!
Водитель, ничего не говоря, ударил Джедая каблуком в лицо и захлопнул дверь. Рыцарь поднялся, снова открыл дверь, успел схватить водителя за ногу, выдернул из кабины и швырнул на землю с такой силой, что тот отключился. Затем Каракозин втащил на сиденье генерала, уже не подававшего признаков жизни. Ключ торчал в замке зажигания, и мотор работал, но все вокруг было запружено людьми. Единственный способ: сигналя, проехать по тротуару...
«Ты понимаешь, — рассказывал есаул Гречко, закусывая. — Я из толпы-то выбрался, смотрю, КрАЗ выруливает, а на подножке охламоновец болтается, как цветок в проруби, и дверь старается открыть. Вдруг КрАЗ дает резко вправо и охламоновца по стене, как мармеладку. А эти уже бегут, свистят... И вдруг смотрю, из кабины выскакивает Андрюха и в подворотню. Хрен поймаешь! Ну, эти подбежали — сначала своего со стенки соскоблили, а потом и Исакыча из кабины вынули... Я тогда понял, Джедай-то хотел по тротуару проскочить, свернуть к Донскому, там Соловьевская больница. Не получилось. А Исакыча нам только через неделю отдали... Не хотели отдавать, но мы через Совет ветеранов затребовали...»
О том, что Борис Исаакович умер во время демонстрации, Башмаков узнал только тогда, когда ему позвонил Гречко и вызвал на похороны. В дневных же новостях смутно сообщили о сердечном припадке (не приступе, а именно припадке!) у кого-то из демонстрантов, и один крупный отечественный кардиолог в интервью рассказал о том, что люди со слабым сердцем, особенно пожилые, оказавшись в толпе, попадают как бы в мощное, агрессивное, черное энергетическое поле — и это может даже стоить им жизни... Вывод: пожилым на демонстрации вообще лучше не ходить.
Зато гибель омоновца, снятую телевизионщиками, крутили в эфире несколько дней. Показывали детские и школьные фотографии погибшего, его плачущую мать, приехавшую на похороны сына из Сланцев, показывали рыдающую вдову с малыми детьми... Показали и фоторобот предполагаемого убийцы, но Башмакову даже в голову не пришло, что искусственное лицо на экране — Каракозин. Как вообще по этим картинкам преступников ловят — непостижимо!
Бориса Исааковича похоронили на Востряковском кладбище, не в той части, где лежал Петр Никифорович, а в другой, где мало крестов и много шестиконечных звезд. Опустили рядом с его незабвенной Асенькой. Провожавших было человек пятнадцать, в основном плохо одетые, с сумрачными лицами активисты Партии революционной справедливости. Из родственников и сослуживцев явилось буквально два-три человека. Одну старушку в старомодной шляпке Башмаков узнал. Это была Изольда Генриховна. А в сухоньком лысом старичке он угадал неудавшегося самоубийцу Комаряна по страшной вмятине на виске.
— Какой ужас! — воскликнула Изольда Генриховна, тоже узнав Башмакова и обрадовавшись. — Какой ужас! Борис Исаакович всю жизнь им отдал! Всю жизнь... А они? За что?!
— А Борька не прилетел? — спросил Башмаков.
— Нет. — старушка отвела глаза. — у него неприятности, а у Леонида Борисовича микроинфаркт... Какой ужас! Никого рядом — ни сына, ни внука. Одно утешение: теперь он уже с Асенькой не расстанется...
Говорили речи. Комарян — о том, как покойного любили солдаты, какой он был бесстрашный боевой офицер и как ему всегда хотелось быть похожим на Андрея Болконского. Изольда Генриховна — про то, каким замечательным он был отцом, дедом, а главное — мужем.
— Ася была самой счастливой женщиной на свете, самой счастливой... — старушка зарыдала, и ее стали успокаивать.
Есаул Гречко говорил про то, что без Бориса Исааковича Партия революционной справедливости осиротела. Он даже упомянул Джедая, как верного друга усопшего, но соратники сделали ему страшные глаза — и Гречко осекся. В заключение своей долгой речи он вдруг выхватил из-за пазухи огромный, наверное, времен войны вальтер и хотел произвести салют в соответствии с воинскими обычаями. Насилу отговорили.
— Прощаемся! — тихо распорядился похоронщик, с интересом рассматривая генеральский мундир усопшего.
Башмаков подошел. Борис Исаакович лежал в гробу — маленький, седой, жалкий. Трудно было вообразить, что этот человеческий остаток был когда-то храбрым офицером, пылким любовником, мудрым профессором. Олег Трудович вздохнул, наклонился и сделал вид, будто целует его в лоб. Он никогда по-настоящему не целовал покойников. Никогда, даже отца... Похоронщики быстро забросали гроб землей, точно ставили какой-то рекорд по скоростному закапыванию могил. Поминали в пельменной неподалеку от метро «Юго-западная», но туда пошли только активисты Партии революционной справедливости и Башмаков. Обсуждали демонстрацию, говорили, что, если бы несколько акээмов и дюжину гранат, можно было бы в тот же день покончить с Ельциным, которого почему-то упорно именовали Елкиным. Крепко напились. Есаул плакал и твердил, что за Бориса Исааковича он будет развешивать эту жидовскую власть на фонарях, и все порывался достать вальтер. Выпили за Джедая.
— А где он? — простодушно спросил Олег Трудович.
Все посмотрели на Башмакова с недобрым интересом.
— Далеко, — ответил Гречко. — Но я его скоро увижу...
— Скажи, чтобы позвонил мне! Друг тоже называется.
— Скажу.
Но Каракозин не позвонил. Джедай вообще исчез. Как испарился. Однажды Башмаков сидел около своего любимого аквариума и наблюдал степенную рыбью жизнь, как вдруг из кухни раздался крик Кати:
— Тапочкин, скорее! Иди сюда!
Катя иногда так вот громко звала его, если видела на экране именно такое платье, какое мечтала купить. Он нехотя отправился на крик. Жена стояла возле телевизора. На экране были бородатые мужики в камуфляже, увешанные оружием, а закадровый голос с философской иронией рассказывал об отдельных россиянах, которым скучно строить капитализм, и поэтому они отправились воевать в Абхазию, являющуюся, как известно, неотъемлемой частью суверенной Грузии. Среди стоявших Башмаков с изумлением узнал есаула Гречко.
— Знаешь, кого только что показали?
— Джедая?
— Да. Откуда ты знаешь? Он был в темных очках и с бородой, но я все равно узнала... Подожди, может, снова покажут.
Но снова его не показали.
— Это точно был он?
— Не знаю... — начала сомневаться Катя. — но очень похож!
— А он был с гитарой?
— Нет, без гитары.
— Тогда, наверное, не он.
22
Эскейпер взял с дивана гитару, пристроил на коленях и попытался сообразить простенький аккорд — но ничего, кроме какого-то проволочного дребезжания, у него не вышло. А на подушечках пальцев, прижимавших струны к грифу, образовались синеватые промятинки с крохотными рубчиками. У Каракозина, он помнил, эти самые подушечки от частой и буйной игры на гитаре затвердели, почти ороговели, и когда Джедай в раздражении барабанил по столу пальцами, звук был такой, словно стучат камнем по дереву. Зато как он играл, какие нежные чудеса выщипывал из своей гитары! «А интересно получается, — неожиданно подумал Башмаков, — чем нежнее пальцы, тем грубее звук, и, наоборот, чем грубее пальцы, тем звук нежнее... А что, глубоко... Может, на Кипре книжки попробовать писать? Нельзя же, в самом деле, всю оставшуюся жизнь только и обслуживать пробудившиеся Ветины недра! „Закогти меня, закогти меня!" — „Что я, филин, что ли?.."»
Эскейпер встал и, раздраженно пощипывая струны, подошел к окну. На свету сквозь большое черное пятно, расплывшееся на тыльной стороне гитары, угадывались кусок слова «счастье» и замысловатая, даже канцелярская роспись барда Окоемова. Такие автографы характерны не для творческих людей, а для чиновников, визирующих финансовые документы, или для учителей, опасающихся, что школьники подделают их росписи в дневниках. Вот у Кати, например, роспись на первый взгляд несложная, но с такой хитрой загогулинкой, что фиг подделаешь. Умела это делать только одна Дашка, и к ней вся школа бегала за помощью... Боже, что было, когда все это открылось! Взбешенная Катя, ворвавшись в квартиру, стала выдергивать ремень прямо из брюк обомлевшего Башмакова. Дашка поначалу решила, что это возмездие за разбитую чешскую салатницу, и даже начала плакать от вопиющего несоответствия преступления наказанию: ее никогда не пороли. Но тут у Кати вырвалось:
— Ах ты, мерзавка! Подпись она мою научилась подделывать!
И удивительное дело: слезы на Дашкиных щеках мгновенно высохли, и еще несколько ременных вытяжек (Катя быстро выдохлась) она приняла без звука и почти как должное. А где-то через полчаса подбрела к надутой Кате и пропищала:
— Прости, мамочка!
Обычно из нее это «мамочка» было клещами не вытащить. Настырная девочка. А теперь вот скоро родит...
Эскейпер посмотрел из окна вниз: капот «форда» был закрыт, но зато ноги Анатолича торчали прямо из-под кузова. Сверху казалось, будто машина придавила его всей своей тяжестью — насмерть.
«А вот странно, — подумал Башмаков, — человек действительно перед смертью вспоминает всю свою жизнь? Допустим, вспоминает. А если смерть мгновенная? Вот если, например, прыгнуть отсюда, с одиннадцатого этажа, — много ли успеешь вспомнить, пока долетишь? Ни хрена не успеешь! Да это и не нужно. Там, наверху, из тебя всю твою память вынут, как кассету из сломавшегося видака, просмотрят и вынесут приговор. А с другой стороны, человек состоит ведь не только из своей памяти, но еще из того, каким он засел в памяти других людей. Это тоже там должны учитывать! Значит, обязаны дождаться, пока умрут все, кто знал усопшего, чтобы их „кассеты" тоже просмотреть. Э-э, нет! Зачем ждать? Информацию можно считать и на расстоянии, в „Альдебаране" этим целая лаборатория занималась... И что же получается? А получается, что Башмаков сегодня почему-то целое утро вспоминает Джедая. Может быть, там, наверху, пришло время решать его судьбу? Может быть, все, кто знал Каракозина, сегодня его вспоминают? И Катя тоже. Надо спросить...»
— Дурак ты, а не эскейпер! — громко объявил он сам себе, стукнулся в доказательство три раза лбом об оконный переплет и добавил уже тише: — бедный Джедай!
Каракозин объявился через четыре месяца после своего исчезновения. Был конец сентября. Погода стояла солнечная и златолиственная. До исторического расстрела «Белого дома» оставалось еще порядочно. Честно говоря, Башмаков особенно не вникал в суть конфликта между Ельциным и Верховным Советом. На политику он обиделся, даже газеты почти перестал читать. Как только в телевизоре возникал комментатор и, мигая честными глазенками рыночного кидалы, начинал витиевато разъяснять текущий момент, Олег Трудович сразу переключал программу. И в самом деле, что ему до этой драной политики, до этой визгливой кукольной борьбы, если его собственная жизнь закатилась аж на стоянку к чуркистанцу Шедеману Хосруевичу! Катя аполитичность мужа одобряла и возмущенно рассказывала, что Вожжа собрала педсовет и приказала разъяснить ученикам, будто Верховный Совет хочет устроить из страны один большой ГУЛАГ и закрыть их замечательный лицей, а президент, наоборот, за то, чтобы Россия вошла полноправным членом в мировое содружество и лицей их процветал. Впрочем, ученики и сами достаточно хорошо ориентировались в происходившем, а один старшеклассник даже сказал, что его папа уже купил билеты на самолет и им общесемейно наплевать, если в этой стране вообще все друг друга передавят, потому что у них есть квартира в Париже и дом в Риме. На него, конечно, тут же набросились одноклассники, бранясь в том смысле, что у них тоже имеется за рубежами семейная собственность, но это совсем не повод для такого наплевательского отношения к судьбе демократии в России...
Башмаков долго потом ворочался в постели, соображая, откуда взялись люди с квартирами в Париже? Вот ведь он сам — с высшим образованием, кандидат наук, возглавлял отдел, а поди ж ты! Какая там собственность за границей — теще до сих пор долг вернуть не может! Или взять Анатолича. Полковник, без пяти минут генерал. А что в итоге? «Мадам, ваш железный конь готов и бьет резиновым копытом! Чувствительно вам благодарен, мадам!»
Анатолич, метавшийся все эти дни между долгом перед поруганным Отечеством и любовью к жене, наконец решил записаться в народный истребительный батальон, чтобы защищать Верховный Совет. Он дождался, пока Каля уснет (ложилась она рано, потому что работала теперь на почте), сложил вещевой мешок, надел заранее вынутую из гардероба якобы для проветривания полевую форму и потихоньку перелез на соседскую половину балкона, чтобы выйти через башмаковскую квартиру. Над своей дверью он сдуру прикрепил хрустальные колокольчики — поэтому покинуть дом незаметно было практически невозможно. Предварительно Анатолич позвонил по телефону Олегу и выяснил, что Катя с Дашкой у тещи на даче и, скорее всего, там заночуют.
Понятное дело, решили выпить на посошок. Анатолич попросил, если что с ним случится, не оставить Калю. Башмаков успокоил, как мог. Потом последовала стременная рюмка. Анатолич попросил позаботиться и о его рыбках. Олег Трудович заверил, что будет относиться к ним как к родным. Далее шла забугорная...
— А почему забугорная? — удивился Башмаков.
— Это старый казачий обычай. Стременную кто казаку подает?
— Кто?
— Жена. А забугорную кто?
— Не жена...
— Молодец! Забугорную ему, когда станица уже скроется за бугром, подает зазноба! Понял? На прощание...
— Ну и кто же вас ждет за бугром? — ехидно спросила Катя, неожиданно возникая на пороге кухни.
— Тише, — попросил Башмаков, почему-то совсем не удивившись внезапному появлению супруги. — Человека, можно сказать, на войну провожаем!
— На какую еще войну? Вы что, молодые люди, совсем сдурели? На какую войну? Катя сняла трубку. Через две минуты неприбранная Калерия, в длинной ночной рубашке и наброшенном на плечи халате, уже всхлипывала, глядя на Анатолича:
— Ты же обещал... Ты же мне обещал!
Полковник встал, скрежетнул зубами и успел, уводимый женой, бросить:
— Вот так и гибнут империи! В бабьих слезах захлебываются!
Катя, помолчав, спросила:
— Ты, Тунеядыч, тоже на баррикады собрался?
— Почему бы нет? Страна-то гибнет...
— Не волнуйся. Страна уже тысячу лет гибнет...
— Это тебе Вадим Семенович сказал?
— Напрасно ты так... Я тоже кое-что знаю.
— Например?
— Например, как обустроить Россию.
— Ну и как?
— Для начала, Тунеядыч, нужно сделать ремонт в квартире. Ты когда в последний раз обои клеил? Потом надо поймать ту сволочь, которая почтовые ящики ломает. А дальше само пойдет...
— Ты думаешь?
— Уверена.
— А почему ты вернулась с дачи?
— Не знаю. Решила провести эту ночь с тобой. Ты готов?
На следующее утро — было как раз последнее воскресенье сентября — Башмаков лежал в кровати, еще наполненной теплой истомой ночного супружества. С кухни доносились радостные ароматы: Катя пекла блины. Олег Трудович лежал и как-то совершенно спокойно, даже чисто математически соображал, что изменилось в Катиной женственности после Вадима Семеновича. Он чувствовал — изменилось, но конкретно что именно изменилось ухватить никак не мог. И тут раздался звонок телефона.
— Алло?
— Здравствуйте, Олег Терпеливыч! Как поживаете?
— Джедай!
— Узнал?
— Конечно, узнал! Ты где?
— В Москве.
— Приезжай!
— Не могу. У меня к тебе просьба. Ты можешь приехать к «Белому дому»?
— Могу. Когда?
— Вечером, попозже. Иди через Дружинниковскую — там можно пройти. Если наши спросят, скажешь: к Джедаю. Они знают.
— А если не наши?
— Отвирайся. Скажи, собака у тебя убежала.
— Тебе чего-нибудь захватить?
— Если пожрать и выпить принесешь, не обижусь.
Катя, узнав, что объявился Каракозин, нажарила котлет, нарезала бутербродов и сама сбегала в магазин за выпивкой. Провожая Башмакова, она взяла с него слово, что сам он там, у «Белого дома», не останется.
— Ни-ни! — пообещал Олег Трудович. На Баррикадной стояли наряды милиции и ОМОНа. Парни в пятнистой форме внимательно разглядывали всех, кто выходил из метро. Башмаков с авоськой не вызвал у них никаких подозрений. Он прошел мимо зоопарка. Пересек Краснопресненскую улицу. Миновал Киноцентр. Там было множество иномарок. Доносилась музыка. Вспыхивала и гасла огромная надпись: «Казино „Арлекино"». Оставалось свернуть с улицы Заморенова на Дружинниковскую. И вот когда Олег Трудович, мужественно презирая невольную торопливость сердца, крался вдоль ограды стадиона, из-за деревьев появился здоровяк в пятнистой форме:
— Куда?
— Я к Джедаю.
— К какому еще Джедаю?
— К Каракозину... к Андрею... Он на гитаре играет.
— А-а, к Андрюхе? В сумке-то что?
— Еда...
Здоровяк пнул набитую авоську коленом, и послышался лязг бутылочных боков.
— Еда — говоришь? Ну тогда пошли!
Вокруг «Белого дома» все было почти так же, как и два года назад: провисшие палатки, чахлые баррикады, сыплющие искрами костры. Под ногами шуршали сухие осенние листья и брошенные газеты. Когда они поравнялись со знаменитым козырьком-балконом, к ним подскочила странная старуха. Она была одета в застиранную гимнастерку времен войны и звенела медалями, как монистом. Из-под белесой пилотки выбивались седые космы.
— Поймали! — закричала она. — Идите, люди, сюда! Судить будем...
— Никого не поймали, — буркнул здоровяк. — Это наш. Наш парень... Иди, мать, с Богом! А то сейчас всех взгоношишь!
— Наш! Это наш! Это к нам! Сынок...
Странная старуха обрушила на грудь струхнувшему Башмакову всю свою медальную тяжесть и расцеловала его, обдав затхлым старческим дыханием.
— Кто это? — спросил Олег Трудович, когда они отошли от старухи несколько метров.
— Бабушка Аня, мать солдатская... Тут всякие есть. Один паренек с космосом разговаривает. В него вроде как маршал Жуков переселился.
— Инкарнация?
— Точно, инкарнация... Говорит, победим!
Каракозин, тоже одетый в пятнистый комбинезон, сидел возле костра и вместе с длинноволосым монахом ел консервы прямо из банки. Они то и дело вскидывали головы и прислушивались к невнятным голосам, доносившимся из репродуктора. Увидев Башмакова, Джедай поднялся:
— Молодец, что пришел!
Друзья обнялись. Поцеловались. От Джедая вкусно пахло тушенкой и водочкой. В темноте Башмаков не мог подробно рассмотреть его, но все-таки заметил, что Рыцарь сильно изменился: поседел и высох до болезненной жилистости. На скуле виднелся белый выпуклый шрам с лапками — казалось, сидит многоножка-альбинос. Оружия, кроме штык-ножа на поясе, у Каракозина не было.
— Вот пополнение тебе привели! — доложил башмаковский конвоир. — Принимай!
— Спасибо. Друг детства. Проведать пришел...
Они отошли в сторону от костра.
— А Катя тебя по телевизору видела! — сообщил Башмаков, чувствуя неловкость из-за того, что Джедай назвал его «другом детства». — Ты ведь был в Абхазии?
— И в Абхазии тоже...
— Как там Гречко? Он теперь, наверное, уже атаман?
— Погиб Гречко. На мине подорвался.
— Извини... Ты насовсем? Ну, в том смысле, тебе можно теперь в Москве?
Каракозин глянул исподлобья, игранул желваками, и сороконожка на скуле будто шевельнула лапками:
— Можно. Если одолеем, тогда все будет можно. Потому что тогда не они меня, а я их искать буду! «Предателей на фонари...»
— «...вдоль всей Москвы-реки!» — подхватил Олег Трудович.
— Помнишь еще? Молодец! Как Катя?
— Нормально.
— Дашка?
— Растет.
— Ну-ка, погоди! — Джедай, нахмурившись, прислушался к бубниловке громкоговорителя. — Молодец Бабурин! Так и надо. Только так и надо!
— А что это?
— Это Верховный Совет заседает, а нам транслируют, чтобы не скучали...
— А что, скучно?
— Нет, не скучно, а скоро вообще будет весело! Значит, лимузины стережешь? Не горюй, Олег Термидорыч, если победим, восстановим «Альдебаран» и поработаем. Чертовски хочется поработать!
— А победим? — осторожно спросил Башмаков.
— Вряд ли. Плохо все это кончится. Очень плохо! Знаешь, чем они сейчас занимаются? — Джедай показал на репродуктор.
— Чем?
— Выясняют, кто главней... Довыясняются!
— Народ надо поднимать! — посоветовал Башмаков.
— Чего ж ты не поднимаешься?
— Я? Если народ поднимется, и я поднимусь...
— С дивана? Тебя, Тунеядыч, будут через двадцать лет в школе изучать!
— В каком смысле?
— Как типичного представителя... Но ты не виноват! Со всеми нами что-то случилось. Знаешь, есть такие насекомые твари — они что-то червячку впрыскивают, и червячок как бы замирает. Живые консервы. Тварь потом червячка жрет целый год. Он живехонький, свеженький, вкусненький — а пошевелиться не может. Может только думать с грустью: «Вот от меня уже и четвертинку откушали, вот уже и половинку отожрали...» Нам всем что-то впрыснули. И мне тоже... Просто я очнулся раньше. Так вышло. Передай это Принцессе!
Джедай вынул из нагрудного кармана конверт. Судя по залохматившимся краям, письмо было приготовлено давно.
— Ты понимаешь, я даже не знаю, где она теперь, — осторожно предупредил Башмаков.
— Найди! Это не ей. Это Андрону... когда вырастет.
От костра донесся шум и хохот. Из выкриков можно было понять, что там издевательски решается судьба Ельцина после победы. Смех вызвало предложение выдавить из гаранта весь накопившийся в организме алкоголь...
— Так он же с дерьмом вперемешку будет! — заметил кто-то басом.
— Вот и хорошо! Напоить этим Шумейку с Гайдаром!
— Бедные идиоты, — усмехнулся Джедай.
— Если что, — предложил Башмаков, — давай к нам! Мы спрячем! Хочешь — на даче. Там, кроме тещи, никого нет.
— Стоит домик-то у соседей?
— Стоит.
— Вот видишь, дом я выстроил! Не себе... Сына родил! Не себе... Осталось дерево посадить. Для других. Ну, прощай, Олег Трудович! Иди! И никому не говори, что меня видел... Хотя подожди...
Джедай направился к палатке, из которой торчали ноги, обутые в десантные ботинки. Нагнулся, пошерудил внутри и вынул гитару.
— Эй, ребята, — крикнули у костра, — Андрей петь будет!
— Отпелся, — отрезал Каракозин.
Воротившись, он протянул гитару Башмакову:
— Это тебе! На память обо мне.
— Подожди, но ведь Руцкой говорит, что армия...
— Руцкой? Профессия у них такая — говорить... Башмаков взял гитару и заметил большое черное пятно на том месте, где была витиеватая подпись барда Окоемова.
— Тоже сволочь, — объяснил Джедай. — Сказал по телевизору, что всех нас надо давить, как клопов. Слышал?
— Слышал.
Окоемов действительно выступал по телевизору и жаловался, как в 76-м году его не пустили на гастроли во Францию, а потом еще вдобавок отменили концерт в Доме детей железнодорожников и, наконец, к пятидесятилетию вместо ордена «Дружбы народов» дали унизительный «Знак почета». Из этого следовал довольно странный вывод: неуступчивый парламент нужно разгромить, а красно-коричневую заразу — выжечь каленым железом. Раз и навсегда. В заключение ведущий попросил Окоемова что-нибудь спеть, и тот задребезжал своим знаменитым тенорком:
Апельсиновый лес весь в вечерней росе,
И седой мотылек в твоей черной косе...
— Нет, не возьму. — Башмаков вернул гитару Джедаю. — Даже не думай об этом! Придешь к нам в гости. Споем...
— Хорошо. Сформулируем по-другому: отдаю тебе гитару на ответственное хранение. Когда все кончится — заберу. Договорились?
— Договорились.
— Прощай!
— Прощай.
Они обнялись. От Джедая пахнуло стойбищным мужеством. И только звякнув о костистую каракозинскую спину бутылками, Башмаков сообразил, что чуть не забыл вручить другу старательно собранную Катей посылку.
— Тебе!
— Спасибо! — Каракозин взял авоську и принюхался. — Котлетками пахнет!
Это были последние слова Джедая.
На «Баррикадной» Олега Трудовича все-таки остановил патруль. Трое здоровенных парней в камуфляже. У каждого на плече висел укороченный десантный автомат, а у пояса торчал штык-нож. Омоновцы, явно переброшенные в забузившую столицу издалека, говорили с немосковской напевностью.
— Документы! Приезжий?
— Я москвич, — возразил Башмаков, протягивая предусмотрительно взятый с собой паспорт.
— Откуда идешь, москвич? — неприязненно спросил омоновец, видимо, старший по званию, листая документ и сверяя испуганное лицо задержанного с паспортной фотографией.
— С дня рождения, — струхнул Олег Трудович. — Видите, я с гитарой...
— Точно с дня рождения? — старший посмотрел на него стальными глазами и поморщился, как от неприятного запаха.
— Точно.
— Дай гитару! Старший на всякий случай встряхнул инструмент. Другой обхлопал Башмакова от плеч до щиколоток, как это всегда делал дотошный немецкий патруль в советских фильмах про партизан и подпольщиков. Третий при этом остался чуть в стороне. Он стоял, широко расставив ноги и следя за каждым движением Башмакова чутким автоматным стволом.
— Ладно, пусть идет, — громко сказал старший, — этот не оттуда. Сразу видно... Башмакову вернули паспорт, гитару и обидно подтолкнули в спину. Из-за презрительного толчка и унизительных слов «этот не оттуда» Олег Трудович страшно обиделся и всю обратную дорогу воображал, как возвратится туда, к «Белому дому», найдет Джедая и объявит:
«Я с тобой!»
«Ну, — скажет Каракозин, — если уж ты, Олег Тихосапович, решился, значит, утром весь народ поднимется! Ты в армии-то у нас кем был?»
«Вычислителем».
«Из автомата стрелял?»
«Четыре раза».
«Отлично!»
Джедай обнимет Башмакова, пойдет к палатке, пороется внутри и вернется с новеньким, пахнущим смазкой акаэмом. Потом кто-то из соратников приведет пойманного старшего омоновца, оплеванного и истерзанного бабушкой Аней, матерью солдатской. И Башмаков, подталкивая его стволом в спину, погонит к стенке. Нет, не расстреливать, а просто попугать, чтобы знал свое место...
— Ты что такой возбужденный? — спросила Катя.
— Нет, ничего. — Башмаков быстро прошел и заперся в туалете. Ему нужно было побыть в одиночестве и закончить обличительный монолог, обращенный к пойманному брезгливому омоновцу: «...За порушенный великий Советский Союз, за ограбленных стариков, за наших детей, лишенных обычного пионерского лета, за разгромленную великую советскую космическую науку, за Петра Никифоровича и Анатолича! За меня лично...»
Башмаков мстительно нажал на никелированный рычаг — и унитаз победно заклокотал.
В ближайший выходной Башмаков снова хотел проведать Джедая, но «Белый дом» к тому времени окружили бронетехникой и обвили американской колючей проволокой — не прошмыгнуть. Кроме того, по слухам, все подступы к мятежному парламенту простреливались засевшими на крышах снайперами.
А 4-го Верховный Совет раскурочили из танковых пушек. Народ собрался как на салют и орал «ура!», когда снаряд цокал о стену и звенели разлетающиеся осколки. Анатолич затащил Башмакова под пандус, ведший к площадке перед СЭВом. Под пандусом какой-то иностранный журналист, захлебываясь, наговаривал в диктофон радостный комментарий, а когда раздавался очередной залп, выставлял диктофон наружу, чтобы отчетливее записать грохот и крики. Потом появились мальчишки и стали шумно делить стреляные гильзы. «Белый дом» дымился, подобно вулкану. Верхние этажи закоптились. И где-то там, в жерле вулкана, остался Джедай. Сколько человек погибло, никто не знал. Анатолич потом говорил, что трупы тайком ночью сплавляли на баржах по Москве-реке и жгли в крематориях. Но Башмаков не верил в смерть Джедая, он даже на всякий случай предупредил тещу, что на даче у них некоторое время поживет один знакомый. Катя тоже не верила:
— Ничего с ним не случилось. Вон ведь ни одного депутата не застрелили. Только избили.
Неделю они ждали звонка. Но Каракозин не объявился.
Письмо Башмаков сумел передать Принцессе только через полгода. Он просто не знал, где ее искать. Помог случай. Катя и Дашка отправились на Тверскую по магазинам. Тогда вдруг стала очень популярной песенка:
Ксюша, Ксюша, Ксюша,
Юбочка из плюша...
И девчонки как с ума посходили. Дашка тоже потребовала себе к лету плюшевую юбку, причем фирменную, чуть ли не из бутика. Катя как раз получила деньги. Она в ту пору готовила к выпускным экзаменам одного оболтуса. Отец оболтуса был прежде каким-то экспертиком в Комитете сейсмического контроля. Так, мелочь с тринадцатой зарплатой и единственным выходным костюмом. Но когда после 91-го началось коммерческое строительство, он вдруг сделался большим человеком, ведь для того чтобы поставить даже собачью будку, не говоря уже о чем-то основательном, необходима была его подпись на проекте. И «зелень» ему потащили буквально чемоданами. Сын его, прогульщик и кошкодав, приезжал теперь в лицей на ярко-красном «феррари», а поскольку водительских прав у него по малолетству не было, он предъявлял гаишникам пятидесятидолларовые купюры.
Итак, Катя и Дашка ходили по Тверской, приглядываясь и поражаясь ценам: юбочка здесь стоила столько, что за такие же деньги, например, в Лужниках можно купить пальто. Вдруг они увидели Принцессу. Она покидала магазин в сопровождении двух охранников, увешанных сумками и свертками, точно экспедиционные кони. Катя сначала заробела, но потом, помня о письме Джедая, все-таки окликнула. Принцесса сразу ее узнала, была чрезвычайно приветлива и даже подарила Дашке миленькие часики (за ними, пока они разговаривали, мухой слетал охранник). Узнав, что у Башмакова к ней важное дело, Принцесса не стала выяснять подробности, а просто дала визитную карточку, переливавшуюся золотом и благоухавшую французским ароматом новорусской жизни. Олег Трудович позвонил буквально в тот же день.
— Письмо? — после довольно долгой паузы переспросила она. — Хорошо. Приезжай!
— Куда?
— Ты на машине?
— Нет.
— Тогда не доберешься. Я пришлю за тобой водителя. Завтра.
На следующий день присланный «БМВ» мчал Башмакова по Минскому шоссе. Сразу за Переделкино они свернули на боковое шоссе, затем на вымощенную фигурной плиткой лесную дорогу и вскоре оказались возле огромного кирпичного замка, окруженного высокой бетонной стеной, по верху стены шла спиралью колючая проволока. На заборе, словно сторожевые птицы, сидели телекамеры. Железные клепаные ворота автоматически открылись. Внутри, во дворике, их встречали одетые в черную форму охранники с помповыми ружьями.
— Вы Башмаков? — спросил один из них.
— Да.
— Простите, ваше имя-отчество?
— Олег Трудович.
— Олег Трудович, пойдемте, я вас провожу!
Они поднялись по каменным ступенькам. В просторном вестибюле высились на постаментах скульптурные загогулины, а в центре бил фонтан. Охранник провел Башмакова через зимний сад. В огромных майоликовых горшках стояли неведомые деревья, цветшие большими душными цветами. В бассейне, выложенном естественными камнями, плавали золотые вуалехвосты величиной с хороших лещей. Внимание Башмакова привлекла одна рыбка-львиноголовка с черными плавниками и совершенно бульдожьей мордой. Он невольно замедлил шаг. Таких удивительных тварей ему даже на птичьем рынке видеть не приходилось.
— Вас ждут! — вежливо поторопил охранник.
Они вошли в зал с мраморным камином. Потолок был высокий, в два света, но окна второго ряда представляли собой витражи, поэтому в зале царил шевелящийся цветной полумрак. Тишина нарушалась только потрескиванием горящих поленьев. По стенам висели рыцарские щиты и мечи с затейливо украшенными рукоятками. Башмаков видел такие в универмаге в отделе подарков и сувениров. На каменном полу распластались медвежьи шкуры — белые и бурые.
Принцесса, одетая в обтягивающие синие джинсы и блекло-розовую, будто бы застиранную, майку, сидела в глубоком кожаном кресле возле камина. Пятнистый долговязый дог, лежавший у ее ног, встрепенулся, вскочил и посмотрел на Башмакова красными, словно заплаканными, глазами, потом повернулся к хозяйке и, не получив никаких инструкций, снова улегся, грустно положив морду на лапы.
Принцесса кивнула — и охранник исчез.
— Рада тебя видеть! — сказала она, встала и протянула Башмакову руку. — Хорошо выглядишь. И галстук у тебя красивый.
— От Диора. Жена подарила... — Олег Трудович растерялся, соображая, не поцеловать ли протянутую руку.
— И дочь у тебя очаровательная! — Принцесса, не дав Башмакову сообразить, отняла руку.
— Здорово ты устроилась! — комплиментом на комплимент ответил он. — Прямо замок какой-то!
— Да, муж занимается нефтью. И дела идут неплохо... Он погиб?
— Скорее всего. Он был у «Белого дома»...
— Я знаю. Мне очень жаль... Очень! — в ее глазах показались слезы. — Он был хорошим человеком...
— Это для Андрона, — разъяснил Олег Трудович, протягивая письмо.
— Знаю. Она взяла конверт, подошла к камину и бросила, не распечатывая, в огонь. Красное пламя вспыхнуло химической синевой.
— Андрону лучше ничего этого не знать. Он его почти забыл. Он только-только начал звать мужа папой. И вспоминать не стоит... — тихо проговорила Принцесса.
— Он, наверное, тоже сгорел, — глядя на свертывающийся в обугленную трубку конверт, вымолвил Башмаков.
— Зачем ты мне это говоришь? Ты тоже считаешь, что я виновата в его смерти?
— А кто еще так считает?
— Твоя жена.
— Она тебе об этом сказала?
— Зачем говорить? Достаточно взгляда...
— Извини... Можно, я спрошу?
— Можешь не спрашивать. Нет. Я его не любила. По крайней мере, так, как он меня любил. Ты же помнишь, как он меня добивался! Добился... Лучше бы не добился. Я надеялась, он справится с собой. Да, наверное, я виновата... Но почему я должна жить всю жизнь с человеком, который мне... который мне не подходит?
— А нынешний муж тебе подходит?
— Да, подходит. Я его люблю. А почему ты, интересно, не веришь в то, что я могу кого-нибудь любить? Я его люблю!
— Я верю. В залу вошла девушка, одетая именно так, как в фильмах про богатых одеваются горничные. Даже кружевная наколка в волосах имелась.
— Да, я сейчас... — Принцесса кивнула горничной и снова повернулась к Башмакову. — Извини, мне пора кормить ребенка.
— А сколько ему?
— Ей. Семь месяцев.
— Поздравляю! Но по тебе не догадаешься. Прекрасно выглядишь!
— А-а, ты про это. — она улыбнулась и опустила глаза на свою грудь, по-девичьи приподнимавшую майку. — Я взяла кормилицу. Но врач советует обязательно присутствовать при кормлении, чтобы у ребенка не терялся контакт с матерью...
— Это мудро. А отец, наверное, присутствует при «пи-пи» и «ка-ка» — для контакта...
— Он бы тоже так пошутил. Ты этому у него выучился. Никогда нельзя было разобрать, когда он шутит, а когда говорит всерьез. Он, наверное, и перед смертью шутил... Он никогда не говорил серьезно.
— Говорил. Про тебя он говорил серьезно.
— Возможно... Олег, я тебя хочу попросить. У меня есть планы. Так вот, Андрон не должен знать, как погиб его отец. И лучше, чтобы этого не знал никто...
Принцесса взяла с инкрустированного столика конверт, довольно тугой, и протянула Башмакову:
— Возьми! Для меня это немного, а тебе, наверное, нужны деньги...
— Деньги всегда нужны. Но я был должен Джедаю. За приборы ночного видения...
— За что? Какие еще приборы ночного видения? Откуда?
— А что, разве твой муж добывает нефть? Бурит скважины?
— Нет, он ее продает. Он выиграл тендер.
— А мы тоже выиграли тендер и продавали приборы ночного видения. Может быть, не так удачно, как твой муж — нефть... Но все-таки. У меня осталась его доля.
— И какая же это доля?
— Примерно такая же. — Башмаков кивнул на конверт. — Будем считать, он уже заплатил мне...
— Я думала, ты добрее... — в ее голосе послышалась обида. — До свидания, Олег Тендерович! Надеюсь, когда-нибудь ты меня поймешь.
Дог предусмотрительно встрепенулся. За спиной Башмакова вырос непонятно откуда взявшийся охранник.
— Пройдемте! — сказал он голосом участкового милиционера...
Катя, дожидаясь его возвращения, извелась от любопытства.
— Отдал? — спросила она.
— Угу.
— Мужа ее видел?
— Нет.
— А дом у них какой?
— Фанерно-щитовая хибара на шести сотках, — ответил Башмаков.
Когда Олег Трудович засыпал, ему вдруг стало безумно жаль, что он не взял у Принцессы денег. В конверте было ведь тысяч десять, не меньше! На все хватило бы. Башмаков растолкал заснувшую Катю.
— Да ну тебя, Тунеядыч! Не буди! Завтра. Сегодня я как собака...
— Кать, а ведь она мне деньги предлагала.
— За что?
— Чтобы я про Джедая никому не рассказывал.
— И ты взял? — Катя аж подскочила, совершенно проснувшись.
— За кого ты меня принимаешь!
— Молодец, Тапочкин!
Вскоре Принцесса сделалась любимицей журналистов. Она открыла благотворительный фонд «Милость» для помощи детям, страдающим церебральным параличом. Фонд организовывал благотворительные концерты и научные конференции, заканчивавшиеся грандиозными фуршетами. Лея постоянно мелькала на телевидении. Когда ныне покойная принцесса Диана была в России, она, разумеется, посетила фонд «Милость» — и все журналы мира обошла трогательная фотография: две молодые красивые женщины нянчатся с изломанным церебральным ребеночком. Подписи были однотипные и пошлые, потому что журналисты давно уже пропили свои мозги на всех этих дармовых фуршетах: «Две милости», «Две доброты», «Два сострадания». И только один Башмаков знал, как надо бы подписать фотографию: «Две принцессы». Примерно в то же время по ящику прошла какая-то подленькая передачка к годовщине расстрела «Белого дома», и Башмаков увидел, что на Дружинниковской, вдоль ограды стадиона теперь стоят кресты и щиты с фотографиями погибших. Он полистал альбом с наклейкой «Свадьбы» и нашел отличный снимок: Джедай держит в одной руке бокал, а другой крепко прижимает к себе ненаглядную невесту, несколько минут назад ставшую его женой. Принцесса в фате, с охапкой белых роз. Молодые глядят друг на друга глазами, полными счастья...
Однажды вечером, когда уже совсем стемнело, Башмаков специально съездил туда, на Дружинниковскую, и прилепил эту свадебную фотографию рядом с портретами других убитых. Прилепил намертво — «сумасшедшим», неотдираемым клеем...