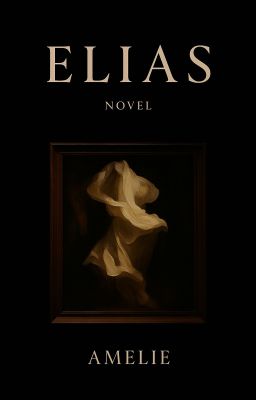2
19 ноября 2014 года
Я так и не смог уснуть. Впервые за долгое время меня охватил липкий страх потерять всё, что у меня есть, пусть и немногое. Шато де Монтевр, к которому я уже начал привыкать, вдруг стал казаться мне клеткой. Я жаждал выбраться, и чем скорее, тем лучше.
К трём часам ночи я собрал свои вещи и был готов уйти ранним утром. Но страх перед Эшфордом оказался сильнее порыва, и вместо вокзала я оказался в столовой, уставившись в чашку остывшего кофе.
Жюльен уехал ещё до завтрака, и без него мадам Дюран сочла излишним появляться в доме, чтобы не вызвать у Альбера нескрываемое раздражение.
К счастью меня не стали тащить к Эшфорду, иначе я рисковал заработать несварение желудка, поэтому пока он ел в гордом одиночестве, мне пришлось сидеть за соседним столом в компании трёх человек: начальника безопасности — Эдварда Грейвса, личного секретаря герцога — Феликса, и молчаливого охранника Клемана. Все трое оказались слишком разными, но на удивление общались дружелюбно и в отличии от дворецкого отпускали грубые шутки в сторону Эшфорда.
— Так ты у нас? — обратился ко мне начальник охраны, когда я случайно выронил ложку на пол. Говорил он сдержанно, почти с военной строгостью и для сорока пяти лет выглядел максимум на сорок. Светлая кожа, высокий лоб. Скулы у него были резкие, а подбородок упрямый. Он сидел в том же чёрном костюме, в котором появился вчера и успел с точной аккуратностью уложить волосы, зачесав их назад.
Расстроенный вчерашним провалом, я чувствовал себя слишком паршиво для утренних разговоров, но всё же взял себя в руки. Рано раскисать.
— Элиас Морен, — всё ещё думая, что мне сказать герцогу в предстоящей встрече, ответил я.
— Не донимайте парня, — вдруг вступился за меня Альбер. — Феликс, пока ты не начал собирать сплетни, герцог нанял его в качестве переводчика с древнегреческого.
Феликс — брюнет с золотистого оправы очками, обворожительно улыбнулся, одновременно набирая что-то в сотовом телефоне.
— Ни для кого не новость, что у его светлости специфичные вкусы на молодых парней, — заметил он, глядя поверх очков так, будто проверял мою реакцию. — Мы просто надеемся, что ты, Элиас, не станешь доставлять нам проблем. В отличии от Уитмора босс слишком осторожен, и не любит светиться на публике. Но осторожен — не значит безгрешен, — усмехнулся он и в следующую секунду обратился к Эдварду. — Помнишь того переводчика из Женевы, который работал с делегацией ЕС?
— До сих пор жалею, что его светлость не наказал его по всей строгости.
— Потом был тот итальянский журналист, — продолжил Феликс, уже подливая себе кофе. — Они встречались месяца три. Парень был не глуп, умел поддерживать разговор, знал, когда шутить, а когда промолчать. Герцогу нравятся такие, чтобы и в костюме выглядели как на обложке журнала, и в переговорах не терялись.
— Разве это не он устроил скандал в Лондоне? — вдруг спросил Клеман, и я чуть ли не вздрогнул, потому что он сидел позади меня и за всё это время ни проронил ни слова.
— Он путался под моими ногами больше года, мне пришлось дважды сменить номер телефона, пока его светлость не решил откупиться от него чеком в два миллиона долларов. Слишком амбициозный, — утрировал Феликс, лениво перелистывая на телефоне новостную ленту. — Герцог не терпит, когда его используют ради личных целей. В идеале ему нужен — молодой парень с хорошим образованием и отличными манерами. Что ещё важнее, без громкой фамилии.
Тут все трое, кроме Альбера остановились на мне взглядом.
— Я не гей, — выпалил я. — К тому же, мне кажется для всех будет лучше, если я вернусь к себе в Париж.
Губы Феликса растянулись в широкой улыбке.
— Oh, qu'il est mignon, le petit naïf!(1), — он откинулся на спинку кресла, покачивая чашку с кофе. — Разве герцог уже не заявил на тебя свои права?
Я растерянно заметил, как Клеман и Эдвард ждали моего ответа с нескрываемым любопытством.
— Я человек, а не вещь, — вырвалось у меня, чуть резче, чем я планировал. — Никто не может «заявить на меня свои права», как на коллекционную картину или породистого жеребца.
От улыбки на лице Феликса не осталось и следа. Он медленно поставил чашку на блюдце и наклонился вперёд, опершись локтями о стол.
— Ты не похож на проблемного парня, поэтому дам тебе совет, — вдруг сказал он, и тон его с игривого резко приобрёл серьёзный оттенок. — Видишь ли, для герцога твои чувства к самому понятию «права» и «справедливость» ничего не значат. Если он решил, что ты «принадлежишь ему», значит так оно и есть.
Внутри всё закололо. Почему каждый здесь так и норовит напомнить мне о моём месте? Мне захотелось врезать этому напыщенному ублюдку в очках, но реальность такова, что я никогда бы не осмелился.
— Элиас, если ты закончил, можешь пойти в библиотеку, герцог, кажется, хотел взглянуть на твои переводы, — вдруг вмешался Альбер, видимо, чувствуя неладное.
Не сказав ни слова, я поднялся со стула и тут же направился к себе в спальню. Для личного секретаря графа у этого урода был слишком длинный язык: теперь я знал, что не первый и, вероятно, не последний парень в личной коллекции Эшфорда. Разница лишь в том, что они хотя бы поимели его на миллионы, а я, как последний идиот, рисковал потерять своё место в гранте.
Всё это, в конце концов, мне не нравилось. В который раз за день мне хотелось схватить чемодан и раствориться в утреннем тумане, лишь бы больше не видеть ни заносчивых слуг, ни самого Эшфорда. Расстроенный, я достал телефон, включил его и зашёл в инстаграм, чтобы написать Люсьену.
Я: «Встретился с герцогом. Он разрешил мне поехать в Лимож!»
Люсьен ответил не сразу, а через несколько минут.
Люсьен: »...Ты серьёзно? 🤦 Ты не обязан спрашивать у него разрешения!»
Я: «Он платит мне 500 евро. Ещё как обязан.»
Люсьен: «Элиас. 🙄 Тебя искали Винсент и Амели. Говорят, не дозвонились. ПОЗВОНИ ИМ!»
Я: «Блин... совсем забыл. Я же обещал провести выходные с ними... ещё до того, как устроился переводчиком.»
Я: «Ты сказал им, что я на работе?»
Люсьен: «Да. Они расстроились.»
Я: «Сейчас позвоню.»
Я вздохнул, стоило только нажать на кнопку вызова, как в дверь постучали, и мне пришлось сбросить звонок.
— Элиас, не заставляй герцога ждать, — упрекнул меня Альбер почти отцовским тоном. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти в библиотеку за переводами.
Я был слишком расстроен и подавлен угрозой герцога. Сорбонна за эти годы стала для меня не просто университетом — моим смыслом жизни. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы поступить туда, и ещё больше — чтобы удержаться. До выпуска оставалось всего два года. К тому же мадам Валуа обещала помочь с изданием. Всё складывалось как нельзя лучше. Кто знает, может, мне и вправду было уготовано перспективное будущее?
А теперь, оказавшись в проклятом Шато де Монтевр, я словно сам себя похоронил заживо. Мой работодатель оказался сущим дьяволом — с безграничными связями и толстым кошельком.
Итак, я собрал те немногие черновики, что у меня оставались, и не заметил, как в сопровождении Альбера оказался в личном кабинете Эшфорда. Комната была просторнее моей спальни: в центре стояло несколько кожаных кресел, а сам он сидел за массивным дубовым столом, перебирая документы и иногда заглядывая в ноутбук. Сегодня он выглядел менее официально, чем вчера: синий джемпер поверх белой рубашки, серые брюки. Я снова почувствовал себя ничтожеством. Альбер, к тому времени исчез (наверное, у него был особый дар растворяться в нужное время и в нужном месте).
— Слышал, Феликс нагрубил тебе за завтраком, — сказал наконец Эшфорд, когда я положил переводы на край стола. — Я уже поговорил с ним и он пообещал, что больше не станет тебе докучать. Надеюсь, это не испортило тебе настроение.
Моё настроение портишь только ты.
— Нет, ваша светлость, — привычно сорвалось с моих губ.
— Оскар, — тут же поправил меня он.
Попытка дистанцироваться провалилась. Я собрал последние остатки храбрости, выпрямился и, вцепившись в свою решимость, сказал:
— Я ценю вашу заботу, но вынужден повторить: я не гей, и в мои планы не входят временные отношения в роли вашей содержанки. Меня более чем устраивает моя жизнь студента Сорбонны. Поэтому буду благодарен, если вы не станете мешать моей учёбе.
— Я думал, мы закрыли эту тему, — холодно ответил он. — Я не люблю повторяться и тратить время на бессмысленные споры. Хочешь ты того или нет, но ты будешь со мной. А теперь будь благоразумен и сядь в кресло, пока я ещё благосклонен.
— Я тоже не люблю повторяться. Поэтому скажу в последний раз: я не буду с вами спать.
— Моё терпение не безгранично, Элиас.
— Я намерен отправиться в вокзал пешком, если вы не предоставите мне машину в течении получаса. Как я понял, вы наняли меня только для того, чтобы заманить в свою постель, и раз уж вы не нуждаетесь в моих услугах переводчика, я увольняюсь. Зарплату за этот месяц можете оставить себе, но за прошлый я не верну, поскольку я заработал те деньги честным трудом.
Я почти успел дойти до дверей, как он вскочив с места, схватил меня за волосы и дёрнул назад.
— Идиот, — он швырнул меня как игрушку на одно из кресел так сильно, что я больно ударился боком.
— Вы не имеете права так со мной обращаться!
— Я и так был слишком добр с тобой.
Он смотрел на меня таким устращающим взглядом, что меня прошибло потом. Я постарался встать на ноги, чтобы привести себя в порядок, но он надавил на мои плечи и снова усадил обратно.
Больной псих.
— Я вызову полицию, — загнанно выкрикнул я, и только потом понял, насколько глупо это прозвучало.
Эшфорд, убедившись, что я не стану наступать на одни и те же грабли, ослабил хватку.
— Элиас, ты не глупый, — голос его прозвучал обманчиво мягко.
Он остановился напротив, опёрся ладонями о подлокотники кресла и наклонился так близко, что я почувствовал лёгкий запах древесного одеколона.
— Давай посмотрим, как это будет выглядеть со стороны. Допустим, тебе удастся позвонить в полицию и приехав сюда, первым делом они увидят: тебя — девятнадцатилетнего студента без стабильного дохода и поддержки семьи. А затем меня, герцога, человека, консультирующего в этом доме министров и глав государств. Как думаешь, кому они больше поверят?
Он выпрямился, и я смог выдохнуть.
— Я хочу домой, — сжимая подлокотники кресла, уже не так уверенно сказал я.
— Если тебе так хочется быть отчисленным из университета — пожалуйста. Я не стану удерживать тебя силой. Но вернёшься ты домой ни с чем.
Я почувствовал себя в ловушке, откуда не было ни выхода, ни хотя бы проблеска надежды. Как не посмотри, в сравнении с ним и его властью, я был слишком мал и ничтожен. Внутри всё сжалось, сердце колотилось где-то в висках, а ладони вспотели так, что пальцы прилипали к подлокотникам кресла. Я не мог заставить себя разжать их. Он же выглядел абсолютно спокойным. В горле саднило от обиды и переполняющей меня ненависти. В груди всё жгло. Мне хотелось вмазать ему со всей силы.
Я заставил себя поднять на него взгляд, хотя каждая клеточка тела требовала опустить глаза в пол. И тут же пожалел, потому что его серые глаза были холодными, как лёд. Ни капли жалости.
— Почему вы так со мной поступаете? — слетело у меня с языка.
Он чуть приподнял бровь, будто вопрос показался ему забавным.
— Как именно?
— Вы пытаетесь унизить меня при любом удобном случае. — Я сделал вам что-то плохое? Нагрубил? Или это ваша странная месть? Я не понимаю!
Вопрос похоже был из тех чисел, которых задавать не положено. Глаза его резко потемнели.
— Ты ничего мне не сделал, — наконец ответил он, таким тоном, который не сулил ничего хорошего. — Но если продолжишь в том же духе, я покажу тебе, как унижаю людей, Элиас. А теперь возвращайся к себе в комнату и подумай над своим поведением. После обеда тебе предстоит встретиться с Гаспаром. Он будет ждать тебя в соседнем кабинете.
***
Эшфорд уехал из дома сразу после нашей встречи, оставив после себя горький осадок. У меня не было ни сил, ни аппетита, поэтому я пропустил полдник и обед, просто лежа на кровати и уставившись в потолок. Но Альбер, как всегда, был внимателен: он тихо вошёл в мою комнату, поставил на стол поднос со стаканом тёплого молока и ещё горячими булочками. Когда дверь за ним закрылась, я уткнулся лицом в подушку и долго плакал, пока не перешёл в бессильное рыдание. Слёзы жгли глаза, кожа вокруг них распухла и покраснела, но, когда они иссякли, мне стало немного легче. Время подошло к двум часам, и вскоре появился Альбер, велив мне спуститься в кабинет. Возражения не принимались. Я пришёл первым, поэтому сел на первый попавшийся стул, не задумываясь, куда именно(туда, куда позволяли мне смотреть опухшие, затуманенные глаза).
Гаспар, оказавшийся шестидесяти пятилетнем мужчиной, опоздал на полчаса, но всё равно шёл слишком медленно, несколько раз постукивая набалдашником своей трости по мраморному полу. Думаю, он заметил моё состояние, и, не сказав ни слова, прошёл мимо меня. Не смотря на возраст, он держал прямую осанку, в этом он ничуть не уступал Альберу.
На нём была белая рубашка с мягким воротником, тёмно-синий шерстяной джемпер и безупречный пиджак оттенка, который сперва показался голубым, но при взгляде ближе уходил в глубокий, почти чернильный цвет. Седые волосы, аккуратно зачёсанные назад, открывали вид на высокий лоб, а серо-голубые глаза, которые при желании могли заглянуть тебе в душу, выражали сочувствие. Он медленно опустился в кресло неподалёку, и я, чувствуя, как предательски жгут глаза, поспешно отвёл взгляд вниз, стараясь спрятать подступившие слёзы.
— Не опускай глаза. Noli flere(2), — произнёс он медленно. — Что с тобой приключилось, дитя?
Я пожал плечами.
— Ничего, — пришлось солгать. Я слишком хорошо помнил утренние слова Феликса: герцог не терпит сплетен и лишнего шума.
— Меня зовут Гаспар Рено, — продолжил он, — раньше я преподавал в Сорбонне, занимался этикой, античной философией и историей искусств. Хоть сейчас я здесь по воле его светлости, — учтиво добавил он, — но прежде всего я твой учитель. И можешь быть уверен: всё, что ты скажешь мне, останется только между нами. С тобой точно всё в порядке?
Я лишь кивнул, поражённый тем, что он оказался первым — и, возможно, единственным — человеком, кому действительно было небезразлично, что со мной происходит.
— Спасибо, месье Рено, — выдавил я. — Но всё в порядке.
Видимо, он понял, что я не готов говорить, и не стал настаивать. Только потянулся к стопке книг, медленно перебирая их в поисках нужной.
— Ты знаком с античной философией?
— Немного... — ответил я. — Читал Платона, его «Федон»(3). Ещё стоиков — Сенеку, Эпиктета. И про искусство... ну... про вазопись и трагедию в культуре Афин(4).
— Ты удивляешь меня, — восхищённо сказал он, откинувшись на спинку кресла. — В твои годы редко, кто интересуется стоиками, да историей в целом. Откуда у тебя такие познания, дитя?
— Я рос под присмотром Клары, моей тёти, она работает преподавателем литературы и истории в лицее. Очень строгая. Ей всегда, казалось, что я должен «развиваться всесторонне». Каждый вечер после школы мы сидели за столом, и я читал ей вслух трагедии или отрывки из Платона. Она говорила, что это формирует ум и выпрямляет осанку(5), уж не знаю, что она имела в виду насчёт второго. Иногда мы даже разбирали тексты на латыни и древнегреческом, потому что, цитирую: «культурный человек обязан понимать язык Рима». Я тогда ненавидел эти вечера, но, теперь благодарен ей...
На секунду мне показалось, что в его глазах промелькнула горечь, но он быстро спрятал её, и принял тот же отстранённый вид, что был у него вначале.
— Твой отец, должно быть, гордился бы тобой, — неожиданно сказал он, и я растерялся.
— К сожалению, он умер, когда мне было четыре года, месье.
Он кивнул.
— Ты сказал, что рос на попечении Клары, полагаю, твоя мать тоже скончалась?
Я замялся, перебирая пальцами край рукава.
— Верно, — тут я сделал паузу. — Она...умерла, когда мне исполнилось девять.
— В таком случае я больше удивлён, как много ты знаешь. Значит, Клара действительно сочла важным дать тебе образование, которое получают далеко не все.
Больше он не стал расспрашивать меня о родословной — лишь уточнил, сколько мне лет, несколько раз поинтересовался, где я живу, и напоследок узнал, как именно я познакомился с Оскаром. Наша беседа оставила приятное впечатление: хотя говорил он так медленно, что меня порой клонило в сон, Гаспар оказался на редкость внимательным и деликатным учителем. Учитывая моё состояние, он не стал нагружать меня домашними заданиями: мы лишь обсудили самые общие темы, выпили по кружке таёжного чая, и спустя два часа он поднялся, оставив меня одного со словами: «тебе стоит пользоваться благосклонностью герцога, если ты хочешь добиться прекрасного будущего».
Мне ничего не оставалось, кроме как промолчать — и в который раз испытать разочарование.
20 ноября 2014 года.
К тому моменту, когда я вернулся в Париж — на этот раз не на поезде, а на машине, — лил проливной дождь. Капли барабанили по стёклам и крышам, и я уже представил, как в моей комнате пахнет сыростью, но это никак не отбило во мне желание туда вернуться. Пусть мой дом и не был роскошен, как, например, шато де Монтевер герцога, зато там я мог жить так, как заблагорассудится моей душе: возвращаться после полуночи (здесь никто не следил за комендантским часом), ходить без галстука, душившего шею, и носить даже старые, порванные джинсы, подаренные мне в прошлом году Люсьеном. Я мог выкурить сигарету, когда чувствовал себя слишком плохо или испытывал творческий кризис, а иногда даже выпить баночку пива (не то чтобы я делал это часто, только в самые худшие дни).
В шато же мне приходилось следовать установленным порядкам, а именно вставать в шесть утра, чтобы успеть к завтраку к половине седьмого; есть то, что подавали (обычно лёгкую еду); а потом отправляться в библиотеку, где я почти сходил с ума от бесконечной работы и пугающей неизвестности. Мне запрещалось разговаривать со слугами — герцог не терпел сплетен, а сами они сторонились меня, словно чумы (кроме Жюльена и мадам Дюран). Я общался только с Альбером, исключительно по деловым вопросам, изредка из личного интереса и иногда ловил на себе его недовольные взгляды, которые позже почему-то смягчались.
Итак, я вернулся в Париж только к восьми часам, вместе с Жюльеном, он довёз меня на полюбившейся им новой машине и сказал, что теперь мы скорее всего будем встречаться намного чаще, чем раньше. К счастью, Люсьен не застал моего возвращения, подозреваю, он уже сидел на лекциях, и в комнате меня ожидало несколько чуть подгорелых булочек (наверное он хотел испечь круассаны, но попытка обернулась провалом).
После того фиаско, что пришлось пережить в эти выходные, мой энтузиазм испарился, и я рассеянно сел на кровать.
Эшфорд мог лишить меня будущего.
Вот о чём я думал всё это время. Сорбонна была для меня всем. Я любил свою студенческую жизнь и всегда гордился тем, что вскоре стану её выпускником. Она дала мне гораздо больше, чем просто знания: я освоил основы французской лексики, познакомился с Платоном и Аристотелем, чьи труды изучали ещё на первых курсах, с Монтенем и Декартом, с Паскалем, Вольтером и Руссо. Позже — с Бодлером, Флобером, Рембо и Камю.
Ради моего образования месье Эмиль Дорсен пожертвовал половиной своих скромных накоплений. Кларе тоже пришлось нелегко: помимо того, что она содержала двоих детей, после моего переезда в Париж ей пришлось устроиться на вторую работу, чтобы присылать мне хоть какую-то помощь. Каждый месяц она отправляла мне пятьдесят евро — и это при том, что мы почти не общались!
Я не имел права их подвести. Тем более сейчас, когда до выпуска оставалось всего полтора года...
От этих мыслей мне стало дурно. Но ещё хуже стало тогда, когда я вдруг спросил себя: как далеко готов зайти Эшфорд, чтобы добиться своего? Даже вообразить страшно.
Лекции по лингвистике не отменяли, поэтому мне пришлось взять себя в руки. Я снял с себя дорогой костюм и переоделся в полюбившийся мною шерстяной свитер и самые простые черные брюки. Ходить в них было огромное блаженство, пусть я и выглядел как самый обычный задрот в очках (в последнее время моё зрение ухудшалось всё больше и больше). Дорога до университета заняла не больше десяти минут, поскольку я проживал в самом сердце Латинского квартала. По пути в нос ударил запах пиццы, кофе, и ещё чего-то смутно напоминающего жаренной рыбы и я сразу пожалел о том, что не поел подгорелых булочек Люсьена.
Северный ветер хлёстко бил по лицу, и, наверное, именно из-за него все студенты спешно разбежались по кампусам. Я шёл не спеша, роясь в рюкзаке в поисках пропускной карты и именного бейджа, и вдруг поймал себя на мысли, что никогда ещё не чувствовал себя так плохо при взгляде на памятник Гюго(наверное от осознания, что наши с ним встречи могут оказаться последними).
Внезапно меня дёрнули за плечо и к несчастью, я понял, что столкнулся с Амели:
— Приветствую, друг мой милостивый, поведай мне, удалось ли тебе предаться веселью и утехам в дни минувшего покоя? — весело произнесла она, видимо ещё прибывая в книжном экстазе средневековых эпох.
Обычно я подыгрывал ей, но сегодня у меня не было настроения.
— И тебе доброе утро, Амели.
Мы познакомились через полгода после моего зачисления и быстро нашли общий язык благодаря Кафке. В то время Амели буквально жила каждой его фразой и всякий раз искренне печалилась, что он ушёл из жизни, так и не познав ни славы, ни настоящего признания.
Франц Кафка был евреем, родившимся в немецкоязычной семье, и почти всю жизнь находился в тени авторитарного отца, который презирал его хрупкий характер и считал писательство пустой тратой времени. В школе, а затем и в университете Кафку травили из-за национальности: его не признавали ни чехи, ни немцы.
По профессии он вовсе не был писателем. Под давлением семьи Кафка окончил юридический факультет и устроился работать в страховое учреждение. Бюрократическая рутина душила его сильнее любой болезни. То немногое, что дошло до нас, он писал поздними ночами, украденными у сна и последних сил.
Любовь у него тоже не сложилась. Он был помолвлен с Фелицией Бауэр, но дважды разрывал помолвку. То ли из-за своей болезненной застенчивости, то ли потому, что считал себя неспособным дать женщине счастье (в письмах он постоянно за себя извинялся). При жизни он опубликовал лишь несколько рассказов, а свои романы велел сжечь и умер от туберкулёза в сорок лет.
Мы пришли к выводу, что Кафке просто не повезло родиться не в то время и не в том месте. В мире, где громко выживают наглые, он говорил тихо, и, может быть, поэтому его услышали только после смерти.
Амели догнала меня, и её волосы длинною до плеч чуть разлетелись по сторонам, открывая вид на небольшую татуировку на шее, которая «должна была прикрыть послеоперационный шрам».Сегодня на ней, как обычно, были чёрные классические брюки, облегающая кофта, пиджак и жемчужное ожерелье. Амели не любила яркие цвета: почти никогда не носила жёлтое, зелёное и уж тем более розовое, предпочитая белый, серый, тёмно-синий и чёрный.
С незнакомыми людьми она говорила тихо и почти отстранённо, но с близкими друзьями громко и местами оживлённо. Часто жестикулировала руками, если ей что-то не нравилось, но почти никогда не возражала вслух, поскольку боялась любых конфликтов.
Помимо Кафки, Амели страстно любила Гюго, Достоевского и Мураками. В этом году она сходила с ума по «Песни Ахилла»(6), называя её самым грустным любовным шедевром, что довелось ей прочесть (именно оттуда, кажется, и тянулись корни её увлечения античностью). Чтобы разделить её восторг, мне приходилось читать все эти книги вместе с ней — ведь наш общий друг Винсент, в отличие от меня, почти никогда не шёл на уступки.
Она посмотрела на меня с лёгким ожиданием, и я наконец, вспомнил, что обещал ей прочитать «Песнь Ахилла» в эти выходные:
— Я не читал, — сразу признался я. Амели в ответ слегка ударила меня по плечу.
— Ты обещал, — упрекнула она. — Любовь Ахилла и Патрокла достойна твоего внимания, Элиас!
Я бросил короткий взгляд на чёрную книгу в её руках.
— Прости, но у меня нет времени. В прошлый раз ты говорила то же самое про «Мориса»!
И это даже не считая «Назови меня своим именем». Помимо античности, я забыл упомянуть, что Амели была заядлой фанаткой геев. Ещё одна причина, по которой она, наверное, сдружилась бы с Эшфордом. Меня передёрнуло от одной лишь мысли о нём.
— Но это другое, — продолжила она. — Зная твои пристрастия к Гомеру...
— Гомера любит Клара. И ты. Но не я, — поспешил перебить её я.
Амели надула щёки и опустила взгляд в пол. Похоже, обиделась.
— В последние дни ты какой-то слишком нервный.
Всё потому, что меня преследует помешанный фанатик античности.
— Поживёшь с Люсьеном пару дней — поймёшь, — пробурчал я, когда мы вошли внутрь. — Он забрал мою кровать и, похоже, не собирается съезжать...
Отчасти я говорил правду. Люсьен обещал задержаться не больше недели, но прошёл уже почти месяц, а он даже не пытался искать новую квартиру. Выгнать его я тоже не мог, сами понимаете, как грубо это будет выглядеть с моей стороны.
— Ты слишком добр к нему, вот он и садится тебе на шею, — заметила Амели с её вечным «материнским» тоном. — А если хозяин квартиры всё узнает?
Об этом я, признаться, не подумал. Он должен прийти в конце месяца, чтобы проверить трубы и канализацию.
— Ну что ж, — вздохнул я мрачно, — будем бомжевать вместе с Люсьеном.
Мы поднялись по широким ступеням на второй этаж, и Амели протянула мне несколько прозрачных конфет, слабо напоминавших по вкусу арбуз. Она таскала их с собой ещё с первого курса и раздавала всем подряд, даже тем, с кем почти не общалась(таким образом она заводила знакомства и со временем это превратилось у неё в привычку). Мы с Винсентом часто подшучивали над этим, считая её немного странной. Хотя, если подумать, все творческие люди в чём-то слегка чудаковаты.
— Ты уже закончил свой роман? — неожиданно спросила она.
Я открыл дверь и пропустил её вперёд.
— Пока нет. Пока нет. Там слишком много дыр в сюжете. Не думаю, что его вообще можно будет издать.
Амели тяжело вздохнула и присела на стул.
— Повезло тебе. А я даже начать не могу... — она сморщила носик. — Вот вроде бы есть отличная идея, даже сцены в голове вижу так ясно, как в кино, но стоит сесть за ноутбук, как всё вдруг улетучивается и... у меня ничего не получается... Иногда я думаю, может, зря вообще решила стать писателем? Одними мечтами сыт не будешь. Тут нужен либо исключительный талант, как у тебя или Винсента, либо хорошие связи и спонсоры. У меня нет ни того, ни другого. В последнее время я слишком часто думаю об этом, думаю и думаю, и чувствую, как будто из меня вытаскивают последние остатки надежды. А для писателей надежда — это всё...
Она резко осеклась, словно испугалась собственной откровенности. Я заметил, как в её глазах блеснула влага, и сердце неприятно сжалось.
— Амели, — мягко сказал я. — Поверь, я далёк от таланта. У меня сплошные грамматические ошибки. А Винсента ты переоцениваешь — он пишет одну порнуху, а такое всегда легко находит читателя, — я попытался улыбнуться, чтобы подбодрить её. — Из нас троих именно ты подаёшь больше всего надежд. Не стоит убиваться из-за каждой неудачи. Даже если пока не получается — значит, просто ещё не пришло время.
Она с трудом заставила себя улыбнуться.
— Нет, это ты подаешь больше надежд, Элиас. Ты пишешь очень красиво, почти как Гюго, но просто не хочешь признавать этого, — услышал я, и прежде чем успел что-либо ответить, прозвенел звонок.
22 ноября 2014 года.
— Я люблю вас больше всего на свете. Не странно ли это? — в этот раз Люсьен произнёс фразу чуть чувственнее, и я лишь покачал головой.
Стрелки часов приближались к полуночи. Мы сидели на крыше старого дома, откуда открывался вид на бесконечно большой Париж. Чуть вдалеке, сквозь лёгкий туман можно было увидеть слабый, почти тусклый свет от башни Нотр-Дама.
Я поёжился от холода и, сунув руку в карман, достал мятую пачку сигарет. Обычно я старался не курить в будние дни, но сегодняшний вечер стал исключением. Люсьен слегка нахмурился, но ничего не сказал(это он был тем, кто подсадил меня на сигареты).
— Повтори ещё раз, — сказал я, выпуская в сторону серое облако. — Мне кажется, ты немного переигрываешь.
Люсьен недавно прошёл пробы на комедию Шекспира «Много шума из ничего» и получил роль Бенедикта — молодого падуанца, влюблённого в племянницу губернатора Мессины, Биатриче. Мы сидели на крыше уже больше двух часов: я помогал ему заучивать реплики, указывал на места, где он звучал особенно фальшиво. К несчастью, таких моментов оказалось слишком много. Я поправлял его почти после каждой строки, и за это время мы успели разругаться больше трёх раз.
— Я люблю вас больше всего на свете. Не странно ли это? — повторил он наконец с таким тоном, будто делал мне одолжение.
Я выпустил в воздух клубы дыма и прочёл вслух реплику Биатриче:
— Странно, как вещь, о существовании которой мне неизвестно... Точно так же и я могла бы сказать, что люблю вас больше всего на свете. Но мне вы не верьте, хотя я и не лгу. Я ни в чём не признаюсь, но и ничего не отрицаю. Я горюю о своей ку...
— Нет, Элиас, с тобой каши не сваришь! — вдруг перебил меня Люсьен.
Я чуть не поперхнулся дымом. На секунду, это он упрашивал меня помочь ему с репетицией, а теперь, когда я пожертвовал своим личным временем и отморозил свою задницу на крыше, вместо того, чтобы спокойно сидеть в тепле и работать над романом, он выставил меня виноватым.
— Что опять я сделал не так? — возмутился я.
— А ты как думаешь? По-твоему, Биатриче стала бы курить из трубочки, когда Бенедикт признаётся ей в чувствах?! Ты просто невозможен!
Ах, это я невозможен?
— А что, если бы стала? — парировал я. — Представь: она затягивается, выпускает дымовое кольцо и томно шепчет: «Я ни в чём не признаюсь...» Это было бы эффектно!
— Эффектно?! — он закатил глаза. — Это было бы катастрофой!
— Ну извини, мне холодно, — я развёл руками. — Должен же я хоть как-то согреться и успокоить нервы. И почему я вообще перед тобой оправдываюсь?! Ты чёртов эгоист, и вместо благодарности орёшь на меня, будто я испортил тебе премьеру!
Я резко вскочил с места, и Люсьен поднялся следом.
— Я всегда находил время для всех твоих черновиков и читал их, даже если они были до ужаса скучными! — набросился он на меня.
— Что? Но ты же говорил, что они интереснее любого комикса!
— Потому что знал, что если скажу правду, ты обидишься!
— Но я давал тебе читать не ради красивой лжи, а чтобы услышать честное мнение! Как близкий друг ты должен был это понимать!
Мы посмотрели друг на друга, как чужие друг другу люди. Впервые меня охватил настоящий страх: насколько же мы успели отдалиться друг от друга после увольнения из книжного кафе? Люсьен нахмурился, и я краем глаза заметил, как вздулись жилы на его шее. Он был по-настоящему зол.
— Истинный друг говорит правду, даже если она ранит, — успокоившись, слегка разочарованно сказал я.
— Судя по тому, что ты перестал делиться со мной, я перестал быть твоим другом, — обиженно бросил он. — Элиас, с тех пор как ты стал работать переводчиком, ты изменился. Ты уходишь от моих вопросов, и особенно от тех, что касаются герцога.
— Потому что я не хочу с тобой ссориться! Ты ненавидишь Эшфорда!
— Я просто хочу, чтобы ты держался от него подальше, и чтобы он тебе не говорил, он совсем не тот, за кого себя выдает.
— Откуда тебе знать?
Мне надоело играть в угадайку. Люсьен снова что-то недоговаривал. Я видел это по его глазам, смотрящих на меня с некоторым сочувствием.
— Просто знаю, — пожал он плечами. — Лучше найди себе другую работу.
После этого он ушёл и появился только на следующее утро (видимо, снова шатался по ночным клубам).
24 ноября 2014 года
С появлением Эшфорда в моей жизни я начал ненавидеть пятницы и любить понедельники, которых до этого не выносил. Я застрял в Сорбонне почти до восьми вечера, поскольку нас всех (большинство первокурсников и второкурсников) заставили пойти в большой амфитеатр, где должен был выступать выпускник нашего университета — Эммануэль Макрон, он же новый министр экономики, вступивший в эту должность в августе. Амели, Винсент и я, будь на его месте Мишель Уэльбек (7) , наверное спотыкались и падали, чтобы занять первые места. Но Макрон в наших глазах лишь был очередным заносчивым мажором. Как и ожидалось, он говорил о «трех болезней Франции» — недоверием, сложностью правил и корпоративным протекционизмом (8). Он прямо-таки горел желанием оспорить закон, заявив, что стране нужно быть гибче и предложил открывать магазины в воскресенье, подстраиваясь под современные ритмы. В зале все переглянулись, как будто он покусился на святое, но никто ничего не сказал вслух.
Если вы думаете, что все во Франции работают по выходным, прямо как я, то глубоко ошибаетесь. Закон прямо запрещает заставлять сотрудников трудиться, поскольку для всех уважающих себя французов — суббота и воскресенье предназначены исключительно для семьи, друзей и вина за ленивым обедом. Никто в здравом уме здесь не станет устраивать собрания или гонять людей по работе, разве что ты врач или официант.
И вот именно поэтому я не мог не усмехнуться, когда понял, что Эшфорд нанял меня именно на выходные. Он куда больше англичанин, чем француз (и это при том, что его мать была коренной парижанкой!).
Итак, после громких речей и слегка наигранных шлепков, Макрон покинул амфитеатр с долей гордости, оставив повод для прессы, раскритиковать его политический маневр в пух и прах. Амели ничуть не смутившись, сказала, что наша страна будет обречена в тот же миг, если он вдруг станет президентом, и мы с Винсентом весело хмыкнули.
Я почти забыл, что сегодня пятница и поэтому был застигнут врасплох, когда увидел слишком роскошную машину у ворот Сорбонны, которая явно не должна была там стоять. Водитель, не Жюльен, а мужчина около пятидесяти лет, завидев меня, несколько раз посигналил, и оживлённо спорящие Амели с Винсентом, наконец, отвлеклись на звук.
Мне совсем не улыбалось становиться объектом их расспросов, и я решил ретироваться, пока кто-то из них не задал очередной неловкий вопрос о моей личной жизни.
— Ладно, ребят, я побежал, — махнул я им на ходу и ускорил шаг.
— Не забудь прочитать книгу! — выкрикнула вслед Амели, не оставляя попыток вовлечь меня в свой фан-клуб.
Но я был слишком увлечён внезапно накатившей злостью. До сегодняшнего дня я всегда добирался до шато поездом, и никогда это не становилось проблемой. Зачем нужно было устраивать этот цирк с машиной у университета, да ещё и привлекать внимание? Я угрюмо дёрнул на себя дверцу и скользнул на заднее сиденье.
— Здравствуй, Элиас, — раздался знакомый голос.
Я вздрогнул. В машине сидел Эшфорд и, судя по лёгкой улыбке, отлично забавлялся моей реакцией. Сердце на миг подпрыгнуло к горлу, и мне понадобилось несколько мучительных секунд, чтобы привести мысли в порядок.
— Что вы здесь делаете? — спросил я с некоторым недоумением и оттенком горечи.
— Я только вернулся с Женевы и подумал, что было бы неплохо, если мы с тобой поужинали где-то в городе.
Я нахмурился и отвернулся к окну, не зная, как реагировать. С Женевы он мог вернуться разве что с какой-нибудь встречи в ООН или Всемирной торговой организации, во всяком случае он выглядел ничем не хуже Эммануэля Макрона (я бы даже сказал в разы лучше, по крайней мере, чёрный костюм только подчеркивал его красоту).
Машина мягко тронулась с места, и я почувствовал, как в животе неприятно скрутило, и прежде чем вы подумали, что я, как типичный студент пренебрег обедом в столовке, нет скрутило не от голода, а от мысли, куда он меня тащит.
— Куда мы едем?
— В Кларенс. Ты наверняка слышал о нём.
— Вы имеете в виду особняк XIX века? — уточнил я. Он ответил лишь коротким кивком.
Конечно я о нём слышал, и об астрономических ценах в том числе тоже, поскольку их кухня пользовалась огромным спросом у знаменитостей. Странно, что они до сих пор не заслужили звёзд от «Мишлен», но с таким видом, предполагаю, им осталось совсем недолго. Люсьен сказал, что были времена, когда он работал там официантом, и блюда в основном у них сезонные. Всё, что я успел подумать — что ужинать с ним в таком месте было сродни встрече с дьяволом за столом.
— Слышал, после моего отъезда ты расстроился, — сказал он неожиданно мягко, и я тут же насторожился. — Прости, если был слишком груб. Но ты не оставляешь мне выбора, кроме как угрожать тебе.
Мне нечего было сказать в ответ, и я промолчал.
— Ты, наверное, думаешь, что я богатый ублюдок, привыкший получать всё, что захочет, — продолжил он. — Но это не так. Просто я не знаю, как к тебе подступиться, Элиас. Ты упрямишься, и не даешь мне и шанса.
Шанс? — мысленно фыркнул я. О каком шансе может идти речь, если я уверен, что не по мужчинам? Он положил на меня глаз ещё когда я был школьником, и всё это время наблюдал за каждым моим шагом. По-моему, это уже не романтика, а нездоровая одержимость. И моя реакция вполне естественна!
— Тогда перестаньте угрожать мне отчислением из Сорбонны, — сказал я с ядовитой усмешкой. — Может, тогда я и попробую дать вам шанс.
Последние слова вышли с неохотой.
— Ты сейчас со мной торгуешься? — спросил он с некоторым раздражением.
Я подался вперёд, стараясь говорить твёрдо, хотя внутри всё сжималось.
— Если вы хотите, чтобы я пошёл вам навстречу, перестаньте держать над моей головой Сорбонну, как топор. Угрожать будущим выпускнику — сомнительный способ добиться расположения. Я и так понял, что вы сильнее, богаче, влиятельнее. Но если всё, на что вы способны, — это давить на меня своим положением и кошельком, то я могу решить, что больше у вас ничего нет.
Водитель спереди прокашлялся и в салоне повисла минутная пауза. В салоне повисла напряжённая тишина. Герцог не отводил от меня холодных серых глаз, словно проверял, не блефую ли я.
— Тут ты прав, — с оттенком гордости вылетело из его уст, когда я уже смирился с тем, что сейчас снова буду унижен. — Обещаю, я больше никогда не стану давить на тебя с отчислением из Сорбонны, — лаконично сказал он.
Я наконец смог немного расслабиться (хотя бы на короткое время). Машина мягко остановилась у ресторана, и тут как назло разразился дождь. Служащие тут же бросились навстречу, укрывая герцога огромным зонтом. Про меня, к счастью, тоже не забыли. Я только успел краем глаза заметить фасад здания, прежде чем Эшфорд крепко взял меня за руку и почти силой втянул внутрь.
«Не хватало, чтобы ты заболел», — пробубнил он под нос, и в этот момент я внезапно поймал себя на мысли, что в его голосе прозвучало то же тёплое, ворчливое заботливое интонирование, что и у месье Эмиля Дорсена, моего семидесятилетнего учителя французского.
Внутри «Кларенс» оказался ещё роскошнее, чем я ожидал. Холл был обшит тёмным деревом, старинные камины сияли отполированными до блеска решётками, под ногами мягко пружинили ковры. К моему сожалению, Эшфорд поднялся вверх по лестнице, и как я понял, основные залы располагались на втором этаже, где стояли всего по несколько столиков. На гардинах висели тяжелые шторы, а к стенке в дальнем углу был пристроен тот же деревянный шкаф, коричневого, почти темного цвета, на полках которого выглядывали книги, дальше по стене висели картины охотничьих сцен и безымянных лиц.
Я почти было свернул туда, но Эшфорд поднялся ещё выше, по всей видимости, направляясь к приватным комнатам, которыми пользовались в основном высокопоставленные лица. К тому моменту, как мы зашли внутрь, стол уже был накрыт белоснежной скатертью, на которой красовался фарфор, рядом в несколько рядом лежали столовые приборы, к счастью я научился отличать их благодаря Альберу, и мог не переживать, что ударюсь лицом в грязь.
Эшфорд, даже не заглянув в меню, заказал их фирменное блюдо — голубя, запечённого с трюфелями и поданного с соусом из лесных ягод. Для него, казалось, это было привычным делом — есть птицу в карамелизированной глазури. Я же с опаской ткнул в «безопасный» вариант, выбрав рыбу с сезонными овощами. И пока официант принимал заказ, я с горечью подумал о том, что в моей жизни даже курица на гриле считалась непозволительной роскошью.
— Здесь работает ученик Филиппа Эшбаха, — заметил он между делом, едва пригубив бокал вина (редкий бордо из ресторанного погреба, который, как я позже узнал, открывают только для министров или очень постоянных клиентов). — Лоран Шевалье. Чертовски талантливый шеф, даже по парижским меркам. Я хожу сюда по будням уже почти год и всё это время пытаюсь переманить его к себе. В последний раз предложил двести тысяч в год и полную свободу создавать меню. Но он упирается, говорит, что сначала должен заслужить признание критиков и заработать свои звёзды, прежде чем «продаться».
— Двести тысяч за то, чтобы жарить мясо и поливать его соусом? — вырвалось у меня чуть насмешливо.
Эшфорд чуть приподнял бровь, как будто я сказал что-то очень наивное.
— Для него готовка — это его искусство, — произнёс он медленно, почти наставительно.
Я пожал плечами:
— Если бы мне кто-то предложил двести тысяч за то, чтобы читать стихи или переводить тексты, я бы не ломался ни секунды. Искусство искусством, но холодильник сам себя не наполнит.
Он улыбнулся краем губ:
— Когда-нибудь ты поймёшь его чувства, — герцог указал на мой бокал. — Попробуй. Оно отличается от всего, что ты пил раньше.
Я неторопливо сделал несколько глотков, поражаясь его вкусу. И ведь действительно отличалось. Вкус оказался куда сложнее, чем я ожидал: терпкий, но не сухой, с лёгкой бархатной сладостью, оттенком вишнёвой косточки и пряных трав.
— Разве тебе не интересно кем я работаю? — вдруг спросил он, когда я положил бокал на место.
— Мадам Дюран сказала, что вы государственный служащий.
— Не совсем так. Я скорее — независимый эксперт, консультирую Европейскую комиссию и несколько рабочих групп при Совете ЕС. Моя задача — анализировать риски, в основном в сфере международных отношений. Женеву я посещаю именно из-за этих встреч.
То есть он что-то вроде политического консультанта? Не знаю как на деле, но на словах прозвучало слишком круто.
— Сколько вам лет? — вырвалось у меня само собой. Мне всегда казалось, что на такие должности берут только пожилых.
— Тридцать один.
Я даже не знал, что к политикам могут примыкать мужчины его возраста. Не старики, но и не «опытные зубры». Я перевёл взгляд на наши тарелки — и только сейчас заметил, какие же крошечные тут порции, несмотря на внушительные цены. Будь я на месте Эшфорда никогда бы не стал платить за такую дрянь...
— Гаспар сказал, что был впечатлён твоими познаниями в античности, — заметил он неожиданно, и в голосе его слышался оттенок гордости. — Как прошло ваше знакомство?
— Кажется, он просто пытался нащупать почву, чтобы понять, сколько я знаю. Вот и всё.
— Почему ты так стремишься в Лимож? Насколько мне известно, тебя там никто не ждёт.
Я поднял голову и встретился с ним взглядом. Нужно ли говорить, как сильно это задело мою гордость?
— Хоть мы и поссорились с Кларой, всё это время она продолжала высылать мне небольшую сумму, которую зарабатывала на второй работе. А ещё в прошлом году я обещал племянникам, что навещу их к Рождеству. Но в кафе была такая запара, что у меня ничего не вышло...
— Могу я узнать почему вы поссорились с Кларой? — деликатно спросил он.
— Она не одобрила мой переезд в Париж, боялась, что не сможет потянуть мои расходы, — ответил я с лёгкой горечью. — Но при этом гордилась тем, что я поступил в Сорбонну, и при каждом удобном случае хвасталась этим перед знакомыми. Она может показаться стервой, но это не так. На самом деле Клара очень добрая. Просто ей не повезло с мужем.
К счастью, Эшфорд больше не стал задавать вопросов. Мы выпили ещё по бокалу вина и отправились домой.
25 ноябрь 2014 года
Я проснулся с примесью странного чувства. Эшфорд накануне не стал меня допытывать и даже пообещал больше никогда не угрожать отчислением из Сорбонны. В глубине души я понимал, что он может нарушить обещание, если посчитает нужным, но упрямо надеялся, что он человек слова.
Завтрак задерживался почти до восьми утра из-за перебоев с электричеством.Я думал скоротать время в библиотеке, но не смог туда попасть по той же причине, поэтому пришлось выйти на улицу вместе с томиком «Писем к молодому поэту».
На улице было чуть теплее, чем вчера, и после дождя в воздухе стоял лёгкий запах влажной почвы. Я любил этот аромат сырости и, сам того не заметив, устроился на крайней ступени лестницы и под первыми лучами солнца погрузился в чтение. В своих письмах Рильке, казался таким искренним и мудрым, что каждое его слово проникало в самую душу. Я не знаю, что произошло в жизни Капуса и какое именно письмо он тогда отправил (возможно, полное отчаяния), но вот как ответил ему Рильке:
Вы так молоды, Ваша жизнь еще в самом начале, и я Вас очень прошу: имейте терпение, памятуя о том, что в Вашем сердце еще не все решено, и полюбите даже Ваши сомнения. Ваши вопросы, как комнаты, запертые на ключ, или книги, написанные на совсем чужом языке. Не отыскивайте сейчас ответов, которые Вам не могут быть даны, потому что эти ответы не могут стать Вашей жизнью. Живите сейчас вопросами. Быть может, Вы тогда понемногу, сами того не замечая, в какой-нибудь очень дальний день доживете до ответа. Быть может, в Вас заключена возможность творить и чеканить образы, которую я считаю особенно счастливым и чистым проявлением жизни; тогда готовьте себя к этому, — но примите все, что ни случится, с большим доверием; если только это рождено Вашей волей или потребностью Вашего духа, примите эту тяжесть и не учитесь ненавидеть ничего.
Я хочу писать так же, как он. Хочу, чтобы мои слова проникали в души других людей так же глубоко, как его. Это было моей первой мыслью. А за ней последовала вторая: у меня так никогда не получится. И я немного расстроился. Все говорят, что навык должен прийти с опытом, но я так не считаю. Он либо есть, либо его нет. Вот и всё.
Не каждому дано творить историю, и не каждая история, даже полная мыслей и чувств, способна стать литературным шедевром. Люди тянутся к искренности, к тем эмоциям, которые они испытывают при чтении. Им нужно сопереживать героям, чувствовать желание поддержать их, вытащить из ямы, молиться за них, как за живых. И только писателю — словно Богу — подвластно вызвать в них такие чувства.
Я так глубоко погрузился в свои мысли, что вернулся в реальность лишь тогда, когда почувствовал на плечах тяжёлое пальто. Это был Эшфорд: он стоял на ступеньку выше и смотрел на меня сверху вниз.
— Если хочешь почитать на улице, у нас есть ботанический сад, там теплее, — сказал он с оттенком укора, но затем смягчился. — Не хочу, чтобы ты простудился, Элиас.
Я смутился. Даже Клара никогда так за меня не переживала.
— Всё в порядке, здесь достаточно тепло, — ответил я, чуть расслабившись.
Он протянул руку, и мне пришлось принять её, чтобы подняться.
— Слышал, за всё это время ты ни разу не выходил за пределы шато, — заметил он, когда мы вошли в дом. — Не хочешь после завтрака поехать со мной в город?
Под зорким взглядом Альбера я и шагу не решался ступить наружу. Но теперь, когда приглашение исходило от самого хозяина, грех было от него отказаться.
— Я бы с радостью, но мне нужно работать над переводами, — поспешно сказал я, заметив, как из ниоткуда появился дворецкий. Помяни черта — и он тут как тут. Я и сам не знал, почему он внушал мне такой страх, но, признаться, я боялся его даже больше герцога.
Эшфорд улыбнулся.
— Переводы подождут, — бросил он и тут же обратился к Альберу: — Передай Феликсу, пусть отменит все встречи до трёх часов дня.
Дворецкий посмотрел на меня с лёгким недовольством и тяжело вздохнул.
— Как насчёт обеда с министром экономики? — лаконично спросил он. — По вашему распоряжению Фабьен уже начал готовить раков в шампанском. Он даже поставил панцири на медленный огонь для соуса-биск. Если отменить подачу, боюсь, он сочтёт это личным оскорблением.
Я уже было подумал, что поездка отменяется, но герцог лишь усмехнулся.
— Тогда убедишь его, что министр оценит это завтра.
— Убедить Фабьена всё равно что убедить вас забыть про график.
— Намекаешь, что он подаст в отставку?
— Я намекаю, что он устроит драму века... и может быть, даже громче, чем министр экономики...
До этого момента мне никогда не доводилось видеть их словесную перепалку. Должен сказать, хотя дворецкий и говорил уважительно, в его тоне сквозили нотки упрёка. В отличие от остальных, он ничуть не боялся гнева Эшфорда (ещё одно доказательство того, что в этом доме правила устанавливал скорее дворецкий, чем его хозяин).
— Альбер, я плачу ему свыше ста тысяч — это вдвое больше, чем он зарабатывал на прошлом месте, — голос герцога стал заметно грубее, словно он начинал терять терпение. — Если я сказал, что встреча отменяется, значит, она отменяется. А теперь, если позволишь, дай мне пройти в мой дом... или мне здесь больше не место?
— Ни в коем случае, ваша светлость, — Альбер тут же подвинулся.
— Что там с завтраком? — рявкнул Эшфорд, и мне вдруг захотелось вернуть свои слова обратно. В гневе он был куда страшнее, чем дворецкий.
— Стол уже накрыт.
Они направились к террасе, и мне пришлось идти следом, потому что я попросту не знал, куда себя деть.
— Можешь быть свободен, — коротко бросил герцог Альберу. Затем обернулся ко мне, и черты его лица тут же смягчились: — Элиас, присаживайся.
Я только сейчас заметил, что стол накрыт на двоих, и немного замешкался, прежде чем опуститься на указанное место.
— Тебе не стоит так бояться Альбера, — сказал Эшфорд, занимая место в центре. — Он консервативен и не любит отходить от своих обязанностей, поэтому может показаться требовательным. Но против тебя ничего не имеет. А вот кого тебе действительно стоит опасаться, так это Сары. Она властвует в Лондоне и куда категоричнее ко всем приезжим.
— Вы живёте в Лондоне? — осторожно уточнил я.
— Обычно только зимой или когда того требует работа.
Я потянулся за кофе.
— Сначала поешь, Кофе на голодный желудок вреден, — заметил Эшфорд тоном, от которого я невольно потянулся за булочкой.
Яйца всмятку всегда вызывали у меня отвращение. Как, впрочем, и появившийся из ниоткуда Феликс — личный секретарь герцога. Сегодня он выглядел особенно официально: тёмно-синий костюм, красный галстук с белыми узорами от Gucci (такие были у Люсьена), очки в тонкой золотистой оправе. Поправив их, он ядовито улыбнулся и, даже не дождавшись приглашения, сел за стол.
— Доброе утро, — сказал он подчеркнуто вежливо, а затем повернулся к герцогу. — Ваша светлость, боюсь, отменить встречу с господином Макроном не представляется возможным. Он настаивает на беседе по вопросам предвыборной кампании и дал понять, что в случае отказа обратится за консультацией к Уитмору.
Я почувствовал себя ребёнком, подслушивающим взрослых.
— Уитмор мне не соперник, — недовольно бросил Эшфорд. — Он будет дураком, если решит уйти к нему.
Феликс, похоже, уловил нарастающее раздражение, но остался невозмутимым:
— Позволю себе напомнить: после урегулирования кризиса в Тунисе вас с Уитмором прозвали «политическими двойниками» двух миров. С прошлого года политики всё чаще обращаются к нему, когда вы отклоняете встречи. И пока что, они его услугами довольны. Если же господин Макрон добьётся успеха при поддержке Уитмора, ваша позиция может быть поставлена под сомнение. Достаточно вспомнить Брюссельский инцидент — он до сих пор обсуждается. Скажем так, окажись на моём месте Гарольд, он сказал бы то же самое, а вы знаете, как редко мы сходимся во мнениях.
Он говорил быстро, чётко и без единой паузы, не задевая самолюбие герцога, хотя это, я уверен, было задачей не из лёгких.
— Ты прав, — неожиданно быстро признал Эшфорд. — Пусть приезжает пораньше. К десяти. И раскройте все окна — в прошлый раз его парфюм едва не свалил нас с Альбером с ног.
От этих воспоминании он резко сморщился, и Феликс незаметно подмигнул мне.
— Я могу идти? — уточнил он, уже поднимаясь.
— Да. И передай Клеману, что после завтрака я хочу видеть его в кабинете, — отозвался герцог.
— Будет исполнено.
Феликс тут же погрузился в телефон и судя по всему, кажется, начал искать в списке контактов номер секретаря Макрона, чтобы обсудить с ним предстоящую встречу. К тому моменту, я уже съел булочку и допил ароматный кофе.
— Тем лучше, — сказал Эшфорд, обернувшись ко мне. — После встречи поедем в город и пообедаем там. К тому времени его запах выветрится из дома.
Не понимаю его негодование по поводу запаха Макрона... Он что, поливает себя парфюмом ведрами? Или у него есть особый аромат, который убивает все носы наповал? Но я благоразумно промолчал, ибо задавать вопросы явно было не лучшей идеей.
— Месь... то есть, Оскар, — я запнулся и торопливо поправился. — В конце декабря у нас начинаются экзамены. Я бы не хотел рисковать стипендией, поэтому чем больше переведу сейчас, тем легче будет работать потом.
Я чуть отодвинулся от стола и старался изо всех сил не встречаться с его взглядом.
— Я не тороплю тебя с переводами, Элиас, — деликатно напомнил он. — Ты прекрасно знаешь, зачем здесь находишься.
— И всё же, — выдавил я, — я хочу честно заслужить свою зарплату.
Разумеется, мне не льстила мысль запираться в библиотеке на протяжении двух дней, как отшельник, но гордость у меня тоже была. К тому же, я куда охотнее прогулялся бы по городу один или в компании Жюльена с мадам Дюран, но никак не с ним.
— Я настаиваю, — его голос прозвучал твёрже. — Если тебе так проще, считай, что платят тебе именно за то время, которое ты проводишь рядом со мной.
На этом спор был окончен.
***
Как истинный француз, Эммануэль Макрон явился в шато не к десяти, как договаривались, а в половине одиннадцатого — с изящным опозданием на тридцать минут. Эшфорд, педантичный британец до мозга костей, бесился от этого до усрачки.
Макрон прибыл целой свитой: с молодой секретаршей, на которую Феликс тут же начал строить глазки; с тремя охранниками, разливавшими по дому атмосферу спецоперации; и ещё с двумя советниками, к которым он время от времени обращался с загадочными уточнениями. Что именно они шептали ему, я так и не понял. Но за то, точно знал, что Макрон щедро обливался Christian Dior Sauvage. Причём слово «щедро» не передаёт всей истины: создавалось впечатление, будто бы он нырнул во флакон целиком и для полной достоверности решил ополоснуться перед выходом из дому.
Аромат этот или, если честно, смрад, распространился по дому так быстро, что я почувствовал его ещё на подступах к кабинету Эшфорда, хотя комната находилась в самом конце коридора. Окна были распахнуты настежь, но большой роли это не играло. За весь приём Альбер, казалось, несколько раз порывался уйти в отставку, но всё же продержался до самого конца. В комнату он теперь забегал только на пару минут и двигался с непривычной скоростью, спасая свой несчастный нос бегством.
Встреча длилась почти два часа. Эшфорд, ради приличия, угостил Макрона раками в шампанском, и даже шеф-повар, который ещё утром был готов зарезать кого угодно за то, что его подняли ни свет ни заря, теперь выглядел довольным, как младенец. Я сидел в отдельной кухне для слуг, когда Феликс напечатав что-то в телефоне (я почти был уверен, что у него настоящая зависимость!), отложил его в сторону.
— Альбер, — сухо обратился он к дворецкому, — напомните, когда его светлость обычно перебирается в Лондон?
Альбер раздражённо поправил манжеты. С самого утра у него было такое выражение лица, что к нему лучше не подходить ближе, чем на пять шагов.
— Обычно в конце января, — ответил он сдержанно.
Но Феликс, в отличии от него, был слишком разговорчив, и к моему сожалению вспомнил про моё присутствие:
— Наш наивный добрый мальчик, — протянул он ядовито, и я устало вздохнул. — Элиас, подскажи мне, какой район будет тебе по душе — шестой округ или восьмой?
Я, ни о чём не подозревая, ответил самым честным образом:
— В восьмом живёт мадам Валуа. Он неплохой.
— Значит, восьмой, — протянул Феликс уже с откровенно скучающим видом. Он поправил очки и поднялся. — Думаю, они закончили.
Альбер облегчённо выдохнул.
— Слава Богу, — пробормотал он, не скрывая замученного вида. — Элиас, иди к герцогу.
Я с тоской посмотрел на нетронутых раков. Из-за запаха повисшего в комнате, никто по праву их не оценил, и мне стало немного обидно за повара.
Перед уходом Макрон несколько раз пожал руку герцогу, довольный результатом переговоров, и наконец вышел из дома в сопровождении Альбера. Эшфорд же сразу же обратился к стоявшему рядом Феликсу:
— Свяжитесь с Гарольдом. Пусть выезжает из штаба.
Феликс позволил себе тонкую, почти незаметную усмешку.
— Ваша светлость, боюсь, вы забыли: мистер Гарольд сейчас в отпуске. Насколько я знаю, он уже улетел на Ибицу.
— Пусть возвращается. Мне нужна моя аналитическая команда, — коротко отрезал Эшфорд.
— Разумеется, — почтительно склонил голову Феликс. — Я передам ему, чтобы он поторопился.
Я стоял у дверей, ожидая, как было велено, пока герцог освободится. Феликс бросил на меня странный, двусмысленный взгляд и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но вовремя передумал, прикусил язык и поспешил удалиться.
— Элиас, оденься теплее. Альбер должен был приобрести для тебя несколько новых костюмов на выход, — произнёс Эшфорд спокойно, уже без той надменности, что обычно слышалась в его голосе.
— Но мне нравится мой свитер и брюки. В них тоже тепло, — растерянно возразил я.
— Место, куда мы идём, требует иного вида, — пояснил герцог так, словно говорил с ребёнком. — Спустись вниз, как только переоденешься. Я буду ждать снаружи. Здесь просто невозможно дышать! — он резко поднялся и, кажется, в тот же миг напрочь забыл о моём присутствии. — Альбер, вы уже открыли окна?
Мне ничего не оставалось, кроме как послушно подняться наверх и исполнить приказ.
***
Уж теперь-то я понимаю Франциска I и его особую привязанность к этому замку. Вживую он оказался куда более величественным, чем я когда-либо представлял его в своих жалких фантазиях. Первоначально на этом месте стояла средневековая крепость, возведённая ещё в V веке королём франков Хильдериком I. С тех пор многое изменилось: залы перестраивались, крылья достраивались и большинство комнат были заперты, но достаточно одного взгляда, чтобы ощутить ту давнюю, хранящуюся в его стенах атмосферу.
Эшфорд, кажется, уже был здесь. И не раз, поэтому скучающе осматривал картины, раздумывая над тем, не стоит ли приобрести одну из них для своей коллекции. Всю дорогу мы почти не говорили, поскольку он без конца отвлекался на телефонные звонки и раздавал указания Феликсу. Я же, будучи в заложниках обстоятельств, молчал в тряпочку. На самом деле он хотел повезти меня в другое место, но я настоял на замке, сославшись на то, что это пригодится мне для романа.
— И давно ты хотел сюда приехать, Элиас? — застал он меня врасплох.
— С тех пор, как переехал в Париж. Месье Дорсен, мой учитель французского, говорил, что дорога сюда недолгая и что я непременно должен увидеть замок своими глазами. Сам он бывал здесь ещё в молодости, но часто вспоминал его на уроках. По его словам, Шарль VII получил замок по заслугам, а позже именно здесь умер Леонардо да Винчи, — произнёс я, стараясь звучать уверенно. — Он говорил, будто сам король Франциск держал его за руку в последние минуты, прямо как на картине Жана-Огюста-Доминика Энгра XIX века. Он показал этот момент торжественно и трогательно: король склоняется над умирающим гением...
Эшфорд усмехнулся, скользнув взглядом по готическим аркам:
— Легенда, Элиас. Звучит красиво, но на деле всё было иначе: в тот день король находился в другой резиденции. Правда в том, что Леонардо умер в соседнем доме — в Кло-Люсе, подаренным ему Франциском. А то, что Карл VII будто бы получил этот замок «по заслугам», и вовсе ошибка. В действительности, после долгих междоусобиц трёх местных феодалов одному из них удалось удержать крепость, но Карл VII, придя к власти, обвинил владельцев в измене и конфисковал её у законных хозяев. Он превратил крепость в королевскую резиденцию, а его сын, Карл VIII, сделал из неё настоящий дворец. Именно он перестроил покои и фортификационные сооружения. Вовлекая страну в разорительную войну в Италии, Карл VIII вывез оттуда не только произведения искусства, но и итальянского садовника, который спланировал парк и разбил сады, двадцать двух мастеров-зодчих, а вместе с ними — новый для Франции образ жизни и мышления. Ты, наверное, слышал, что при Карле VIII реконструировали башню Юрто: внутри устроили винтовую дорогу, чтобы упряжки лошадей с каретами и повозками могли подниматься прямо во двор. Вот почему Амбуаз — один из первых замков Франции в таком стиле. Карл VIII любил этот дворец, но, к сожалению, трагически погиб в нём: отправляясь с королевой наблюдать за играми в мяч, он расшиб себе голову о косяк двери галереи так, что не приходил в сознание и скончался только через девять часов.
— Но Леонардо похоронен здесь, — настаивал я, стараясь защитить месье Дорсена.
— Да, — кивнул он. — В капелле Сен-Юбер(9), но у некоторых есть подозрения, что после разрушений и перестроек XVI века останки могли быть перемещены. Французы любят верить, что это действительно его могила.
Я задумался, глядя на витражи, сквозь которые мягко сочился свет:
— А месье Дорсен уверял, что здесь устраивались грандиозные праздники...
— Отчасти он прав. При Карле VIII и Франциске I замок кипел жизнью. Но позже он превратился в тюрьму. За этими стенами казнили принцев, Элиас. А теперь это священное место, хранящее в себе историю, вынуждено терпеть толпы туристов — лишь для того, чтобы на нём наживались.
Я был поражён тем, как много он знает и как чётко умеет выражать мысли. Мне стало неловко за собственное невежество, и всю дорогу я старался избегать его взгляда. Волшебство этого места будто развеялось. Наверное, у Эшфорда есть особый талант портить впечатления...
Примечания:
(1) Oh, qu'il est mignon, le petit naïf! — ох, какой милый, наивный парень!
(2) Noli flere — Не плачь
(3) Диалог «Федон» — одно из самых известных философских произведений Платона, посвящённое последнему дню жизни Сократа. Действие происходит в тюрьме, где философ ожидает казни. В разговоре с учениками он рассуждает о бессмертии души, природе истинного знания и подготовке к смерти как к переходу в мир идей. Для афинян этот текст закреплял образ Сократа как мудреца, готового умереть ради истины, и отражал убеждение, что жизнь должна быть прожита в поисках добра и мудрости.
(4) Вазопись — это один из важнейших видов изобразительного искусства Древней Греции, особенно в Афинах в VI–IV веках до н. э. Афинские мастера расписывали керамику сценами из мифов, быта, спортивных состязаний. Краснофигурная и чернофигурная техники служили своеобразными «книгами» для неграмотных — по рисункам можно было узнать сюжет мифа или увидеть, как выглядели герои трагедий. Трагедия в Афинах была важным общественным событием. Её показывали на религиозных праздниках в честь Диониса, затрагивались вопросы справедливости, власти, человеческих страстей и долга перед богами и полисом. Трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида воспринимались как способ воспитания гражданина: через страдания героев зритель учился понимать законы мира, свою ответственность и цену ошибок.
(5) В выражении «формирует ум и выпрямляет осанку» Клара использует метафору. Она подразумевает, что занятия античной философией и историей искусства дисциплинируют ум, приучают к логике, развивают вкус, воспитывают достоинство и внутреннюю собранность. «Выпрямляет осанку» в данном контексте значит не столько исправлять физическую спину, сколько формировать уверенную и достойную манеру поведения.
(6) Песнь Ахилла — роман американской писательницы Мадлен Миллер, вышедший в 2011 году. Действие происходит в эпоху греческого героизма и представляет собой пересказ Троянской войны с точки зрения Патрокла. Роман рассказывает об отношениях Патрокла и Ахилла, от их первой встречи до их подвигов во время Троянской войны, с акцентом на их романтические отношения.
(7) Мишель Уэльбек — культовый писатель, провокатор и лауреат Гонкуровской премии в 2010 году, символизировал для студентов филологов «живую литературу», скандальную и настоящую.
(8) Корпоративный протекционизм — это когда государство специально защищает свои большие компании от конкурентов. Например, даёт им налоговые скидки, ставит преграды для иностранных фирм или разрешает участвовать в тендерах только «своим». В европейских дискуссиях 2010-х годов термин часто использовался применительно к спорам о защите национальных рынков от американских технологических гигантов.
(9) Могила Леонардо да Винчи находится в замке Амбуаз, в часовне Святого Губерта (Сен-Убер). Изначально художник был похоронен в церкви Святого Флорентина, но в 1863 году его останки перенесли в часовню. Но существуют, по крайней мере, два произошедших в прошлом события, которые ставят под сомнение то, что под могильной плитой лежит прах великого Леонардо. Во второй половине XVI века во Франции прокатилась волна религиозных войн между католиками и протестантами, во время которых кругом царили разруха и вандализм. Мародеры разворовали церковную утварь, сбили мраморные статуи, вскрыли и ограбили все могилы. Храм пришел в запустение и начал ветшать. Только спустя триста лет, в 1863 году, французы вспомнили о могиле великого Леонардо. Благодаря энергичности известного писателя и поэта Арсена Гуссе (Арсен Уссе 1815-1896 год) на месте церкви Святого Флорентина начались раскопки. Найденные останки усопших были перемешаны. Фрагменты скелета Леонардо да Винчи выбирались, исходя из пожизненного описания его внешности.