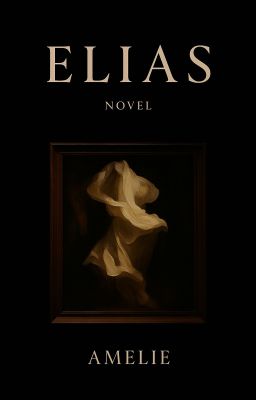3
25 ноября 2014 года
Мало того, что у меня уже целый список заданий от университетских профессоров, так теперь к ним добавился ещё и месье Рено. Сначала вежливый и обходительный, он внезапно превратился в настырного старика и заявил, что я обязан взяться за Камю и Жан-Поля Сартра: изучить их философию и написать об этом небольшое эссе — не меньше двух тысяч слов (и это он называет небольшим?).
Я изо всех сил избегал Камю, потому что его философия абсурда способна свести с ума любого здравомыслящего человека. А уж о Сартре и говорить нечего.
Итак, немного огорчённый, я сидел на заднем сиденье новой машины Жюльена и слушал, как он с воодушевлением рассказывал о том, что мадам Дюран угостила его за обедом пирогом по старинному семейному рецепту. Кажется, он до сих пор не догадывался, что его так усердно закармливают вовсе не из одной только доброты. Ну что ж, пусть поживёт в неведении ещё немного(мне любопытно, что предпримет мадам Дюран дальше).
Эшфорд, в отличие от непробиваемой мадам, действовал, как ни странно, осторожнее. Он будто прощупывал почву: часто спрашивал, что мне нравится, а что — категорически нет. Вчера свозил в замок, но ужин в ресторане навязывать не стал, а ближе к вечеру и вовсе покинул шато со всей своей свитой. Не поверите, но после ухода Макрона мы вернулись через три часа, ближе к вечеру, а его запах ничуть не выветрился, поэтому пришлось спать с распахнутыми настежь окнами. Было немного прохладно (осень всё же), но даже так намного теплее, чем в моей комнате под крышей.
Отопление в Париже включают централизованно: в этом году дали его ещё в конце сентября, но наши трубы наверху оказались прогнившими и почти сразу потекли. В диспетчерской обещали ремонт «в ближайшие недели», что в переводе с коммунального означает «к Рождеству, а может и позже». Для нас с Люсьеном это означало одно: терпеть муки или искать новую квартиру. На пол я сегодня не лягу — это уж точно. Иначе к утру Люсьен обнаружит мой труп, а в свидетельстве о смерти напишут, что я умер от переохлаждения. Я знаю, что могу слегка преувеличивать, но, увы, в этом городе холод всегда реальнее, чем кажется.
— Альбер слёг с температурой, — сообщил Жюльен, когда мы въехали в город. — Как приезжает этот Макрон, он постоянно чувствует себя плохо. В прошлый раз слег с давлением. Ему бы пора уйти на покой.
— Не знал, что он болен, — удивился я. Утром он провожал меня так, будто ничего не случилось: накормил, отругал и выпроводил из дому.
— У него больное сердце. После смерти покойного герцога Роттенберга он чуть ли не погиб от инсульта.
— Думаю, вы имели в виду инфаркт, — поправил я и тут же удостоился недовольного взгляда.
— Инфаркт, инсульт — какая, к чёрту, разница? Всё одно и то же.
Я не стал объяснять ему разницу между головой и жопой, и решил промолчать. Он же продолжил:
— Как я уже говорил, мы работаем на его светлость чуть больше года и не знаем их так близко. Но то, что герцог уважает Альбера — это видно любому дураку. Уверен, он не раз предлагал ему уйти в отставку, да старый хрыч упёрся, как осёл.
— Я слышал, что зимой его светлость живёт в Лондоне. Значит, Альбер остаётся в шато один?
— Он и ещё несколько слуг. Но ты прав: зимой шато почти всегда пустует, а герцог возвращается не раньше июля.
Значит, после зимних каникул я мог бы избежать его присутствия на долгие полгода, а то и больше. За это время вполне можно управиться с переводом всех пяти томов. (Если, конечно, я себя не переоцениваю. Впрочем, сам факт, что я взялся за эти книги, уже говорит о том, что я себя переоцениваю.)
Жюльен остановился у моего дома, мы коротко попрощались.
Когда я наконец поднялся на крышу и вошёл в свою комнату, Люсьен, укутанный в два полотенца, сушил волосы феном. Белые клубы пара поднимались от его кожи, он тряс головой, откидывая мокрые пряди, и я был уверен, что будь на моём месте девушка, наверное, уже подирала челюсть с пола.
После той ссоры мы с ним почти не разговаривали, но теперь я пообещал себе быть честным с ним(хотя бы мысленно).
— Тебе стоит поговорить с хозяином, — заявил он, перекрывая шум фена. — Ему должно быть стыдно брать с тебя деньги за такую дыру. На дворе скоро зима, а у нас нет отопления! Я был вынужден заночевать у девчонки с нижнего этажа. Как ты вообще здесь жил?
Ложился в постель прямо в штанах с начёсом и в куртке. Моя гордость не позволяла мне просить помощи у Амели или Винсента. Они и сами были приезжими (Винсент так вообще коренной англичанин). А строить красивые глазки и флиртовать с девочками ради собственной выгоды, как Люсьен, я не умел.
— Это единственное место, которое я могу себе позволить, — пожал плечами я. — Университет в пяти шагах, и мне не нужно тратиться на проезд. Я отсюда ни ногой.
Люсьен отложил фен и начал быстро натягивать брюки.
— Элиас, — сказал он, застёгивая ремень, — эту зиму ты здесь не переживёшь.
Я вздохнул, присаживаясь на кровать. Он вдруг на секунду замер на мне взглядом, рассматривая то, во что я был одет: а именно кашемировое серое пальто (третье по счёту и и костюм с жакетом, галстук я снял, как только удалился из поле зрения Альбера). Люсьен чуть нахмурился, сделал кое-какие выводы, но ничего не сказал.
— Если у тебя есть варианты получше, я готов за тобой последовать, — заметил я, наблюдая, как он надевает атласную рубашку глубокого синего цвета. На его запястье блеснули тонкие часы с кожаным ремешком. Если подумать, Люсьен всегда одевал только дорогие вещи и почти никогда не ходил в обносках, привычных для меня.
Брюки на нём сидели идеально, обувь всегда была начищена, и даже домашние вещи входили в разряд тех, что обычно, я одевал на выход. Он не кичился этим, но в нём читалось врождённое чувство вкуса и манер. Переодевшись, он больше походил на наследника старинного рода, чем на студента актёрского факультета. И я совершенно не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что именно так оно и есть.
— Мой друг из театрального предложил свою квартиру в соседнем районе. Да, она на пятьдесят евро дороже, но если мы будем снимать вдвоём, то потянем.
— А коммунальные? — уточнил я на всякий случай.
— Входят в сумму, — ответил он, как само собой разумеющееся.
Это же отлично!
— Я уже заплатил залог. Мы можем заехать завтра, — сказал он, присаживаясь рядом.
— Не хочу тебя обидеть, но что, если твой друг ненадёжен и выгонит нас через неделю? В таком случае я рискую потерять это место, и в отличии от тебя, мне больше некуда будет податься, — с осторожностью заметил я. — Люсьен, я верю тебе, но не чужим людям. Ты и сам знаешь, как сложно иногда бывает в столице. Это же Париж! Жизнь здесь никого не щадит.
— Элиас, ты слишком труслив.
— Это называется осторожностью!
— Поверь мне на слово, — он взял мою руку. — Я никогда не дам тебе остаться на улице. Здесь, ты рискуешь подхватить пневмонию. Я до сих пор не понимаю, куда смотрел тот, кто тебя сюда отправил.
— Месье Дорсен пожертвовал ради меня своими накоплениями. Я должен быть благодарен ему, — воскликнул я. — Даже не вздумай его осуждать!
— Я не осуждаю, но будь я на его месте, никогда бы не позволил тебе жить в таких условиях. Ты заслуживаешь большего!
Я опустил взгляд и заметил, как он вдруг неловко ослабил хватку, а потом и вовсе убрал руку, засунув её в карман. Раньше он вёл себя куда более дерзко.
— Ты тоже заслуживаешь большего, — пробормотал я, нахмурившись и не понимая, что происходит с моим лучшим другом. — Хорошо, я сегодня позвоню хозяину квартиры и скажу, что переезжаю. Надо будет собрать вещи и привести комнату в порядок.
— Ну наконец-то! — обрадовался он, хлопнул меня по плечу и начал торопливо искать своё пальто. — Совсем забыл, что мне нужно на контрольную репетицию. Завтра вечером у нас выступление, приходи со своими друзьями!
На этом он меня оставил.
26 ноября 2014 года
Клянусь, я никогда не видел квартиры лучше этой. Это был мой маленький рай. Дом сам по себе оказался старым, куда древнее того, в котором я жил раньше. Построен он тоже был странно: длинные коридоры, комнаты вытянутые друг за другом. Двери вели то в соседнюю комнату, то неожиданно обратно в прихожую. Местные давно привыкли к подобным архитектурным причудам и не видели в этом ничего необычного, в то время, как мы с Люсьеном чуть ли не сходили с ума (именно поэтому сюда редко кто решался переезжать, и друг Люсьена согласился сдать квартиру нам почти за бесценок).
До нас здесь проживал пожилой мужчина, имени которого нам наверное уже и не суждено узнать. Он умер прямо в квартире — говорят, сидя на унитазе, и был обнаружен только на следующее утро сиделкой, которая вызвала скорую. Тогда я впервые в жизни задумался, насколько странно и беспощадно устроена смерть. Ей всё равно где она тебя застанет: в сияющем зале оперы, в костюме и при галстуке, или в самый унизительный момент, в одиночестве, в четырёх стенах. В итоге ты всё равно уходишь, оставляя после себя лишь горстку воспоминаний и вещи, которые вскоре кому-то придётся разбирать(в данном случае мне).
Вещей у прежнего жильца было немало. Особенно книг. Они буквально заполнили половину коридора, стояли стопками на полу, мешая нам протащить чемоданы. Мои пожитки уместились в одну дорожную сумку, но вот у Люсьена имелось четыре чемодана с сезонной одеждой, один огромный сундук со сценическими костюмами для театра, ещё один с учебниками по актёрскому мастерству и целой кипой сценариев, по которым он готовился к прослушиваниям. И это я ещё не упоминаю бесчисленные баночки с кремами, шампуни и как минимум пять разных видов дорогих духов.
Сама квартира была словно из другого времени. В гостиной стоял массивный шкаф из потемневшего дуба, с выщербленными ручками и стеклянными дверцами, за которыми теснились фарфоровые статуэтки и пожелтевшие фотографии в тяжёлых рамках. У стены стоял диван с продавленными подлокотниками, накрытый выцветшим клетчатым пледом. В спальне, где он спал — громоздкая кровать с резным изголовьем, матрас которой скрипел при каждом движении. Окна выходили на узкую улицу, типично парижскую, с облупившимися ставнями и бельём, развешанным прямо над головами прохожих. Но в дальней комнате, которую мы сразу решили сделать своей, открывался вид на внутренний двор: заросший плющом каменный колодец и старые каштаны.
Мы не стали трогать всю эту мебель, но выбросили ковры, поскольку они были давно истёрты и пахли чем-то затхлым. Ремонта здесь не делали, наверное, со времён Шарля де Голля(1). Потолки были закопчены от вечных сигарет хозяина, обои отставали в углах и сворачивались трубочками, а краска на дверях облупилась, открывая серое дерево. Но даже так, мне здесь нравилось. Нравилась загадочность, эта мрачность в которой мы оказались.
Ближе к двум часам Люсьен сбежал в театр. К счастью, в преддверии экзаменов университетские часы сокращались, и после полудня я был волен идти, куда угодно. Но тут любой дурак знал, что уборка квартиры на мне, и к своему сожалению, я вернулся обратно.
— Античность моя, — громко заявила Амели, как только я открыл дверь.
Она предложила мне свою помощь, и взамен выпросила несколько книг, что остались от старика. Винсенту ничего не оставалось, кроме как согласиться, поскольку в доме его ждала мадам Ксавье — его мама (она была известной актрисой, получившей «Оскар» ещё в конце девяностых, и всё в ней от осанки до улыбки, излучало то же холодное величие, что и у её сына).
Винсент происходил из знатной семьи и всегда носил дорогого пошива костюмы, вычурные длинные пальто, соответствующие его высокому росту, зимой и осенью кожаные перчатки, а летом ходил с кольцом с семейным гербом, которое он, впрочем, надевал не из тщеславия, а из вынужденного долга.
Он был красивее Люсьена, умнее любого студента Сорбонны и при этом ленивее всех нас вместе взятых. Девушки в основном велись на его зеленные глаза, и светлые, переливающиеся на солнце золотистыми волосами, но больше всего им нравился его глубокий голос. Нужно отдать должное, на французском он говорил мягче, чем любой уроженец Парижа, и именно эта мягкость сводила их с ума.
В отличии от сговорчивой Амели, он был немного молчаливее, но куда язвительнее её, и в разы наглее меня. Его остроумие всегда оборачивалось в жало, и он пользовался этим умело, не зная жалости. Он владел тремя языками — французским, английским и немецким, но чаще всего предпочитал говорить с нами на английском. Не потому, что хотел выделиться, а потому, что английский давал его мыслям ту резкость, какую французский сглаживал. Для посторонних он казался надменным снобом, но в действительности он просто не видел смысла притворяться: Винсент любил говорить правду, всегда в глаза. И никогда, никогда(!) не сдерживал себя в выражениях.
Однажды он прервал лекцию профессора Шамбре, поправив его в переводе Горация, причём так, что преподаватель осёкся и больше не вернулся к теме. Чуть позже он сделал то же самое с приглашённым лектором, каким-то знаменитым итальянским искусствоведом. Тот ошибся в датировке вазописи, и Винсент, не моргнув глазом, высказал своё замечание вслух, снабдив его подробной аргументацией, поэтому с тех пор, администрация университета решила не заставлять его ходить на разные встречи, но за то использовали в дебатах.
Мы подружились с ним благодаря Амели, хотя до сих пор не понимаю, как ей удалось найти к нему подход. С Винсентом в принципе редко кто «ладил», слишком много высокомерия и язвительности, и слишком мало терпения. Но Амели его не раздражала: они жили почти по соседству, и ходили всюду вместе, из-за чего все студенты и преподаватели часто принимали их за брата и сестру. Первое время я и сам думал так же, пока не узнал их ближе.
— Где тебе удается находить такие места, Элиас? — спросил Винсент, лениво опускаясь в кресло.
Амели, тем временем, сняла пальто и молча сунула его ему в руки, поскольку всё здесь было пыльным и мы пока не установили вешалку.
— Всё благодаря Люсьену, — объяснил я, избегая подробностей. — Его знакомый сдавал квартиру. Всего на пятьдесят евро дороже, но за то не нужно платить за коммуналку. Да и центральное отопление есть.
Я чуть было не добавил про тёплый пол в ванной, но вовремя осёкся: Винсент всё равно не смог бы понять причины моей радости.
— Когда ты говорил «много книг», я представляла себе полку, ну, две, — заметила Амели, медленно оглядываясь. — А тут целый книжный склад. Элиас, это же безумие.
И действительно, их было слишком много. Они заполняли гостиную, и две соседние комнаты. Исключением стала только ванная, старик наверное, боялся намочить их водой. Среди них находились редкие коллекционные издания Гюго, ненавистного Люсьеном Шекспира, где-то даже затесались Ницше, Кант, Гегель и Шопенгауэр (все на оригинальном языке, подозреваю, что старик был немцем и довольно образованным).
— Вот именно поэтому мне и нужна ваша помощь, — пожал я плечами. — Мне жалко выбрасывать книги, но тут такой беспорядок.
— Я могу забрать максимум двадцать штук и временно оставить у Винсента, — предложила Амели. — Но это ничтожная часть. Остальные придётся либо отдать, либо выставить на ярмарку. Их слишком много.
— Двадцать штук? — протянул Винсент, иронично выгнув бровь. — Ты собираешься спасать культуру поштучно, Амели? Великолепный план.
Он сказал это с такой ленивой насмешкой, что я не сразу понял, шутит он или издевается. Но Амели, похоже, давно к этому привыкла: только покосилась на него и, не обращая внимания, стала вытаскивать книги с верхних полок. Вот в этом и проявлялась их странная дружба: она могла отмахиваться от его колкостей так же легко, как от комара, а он позволял ей это делать, хотя, уверен, никому другому не простил бы подобной «свободы».
Мы начали уборку без особой спешки. Сначала решили освободить одну из комнат и превратить её в мою будущую библиотеку (конечно, до уровня Эшфорда мне было бесконечно далеко, но всё же хотелось порядка).
Амели взялась за пыль и полы, открыла окна, чтобы проветрить спертый воздух, протёрла подоконники, смахнула тряпкой толстый слой серой пыли с книжных шкафов, а потом схватилась за ведро и швабру.
Винсент и я тем временем погрузились в книги. Мы решили сортировать их не только по авторам, но и по состоянию: сначала в один ряд редкие старые издания с потрескавшимися переплётами, рядом современные публикации, и остальное всё, что оказалось на немецком. Когда попадались дубликаты, Винсент откладывал их в сторону.
— Эти на продажу, — приговаривал он, складывая тома в коробку. — Никто не обязан хранить пять одинаковых Гюго. Это глупо, Элиас.
Я пытался спорить, но быстро понял, что с его логикой трудно бороться. Итак, мы имели несколько стопок: философия, французская классика, иностранные издания, поэзия. Самые потрёпанные мы сложили на нижние полки, а всё ценное решили поднять повыше. Уборка отняла у нас больше трёх часов времени, и к тому моменту, когда мы освободились стрелки циферблата указывали на шесть часов вечера. Это означало, что нам пора выдвигаться из квартиры, чтобы успеть на постановку Люсьена. Бесплатные места в первых рядах редко достаются таким студентам, как мы, и упускать Шекспира было бы глупо.
Вместо обещанных тридцати книг Амели в итоге взяла лишь три: «Пир» Платона, «О природе вещей» Лукреция и «Метаморфозы» Овидия. Винсент же, предсказуемо, сразу потянулся к «Рассказу о двух любовниках» Пикколомонии(2) и и к «Фанни Хилл»(3) , а когда было потянулся за «Жюстиной» маркиза де Сада(4), получил от Амели презрительный взгляд. Ничуть не растерявшись, он попросту усмехнулся, но отдернул пальцы.
С виду он никогда не казался извращенцем, но должен ли я сказать, что таковым он и был? Он любил смущать окружающих намёками, цитировать на память самые скандальные пассажи классиков и доводить людей до панички. Прошлой зимой он неожиданно получил известность, благодаря своему роману под названием «Эрос». Как он нам признался, изначально это было небольшое философское эссе со смесью откровенных сцен, где плоть становилась не противоположностью духа, а его продолжением. Гугл сыграл свою роль, и критики до сих пор спорили, можно ли считать это смелой попыткой соединить философию и эротизм или банальной пошлостью студента. Именно так Винсента и заметили.
Мы с Амели до сих пор так и не понимали, почему он выбрал именно этот жанр, хотя легко мог бы прославиться как автор серьёзной прозы. Но, как я уже говорил, все творческие люди немного чудноваты. И, наверное, в случае с Винсентом эта странность стала его главным талантом.
Итак, мы сели в его машину, тёмно-серый Citroën DS5. В салоне пахло дорогим табаком, и на заднем сиденье вечно валялись книги, наброски рукописей и рекламные буклеты из театров(только Винесент мог так её захламить). Мы поехали в небольшой ресторанчик неподалёку от театра Люсьена — «Le Petit Châtelet», уютное место с видом на Сену, где цены ещё позволяли таким студентам, как я с Амели, не чувствовать себя нищими. Мы встречались там раз в месяц, чтобы перекусить и обсудить планы на новые романы, издательства или литературные ярмарки. Обычно мы заказывали что-то простое: тарелку пасты по-французски или классическое стейк-фри, и бутылку столового вина, которую всегда оплачивал Винсент. Сегодня же у меня было чуть больше денег, чем обычно (благодаря Эшфорду я смог заработать пятьсот евро), и я решил угостить их вином сам, но Амели и Винсент решительно отказались, зная в каком положении я нахожусь, и каким трудом мне достались эти деньги.
До начала постановки оставалось больше сорока минут. Мы доели ужин, ещё немного посидели на террасе, и я вдруг вспомнил, как примерно в это же время мы с Эшфордом гуляли по замку.
— Знаете, я недавно узнал любопытный факт, — сказал я хватая картошку, и Амели отложила бокал. — Леонардо да Винчи похоронен в Амбуазе, в капелле Сен-Юбер. Но учёные в этом до конца не уверены, они считают, что после разрушений XVI века останки могли перепутать и в могиле захоронены не его кости.
Винсент усмехнулся и поскольку в ресторане было слишком шумно, ему пришлось наклониться к нам:
— Смешно, не находите? Даже великому Леонардо не гарантировано место в земле. Всю жизнь мечтать о бессмертии(5) и в итоге стать лишь легендой для туристов.
Амели одарила его испытывающим взглядом:
— А мне кажется, это не так уж и печально. Какая разница, где его тело? Люди помнят его картины и идеи. Разве этого мало?
— Ты как всегда всё романтизируешь, — хмыкнул Винсент. — Но если уж быть честными, память людей коротка. Через сотню лет о нас с вами и вовсе никто не вспомнит.
— Но тогда, — умяв последнюю картошку фри, проговорил я, — что вообще остаётся от человека? Если мы даже не знаем, где он покоится... Разве не это называют формой забвения?
Официант принёс счёт. Винсент, Амели и я взглянули на сумму 78 евро и начали доставать деньги. Винсент, не моргнув глазом, достал шестьдесят и положил их сверху. Амели добавила двадцать. Я потянулся за кошельком, но Винсент отмахнулся:
— Оставь чаевые, этого хватит.
Амели едва заметно улыбнулась, а я, чувствуя лёгкое смущение, положил десятку. За соседними столиками люди уже ждали свою очередь и мы поспешили выйти. Холодный ноябрьский воздух Парижа быстро отрезвил после вина, и я снова вспомнил свой вопрос:
— Так что же, по-твоему, остаётся от человека, если мы даже не знаем, где он покоится? — спросил я.
Он остановился, достал сигарету, щёлкнул зажигалкой и, прикрыв пламя ладонью, сделал первую затяжку.
— Слова, — ответил он, глядя на слегка покрасневшую Амели. — Только слова. Всё остальное гниёт и рассыпается. Кости, дома, и даже картины. Но то, что мы говорим и пишем, может перескакивать из головы в голову, жить в чужих устах, становиться частью других людей. Тоже самое касается Леонардо. Он жив, пока мы произносим его имя.
— Но человек остаётся не только в словах, — слабо возразила Амели. — Например, если я вдруг умру, то вы с Элиасом будете помнить обо мне и вспоминать. Человек остаётся не только в словах, но и в душах тех, кто за него молится. В церкви нас учат, что память о человеке — это связь, которая продолжается и после смерти...
Винсент стряхнул пепел и пожал плечами:
— Может быть, Амели. Но, боюсь, твои молитвы запишут куда меньше читателей, чем мои книги.
Я тут же пожалел, что вообще затронул эту тему. Амели была ревностной католичкой: она не пропускала воскресных месс и могла сорваться в ближайшую церковь даже посреди рабочего дня, если чувствовала, что поступила неправильно.
Винсент же, напротив, гордился своей безбожностью. Он не только считал себя атеистом, но и находил особое удовольствие в том, чтобы провоцировать её, поддевать саркастическими замечаниями. Ему нравилось наблюдать, как её безупречное спокойствие трескалось, как глаза наполнялись слезами от бессилия доказать очевидное только для неё самой. На моей памяти подобное случалось всего дважды, и этого было более чем достаточно. Но я так и не понял: делал ли он это из злости, из стремления победить в споре или потому, что именно в эти моменты Амели переставала быть безупречно собранной и становилась по-настоящему живой.
К тому моменту, когда мы дошли до театра, они чуть ли не поругались, и я поспешил вмешаться, чтобы разрядить атмосферу:
— Кстати, на счёт Люсьена, я тут вдруг вспомнил, не хочу злорадствовать конечно, но Камю писал, что у актёра после смерти не остаётся ничего, то есть только жесты и сыгранная роль... Да и то лишь до тех пор, пока её помнят зрители.
Мы как раз обогнули собравшуюся очередь у парадного входа и направились к чёрному. Студенты вроде нас редко попадали внутрь, но Люсьен всегда оставлял имена в списках, поэтому нам кивнул знакомый администратор и мы проскользнули в узкий коридор, пахнущий кулисами.
— Тогда у нас явное преимущество, — лениво отозвался Винсент, закуривая на ходу, хотя в театре это было строго запрещено. Он всё же затушил сигарету у ближайшего окна и добавил. — Мы оставляем после себя наши мысли в виде отрывистых текстов и будем оживать снова и снова, каждый раз, когда кто-то откроет нашу книгу или прочитает нашу статью. Вот что называется оставить после себя след. И именно это я безуспешно пытаюсь втолковать тебе, Амели.
Но Амели предпочла промолчать на его выпад. Я усмехнулся:
— Тогда выходит, что актёры живут ярче, но короче?
Амели задумалась:
— Вопрос только в том, что важнее: memento vivere(6) или memento scribere(7) ...
Винсент пожал плечами, щурясь сквозь дым недокуренной сигареты:
— Memento scribere... красивое изобретение. Но знаешь, выходит несправедливо. В таком случае актёры, вроде Люсьена, обречены исчезнуть вместе с занавесом.
Я уже открыл рот, чтобы возразить, но в этот момент из-за угла показался сам Люсьен. Увидев нас, он сразу вскинул руку:
— А вот и мои философы! — сказал он вместо приветствия. — О чём это вы спорите?
Амели тут же воспользовалась моментом:
— О том, что актёры живут ярко, но коротко. Всё, что от вас остаётся, аплодисменты и пыльные афиши.
Люсьен театрально прижал ладонь к груди и изобразил обиженного:
— Как жестоко, мадемуазель! Значит, меня через пару лет и вспоминать никто не станет?
— Если только не сыграешь что-то настолько великое, что его будут помнить дольше тебя, — вставил Винсент, чуть усмехнувшись.
— А вот это вызов, — ответил Люсьен, уже улыбаясь. Он повернулся ко мне. — Элиас, центральные три места в среднем ряду ваши.
Я кивнул и положил руку ему на плечо:
— Удачи!
Люсьен едва заметно улыбнулся:
— Спасибо... Я бы поговорил с вами ещё немного, но мне нужно спешить в гримерку.
Он исчез в коридоре, а мы втроём направились в зал. За эти месяцы мы уже успели побывать на многих постановках: от Шекспира, без которого не обходился ни один сезон, до древних трагиков.
Амели, как обычно, устроилась между нами с Винсентом. После уборки в квартире она выглядела утомлённой: щёки её были бледными, а глаза чуть покрасневшими. Я заметил, что она несколько раз тихо коснулась пальцами виска и чуть передёрнула плечами, словно ей было зябко, хотя в зале стояла духота.
Винсент тем временем обменялся парой фраз с седым мужчиной в твидовом пиджаке рядом, и, когда занавес наконец поднялся, замолчал, сосредоточившись на действии.
Люсьен появился не сразу, а только к середине постановки. Но когда он вышел, публика разом подтянулась. Должен ли я сказать, как сильно он затмевал главного актера по красоте? Жаль только то, что игра давалась ему с трудом... За весь период он не ошибся ни разу, только в конце чуть перепутал фразу, но сказал её своими словами, поэтому никто из сидящих в зале ничего не заметил (разумеется кроме Винсента, который запоминал всё, что читает с первого раза, не даром он закончил школу для одарённых).
Между тем, пытаясь перебороть сонливость, Амели смогла выдержать только первую сцену, во втором акте она наконец уснула и проснулась только ближе к концу под бурные аплодисменты. Смущённо зевнув, она пару раз шлёпнула себя по щекам, чтобы взбодриться. Но это ей не помогло, поэтому когда мы вышли из зала, Амели, не глядя под ноги, едва не оступилась на лестнице. Винсент мгновенно притянул её к себе за талию.
— Смотри куда идёшь, — проворчал он заботливо.
— Я думала, что там невысоко... — растерянно пробормотала она и поспешила отодвинуться, будто смутилась собственного неуклюжего движения.
Мне едва ли удалось сдержать свои мысли при себе, о том, как я был уверен, что к концу этого года они точно начнут встречаться. Иначе, как объяснить, что такой высокомерный аристократ от кончиков волос до пальцев ног, смотрящих на всех с презрением, вдруг подпустил к себе набожную, слегка чудаковатую девушку? Это не врезалось с его привычным поведением, и если подумать, за всё время их знакомства он не сказал в её адрес ни одной двусмысленной шутки, хотя с другими девушками именно так и говорил, и зачастую вульгарнее. С ней он становился в разы мягче, спокойнее, и добрее.
— Элиас, твой друг должно быть рассержен на меня, — тихо сказала Амели, пряча глаза. — Передай ему мои извинения. Просто с самого утра мне было нехорошо... а теперь, кажется, и температура поднялась.
— Почему ты раньше не сказала? — сорвалось у меня. Я тут же коснулся её лба. — Да ты вся горишь! Я сейчас же сбегаю в аптеку за парацетамолом.
Я уже шагнул в сторону, но Винсент резко перехватил мою руку.
— Не нужно. У меня есть аспирин, — спокойно сказал он. — Я отвезу её домой. А ты лучше дождись Люсьена.
Я растерянно посмотрел то на него, то на Амели.
— Послушай меня, Элиас, — заметив мою растерянность, добавил Винсент. — Так будет лучше для всех.
Амели, несмотря на слабость, улыбнулась мне своей привычной мягкой улыбкой.
— Ну вот, теперь ты будешь волноваться за меня. Это всего лишь простуда, Элиас. Сезон гриппа, сам понимаешь... — она чуть шмыгнула носом и натянула шарф повыше. — Винсент прав. Будет лучше, если я поеду с ним. Передай Люсьену мои извинения и скажи, что он выглядел вполне сносно. В следующий раз я подарю ему букет цветов.
Она махнула мне рукой на прощание. Я стоял неподвижно, пока их машина не скрылась за поворотом, и всё это время чувствовал угрызение совести...
27 ноября 2014 года
Всё очень плохо. И вот почему:
Во-первых, в тот вечер, когда Винсент повёз Амели домой, мы совсем забыли, что за ужином выпили по бокалу крепкого вина. Он был в трезвом уме и светлой памяти, но, увы, на посту жандармерии это никого не интересовало. Алкотестер показал превышение нормы, и его задержали за вождение в нетрезвом виде. Права изъяли сразу, а на следующее утро ему пришлось заплатить штраф в размере 750 евро. Сам он заплатить не мог, поскольку не хотел, чтобы об этом узнал его отец. Поэтому часть суммы внесла Амели (час от часу ей становилось нелегче), а остальное добавили я и Люсьен. Мы даже договорились держать это в тайне, чтобы старик Сеймур-Кэвендиш ничего не пронюхал.
Во-вторых, в тот же вечер, но намного позже, стараниями скорой помощи, Амели оказалась в больнице с диагнозом — острая правосторонняя внебольничная пневмония. Врачи сказали, что болезнь тлела в организме не меньше недели, и всё это время протекала бессимптомно. Как она написала в своем письме, сейчас она проходила курс антибиотикотерапии и сильно переживала по поводу предстоящих экзаменов, поэтому я старался записывать все лекции внятным почерком и отправлял их через почту.
Вы могли бы подумать, что на этом череда неприятностей закончилась. Но нет. Сегодня утром я узнал, что завалил зачёт. Для меня это настоящая катастрофа. Я пытался договориться о пересдаче с мадам Дюваль, нашим преподавателем философии, но ничего не вышло. Ведьма в буквальном смысле была готова сварить меня живьём в своём котле за одно лишь дерзновение. По её словам, моё эссе оказалось «неубедительным и поверхностным». Что именно её не устроило, она уточнять не стала, и теперь я был вынужден играть в угадайку.
Я не знаю, что мне делать!
28 ноября 2014 года
— Пневмония за неделю не лечится, Элиас, — сказал Винсент, глядя в сторону. — Её выпишут только в декабре. Так что до каникул мы её не увидим.
Мы сидели возле памятника Гюго и наблюдали, как студенты спешат к амфитеатру. Без Амели всё вокруг казалось пустым. Иногда мне кажется, что мы втроём — это одно целое, собранное из трёх несовместимых частей. Стоит вытащить одну, и оставшиеся уже не будут тем же самым. Может быть, дружба и есть эта хрупкая чаша, которая держится не на прочности, а на нашем упрямом желании быть вместе.
— И как ей быть с экзаменами? — спросил я с некоторой досадой.
— Сдаст потом, — отмахнулся он и выпустил струю дыма. — Главное, чтобы выздоровела.
Он решил сменить тему:
— Так ты едешь в Лимож?
— На несколько дней, — кивнул я. — Вернусь быстро. А ты?
— В Сент-Мориц, как и обычно. Там к Рождеству половина Лондона оккупирует отели. Ты мог бы поехать со мной, если хочешь. Покатаемся вместе на лыжах, только представь себе: днём падаешь с трассы, вечером — в бар, и всё это щедро сдабриваешь вином. В сущности, катание — лишь оправдание для декадентских посиделок у камина.
Мы улыбнулись. Винсент передал сигарету мне и я затянулся, чувствуя лёгкое жжение в горле.
— Прости, что так вышло, — смог наконец извиниться я. — Если бы в тот день я не стал настаивать на вине, ты бы не стал так мног...
— Элиас, — Винсент усмехнулся так, будто я сказал нелепость. — Я всегда выпью бокал, если захочу. Не перекладывай на себя чужие решения, — он взял сигарету обратно, глубоко затянулся, и только потом продолжил. — Если бы вы с Амели не внесли штраф, я лишился бы поддержки. Отец перевозит на мой счёт ровно пятьсот евро в месяц, «чтобы я не распустился». На них я могу разве что оплачивать еду и сигареты. Я трачу эти деньги только по нужде, и поэтому вынужден писать порнуху.
У меня пересохло в горле. Всё это шло вразрез с образом Винсента, каким я привык его видеть: сын благополучной семьи, для которого мир лежит на ладони. Я всегда думал, что из нас троих ему живётся легче всего. Как выяснилось, ошибался.
— Ты никогда об этом не рассказывал! — сказал я нахмурившись.
— Просто ты никогда не спрашивал.
Он бросил окурок на камни у подножия памятника и медленно придавил его носком ботинка.
29 ноября 2014 года
Кажется, я простудился. По новостям говорили, что в понедельник госпитализировали сотрудницу ООН, заразившуюся геморрагической лихорадкой Эбола. Женщина боролась с распространением вируса в Сьерра-Леоне и была эвакуирована на специальном самолёте. Эпидемия уже унесла более трёх тысяч жизней. Не хочу спешить с выводами, но надеюсь, что не попаду в это число.
— Элиас, ты можешь заразить сокурсников, — причитал Люсьен, пока я пытался натянуть майку. — В таком состоянии ты всё равно не сдашь экзамены. Лучше сходи к врачу!
Я шмыгнул носом и отмахнулся.
— Мне нужно пересдать философию. Мадам Дюваль только вчера дала согласие, и то лишь потому, что за меня вступилась мама Винсента. Как оказалось, они давно знакомы... Я не могу её подвести.
Голова раскалывалась. Люсьен был прав: в таком состоянии я едва держался на ногах, не то что бы блестяще отвечать на вопросы, но кого волнует моя простуда? Я натянул тёплый свитер, шерстяные брюки, проглотил две таблетки ибупрофена и, собравшись с силами, вышел из квартиры. До Сорбонны я добрался только к девяти утра, опоздав на двадцать минут и пропустив первую часть экзамена. Когда я вошёл в кабинет, мадам Дюваль смерила меня осуждающим взглядом поверх очков.
— Вы опять опаздываете, мсье де Морен, — заметила она.
Мне пришлось несколько раз неуклюже извиниться, прежде чем вытащить билет с коварным вопросом: «Этическая концепция Канта и её значение для современности»(8). Я чувствовал, как по спине стекал холодный пот. Каждое слово давалось мне с огромным усилием. Голос дрожал, мысли путались, но я всё же удержался и, опираясь на конспекты, начал разворачивать аргументы. Я говорил о категорическом императиве(9), о долге и свободе воли, о том, как принципы Канта могут быть применимы к современным дебатам, начиная от биомедицины до политики. Иногда мне казалось, что я несу полную чепуху, но мадам Дюваль не перебивала, и лишь время от времени делала пометки в тетради.
Когда я закончил, то едва сдерживался от того, чтобы не положить голову на парту.
— Допустим, — сухо произнесла она, щёлкнув ручкой. — Вы поработали над своими ошибками. Видно, что вы пытались, хоть и в спешке. Но всё же это зачёт и в следующий раз, месье де Морен, не вынуждайте меня лицезреть вашу жалкую попытку скрыть свою простуду. Философию нужно сдавать с ясной головой. Это не тот предмет, на который вы можете закрыть глаза. Свободны.
Я кивнул, чувствуя облегчение и усталость одновременно. К обеду мне стало хуже: жар поднимался, тело ломило и в результате преподаватели, заметив моё состояние, освободили меня от оставшихся занятий и велели идти домой. К счастью, Винсент(вечный любимчик профессоров) договорился за меня о переносе нескольких лекций, так что впереди у меня оказалось три свободных дня.
Оставалось лишь самое трудное — объясниться с герцогом...
30 ноября 2014 года
Я проснулся только ближе к обеду в разбитом состоянии из-за трезвонящего без умолку телефона. Я с трудом нащупал аппарат на прикроватной тумбе и уставился в экран: 15 пропущенных от Жюльена. 20 от Феликса. 3 от мадам Дюран. И одно единственное сообщение от самого Эшфорда.
«Элиас, вчерашнее твоё отсутствие было для меня крайне неприятным сюрпризом. Я рассчитывал на твою пунктуальность, о которой мы говорили неоднократно. Надеюсь, у тебя найдётся убедительная причина, иначе подобное поведение будет иметь для тебя последствия.
— Оскар.»
Проклятье. Я резко сел на кровати. Вот что бывает, когда твой друг заставляет тебя незапланированно переехать в другую квартиру в трёх кварталах от старой! Я не рискнул позвонить герцогу, поскольку боялся его гнева, но вот с Жюльеном говорил с легкостью:
— Доброе утро... то есть здравствуй, Жюльен, — пробормотал я, взглянув на часы. Двенадцать тридцать. — Я слёг с простудой, и совсем забыл предупредить тебя, что переехал в другую квартиру...
— Элиас, ты хоть знаешь, как герцог ценит пунктуальность? — сердито спросил Жюльен. — Мы с Альбером пытались прикрыть тебя, но его светлость всё равно обо всём узнал. Он требует, чтобы ты был в шато до двух часов. Где ты сейчас?
— Rue de la Folie-Méricourt... Это минут двадцать от Латинского квартала.
— Одевайся поскорее, я скоро за тобой подъеду!
Он сбросил вызов. Несколько минут я сонно смотрел на старый деревянный пол и прежде чем встать с кровати, понял, что мне хуже, чем вчера. Во первых, я ещё не поел, а меня уже тошнило. Во вторых, у меня кружилась голова и в третьих, все суставы скручивались в адской боли. До приезда Жюльена оставалось ещё не больше пятнадцати минут, и даже толком не умывшись, начал переодеваться в купленную герцогом для меня одежду. Кое-как завязал галстук, застегнул первые две пуговицы жилета, и накинул пальто, совсем позабыв о пиджаке. Вот, что бывает, когда меня заставляют чуть поспешить.
Я вышел из комнаты, мысленно придумывая, что сказать Люсьену, но к счастью его уже не было, поэтому я закрыл квартиру (а точно ли я повернул ключ до конца?) и спустился вниз. К тому моменту машина стояла прямо у моего дома.
— Проснись уже наконец, Элиас, — взмолился он, когда я опустился на заднее сиденье, едва не прижав лбом стекло.
— Да, прости, — только и смог ответить я. — Герцог сильно зол?
— Тебе стоит извиниться перед ним, а не мной. Ты должен был приехать вчера вечером, а утром заниматься с Гаспаром. Что с тобой вообще приключилось?
— Простуда. Меня освободили от занятий на пару дней.
— Когда ты успел переехать? — Жюльен бросил на меня быстрый взгляд.
— Во вторник. Эта неделя выдалась слишком насыщенной, поэтому я забыл тебя предупредить. Прости, что подставил...
— Я кружил вокруг твоего старого дома всю ночь, — раздражённо пробормотал он, но потом смягчился. — Неважно. Ты у врача был? Выглядишь неважно!
— Нет. Подумал, к выходным само пройдёт.
Жюльен только вздохнул, выжимая газ. Больше мы почти не разговаривали. Я уснул сразу же, как только машина покинула пределы столицы, и очнулся лишь тогда, когда меня кто-то тронул за плечо. Это был Альбер.
— Почему ты не свозил его к врачу? — трогая мой лоб, упрекнул он Жюльена. — Он весь горит! Элиас, дитя, встать сможешь?
Меня так сильно клонило в сон, что я пробормотал что-то нечленораздельное — то ли да, то ли нет. Но помню, как они вдвоём помогли мне выбраться из машины и подняться по лестнице в спальню. Альбер стянул с меня пальто, развязал галстук и даже снял жакет. Потом они с Жюльеном куда-то ушли и вернулись через несколько минут.
Альбер сунул мне градусник, а когда увидел отметку превышающую тридцати девяти градусов, вдруг поднапрягся. Я никогда не болел и мог похвастаться крепким здоровьем, поэтому подумал, что его реакция была чрезмерно острой.
Минут через пятнадцать вбежала мадам Дюран — запыхавшаяся, с растрёпанной прической, будто бежала сюда сломя голову. Не успев перевести дыхание, она набрала в шприц убойную дозу жаропонижающих и поставила мне укол. Двигалась мадам Дюран так быстро, что я даже не успел пожаловаться на боль.
— Элиас, не укрывайся сильно, сделаешь себе только хуже, — мягко сказала она, поправив одеяло и коснувшись моей головы. Затем обернулась к Альберу: — Наверное, продрог, когда приезжал Макрон. Тогда все окна были распахнуты. По ночам здесь очень холодно.
Альбер что-то проворчал в ответ, но я уже не различал слов. Я мысленно взмолился, чтобы они наконец оставили меня одного — и, к моему удивлению, они вышли через минуту, даже не оглянувшись.
Клара никогда не была так добра со мной. Всё что она делала только из чувства долга перед моей мамой. Она стирала мои вещи, помогала с уроками, готовила мне поесть, но почти никогда не подпускала ближе. Она не могла подарить мне свою любовь, только скрытую неприязнь. Не могла меня обнять или утешить. Со всеми трудностями я должен был справляться сам. Здесь же, всё было иначе. Глубоко в душе мне, как сироте, льстило такое внимание и сопереживание. Я впервые почувствовал себя в надёжных руках и мог ни о чём не волноваться. Ведь теперь, у меня был Альбер, пусть и благодаря указаниям герцога, но он всегда заботился о моём желудке и внешнем виде. Есть ещё и Жюльен, не смотря на запреты, он часто общался со мной на разные темы, да и мадам Дюран никогда не пыталась сделать вид, что меня в этом доме не существовало. Все они по своему были добры.
Я лежал, слушая, как стихает дом, и думал лишь о том, как страшно — однажды привыкнуть к тому, чего у тебя никогда не было...
***
Проснулся я от чужой ладони на своём лбу и вздрогнул, поняв, что она принадлежит Эшфорду. Он сидел на краю кровати и смотрел на меня слишком пристально, словно пытаясь прочитать каждую мысль.
— Как ты себя чувствуешь, Элиас? — спросил он.
Я поспешил приподняться, скорее из страха показаться неуважительным, чем из желания встать.
— Уже лучше, — ответил я голосом, охрипшим от сна. — Простите, что так вышло. Обычно я никогда не опаздываю...
— Жюльен мне всё рассказал. Почему ты не обратился к врачу? С твоей стороны это было слишком беспечно, Элиас.
Не мог же я ему сказать, что прием у врача стоил бы мне больших денег.
— Я думал мне полегчает после аспирина, — сказал я, стараясь не врать хотя бы наполовину.
— Больше никогда так не делай, — коротко бросил он.
Он замолчал, и я не стал ему ничего говорить. За всё время работы (около двух месяцев) он впервые зашёл в мою комнату. Я не мог отвести взгляд от того, как спокойно и в то же время властно он держался. Его собранность, его уверенность, эта сдержанная забота — всё то, чего всегда не хватало мне самому. Казалось, рядом с ним я могу позволить себе быть слабым и при этом не выглядеть жалким.
— Ты, должно быть, ничего не ел. Спускайся вниз, как только переоденешься, — он поднялся и направился к двери. — Фабьен приготовил для тебя бульон.
Я посмотрел на время — десять часов вечера. Это сколько же я проспал?! Шеф повар, наверное, проклинал меня за то, что ему пришлось готовить в такое позднее время, когда все нормальные люди уже ложатся спать. Как только герцог вышел из моей комнаты, я поспешно натянул чистую рубашку, пригладил волосы, накинул пиджак и оказался сидящим за столом не меньше, чем через десять минут. Бульон был наваристым и пах ароматными специями.
Эшфорд сидел во главе стола и сосредоточенно листал что-то в планшете. Судя по его виду, то есть нахмуренному взгляду и слегка поджатым губам, он находился в озабоченном состоянии, наверняка, думая над тем, как ему стоит решить некоторые рабочие процессы. За всё это время он не промолвил ни одного слова, терпеливо дождался, когда я доем, и только потом отложил планшет в сторону.
— Элиас, разве гонорара за переводы тебе недостаточно? — спросил он и я растерялся.
Я бы сказал, что такой дилетант, как я, недостоин их, но мы оба знали, что Эшфорд нанял меня не за этим.
— Вы слишком щедры со мной и... — я поднял взгляд, и тут же пожалел об этом. Его серые глаза всегда умели выводить из равновесия.
— Не имей привычки увиливать от вопроса, — мягко, но жёстко пресёк он. — Отвечай прямо.
— Достаточно.
— Тогда объясни мне, почему я только сейчас узнаю от Феликса: о твоём переезде и о том, что ты делишь жильё с актёром? Всё это время, я исходил из того, что ты живёшь один. Это единственное, что удерживало меня от вмешательства в твою личную жизнь.
Я почти опешил от его предъявы.
— Люсьен мой лучший друг и между нами ничего нет. В месте, где я жил раньше не работало центральное отопление, я несколько раз просил починить трубы владельца, но он отказался, поскольку ремонт обошёлся бы ему в большую сумму. Именно поэтому, мне пришлось переехать в квартиру на Rue de la Folie-Méricourt.
— Забавно, — усмехнулся он, и в его голосе слышалось то ли разочарование, то ли холодное раздражение. — Тебя не смущает жить бок о бок с каким-то актёром, но смущает поставить меня в известность. Ты ведь понимаешь, как это выглядит со стороны?
— Не понимаю, — упёрся я, но он упорно проигнорировал мои слова.
— Что тебе мешало снять другую квартиру вблизи университета? На прошлом месте старая аренда обходилась тебе в двести пятьдесят евро. Адекватная студия поближе к университету — триста, плюс коммунальные — ещё сотня. Итого, мы имеем четыреста евро. Даже при такой смете у тебя остаётся резерв в сто евро, не считая стипендии. Так в чём была трудность, Элиас? — он говорил со мной, как с маленьким ребёнком. — Ты мог позвонить Феликсу и сообщить о проблеме. Он бы нашёл тебе чистое, тёплое жильё за сутки, оформил договор и внес депозит. Это ровно тот случай, когда нужно не самовольничать, а делегировать.
— Это мои деньги и я волен распоряжаться ими как хочу, — возмутился я. Да откуда вообще он знает, сколько стоила моя аренда в старом доме?!
— Ошибаешься. Эти деньги выплачиваю я, и обычно я не контролирую каждую трату, но ожидаю разумности. Твои оправдания меня не интересуют. Твоя безопасность и работоспособность — интересуют. Жить без отопления — неразумно. Переезжать, не поставив в известность — безответственно. И в сложившихся обстоятельствах моя обязанность заключается в том, что я должен знать, в каких условиях живёт человек, на которого я трачу собственные средства. У тебя не должно быть ни малейшей двусмысленности. Когда я слышу, что ты поселился с мужчиной, у которого, к слову, весьма сомнительная профессия и окружение, у меня есть все основания вмешаться.
— Повторюсь, Люсьен мой лучший друг и между нами ничего нет!
— Ещё одно глупое слово, и я решу, что ты разучился пользоваться головой. Не смей ставить меня в один ряд с твоими приятелями. Запомни, Элиас, — он встал с места и вид его внушал настоящий животный страх. Мне стало не по себе. — У тебя может быть масса знакомых, но личная жизнь, о которой я не знаю, — недопустима. Если тебе что-то нужно, ты идёшь ко мне, а не к очередному Люсьену. Завтра обсудим твоё жильё. Сегодня — марш в постель.
31 ноября 2014 года
Рассуждать о том, что правильно, а что нет, я не стал. Я проспал почти два дня и, поэтому сна у меня не было. В итоге, долго ворочаясь на кровати, к двум часам ночи я решил отправиться в библиотеку, чтобы поработать над переводами Аргонавтики. После укола мадам Дюран голова больше не болела, но саднило горло. К счастью, на тумбочке лежали леденцы с ментоловым вкусом, которые заботливо оставил Альбер. Несколько раз поморщившись и даже чихнув от резкости, я успел рассосать почти всю пластинку.
Я был слишком зол на герцога, в особенности, на то, как нагло он вёл себя, решив, что может вертеть мной, как захочет. В конце концов то, что я здесь нахожусь не значит, что я сдался и готов пасть в его объятья. Мне казалось, если я поработаю ещё несколько месяцев, его интерес за это время ко мне немного поубавится, но похоже крупно ошибался. Клара убьёт меня, если узнает, что я фактически продался спонсору ради учёбы в Сорбонне и я больше никогда не увижусь с племянниками — единственной семьей, которой владею...
Итак, я схватился за Аргонавтику. После правок Эшфорда, мне пришлось вернуться к началу и в прошлый раз я остановился на том моменте, где говорилось о золотом руне. Золотое руно — это, между прочим, не абы какая шкура, а шкура священного барана. Боги ниспослали его с небес, чтобы спасти детей одного царя — Фрикса и Геллу. У них была злая мачеха, которая решила: не принести ли детишек в жертву? Народ, к сожалению, послушался. но возмущенные боги ниспослали им золотого барана, и он унес брата и сестру далеко за три моря. Правда, сестра — Гелла — упала по дороге и утонула. С тех пор пролив, где это случилось, зовут Геллеспонтом. Вывод: один из прекрасных способов остаться в истории — это утонуть...
Между тем, более удачливый брат Геллы — Фрикс, долетел до Колхиды, где правил царь Ээт(сын солнца) . Там барана торжественно зарезали (видимо, спасительные миссии в Греции всегда заканчивались жертвоприношением), а его золотую шкуру повесили в священной роще, приставив охранять дракона. Ну а что — каждому приличному реликту полагается собственный монстр.
И вот вы, наверное, думаете, что мы подошли к сути, но это не так... История про руно пригодилась чуть позже, а если быть точным, когда за власть в городе Иолк сражались двое царей, злой и добрый. По классике жанра, злой царь сверг доброго и добрый царь поселился в тиши и безвестности, а сына своего Ясона отдал в обучение мудрому кентавру Хирону — получеловеку-полуконю. Тот был учителем на все времена — от Ахилла до кого угодно. Сами боги, как ни странно, с детства благоволили Ясону. Под свое покровительство его взяли богиня-царица Гера и богиня-мастерица Афина.
Тем временем, злому царю было предсказано, что его погубит человек, обутый на одну ногу. И вот Ясон встречает по пути старуху, которая просит перенести её через реку. Он соглашается, но теряет один сандалий в воде. Старуха, как оказалось, вовсе не старуха, а Гера. Богам, похоже, нравилось переодеваться.
Фрикс, Гелла, Дарданеллы, Колхида — моя голова утопала в этих наименованиях. Я чувствовал себя намного лучше, чем когда-либо, но перевод мне давался с трудом. Возможно, из-за неудавшегося разговора? Через четыре с половиной часа пыток, я наконец, стянул с рук перчатки, которые обычно надевал, когда переворачивал странницы и решил подышать свежим воздухом.
— Так вот ты где, — воскликнул дворецкий, случайно наткнувшись на меня в просторном холле. Голос его звучал уже не так заботливо, как вчера, а скорее отстранённо. — Тебе лучше?
— Да, спасибо, — ответил я, вздохнув. — Просто хотел подышать свежим воздухом.
— Через полчаса приедет семейный врач и осмотрит тебя. Не уходи далеко, — коротко сказал он и тут же удалился по своим неотложным делам.
Я посмотрел на часы: стрелки указывали на половину седьмого утра. Слуги здесь вставали рано, намного раньше Эшфорда и наводили порядок, то есть помогали накрыть стол Фабьену, и убирались снаружи.
Вокруг шато на улице сгустился густой туман. Я не хотел сидеть возле фонтана и привлекать к себе излишнее внимание, поэтому решил прогуляться в лесу. Само шато больше походило на замок, чем на привычный дом: высокие башни с остроконечными крышами, балконы с коваными перилами, крытые галереи. Тут был и сад с аллеями из подстриженных лип, фонтан с мраморными фигурами нимф, статуи мифологических героев. Чуть поодаль раскинулись парки и дикие заросли, переходящие в лес.
Жюльен как-то говорил, что каждую осень сюда съезжаются министры и депутаты. Они устраивают охоту на фазанов, косуль и диких уток. Иногда на зайцев. Судя по следам и кормушкам, он не лгал.
Я выбрал тропинку, ведущую вглубь леса и бродил в нём без определённой цели, наблюдая за тем, как стекают по листьям травы капли росы. Воздух здесь напоминал смолу и мокрый мох. Я уже почти расслабился, собираясь вернуться, когда впереди увидел огромного пса, гораздо больше любой известной мне породы. Шерсть у него была спутана, слипшаяся от грязи и сырости. Он прижал к земле ворону, и та отчаянно трепыхалась.
Мы встретились взглядом, и в следующую секунду он рванул клюв и крыло птицы. По лесу разнёсся хриплый вопль. Чёрные перья закружились в тумане, падая на землю. Я смотрел на них и вдруг разглядел в этой вороне себя, точнее свою участь в руках Эшфорда, если не стану играть по его правилам. Мне сделалось плохо, ведь вороны сами по себе являлись вестником смерти. Дурной знак. Волкодав, увлечённый своей добычей, не проявил ко мне интереса, поэтому я поспешил вернуться обратно, а когда вышел на задний двор, запах сырой земли перемешался с едким дымом сигареты. Там, прислонившись к каменной стене, стоял мужчина в чёрном костюме. Я узнал его с первого взгляда, это был начальник охраны — Эдвард Грейвс.
— Доброе утро, — приветствовал он меня. — Альбер тебя обыскался.
Я ещё не отошёл от увиденного в лесу и потому ответил запоздало:
— Доброе, — поздоровался я в ответ. — Не знал, что его светлость держит волкодава.
Эдвард стряхнул пепел.
— Его светлость не выносит животных.
— Но я только что видел в лесу, как... — я запнулся. Кому какое дело, что я там видел. — Прошу меня простить.
Эдвард нахмурился, сделал ещё одну затяжку и выпустил дым.
— Не страшно, так что ты там видел?
— Волкодава, он словил ворону.
— Значит, снова вырвался... Нужно предупредить Клемана, чтобы держал свою псину при себе, его светлость не обрадуется, если узнает, что он разгуливает на свободе.
Я смутно вспомнил голубоглазого мужчину. Он часто сопровождал Эшфорда вместе с Феликсом, но не отличался болтливостью, а напротив, оказался слишком молчаливым и выглядел так, будто бы делает одолжение, находясь с ними поблизости. Он был слишком задумчивым и во время разговоров часто уходил в свои мысли. Тут я немного запутался.
— Он что живёт в пристройке? — я знал, что мне не следует задавать лишних вопросов, особенно, когда меня ждал Альбер, но ничего не мог поделать со своим любопытством.
— В летнем доме у леса, — сухо уточнил Эдвард и потушил сигарету об кирпич. — Ближе к собаке.
Мне тоже захотелось выкурить одну, но я сдержался. Не хотелось выслушивать от Эшфорда ещё одну лекцию. Тут появился Альбер, раздражённый, как всегда, когда что-то шло не по его расписанию:
— Элиас, помнится мне, я просил тебя далеко не уходить.
— Да, простите, — привычно извинился я.
— Парень увлёкся псиной Клемана, — ответил за меня Эдвард. — Волкодав снова рвёт всё, что шевелится.
— Прекрасно, — процедил Альбер. — В сезон охоты его светлость окажется в дураках, если собака перебьёт всю дичь. Поговори с Клеманом! Впрочем разберёмся позже, не это сейчас важно, — он тут же повернулся в мою сторону. — Элиас, отправляйся в гостиную. Не заставляй ждать Адриана.
Элиас иди туда, Элиас иди сюда,Элиас сделай то, Элиас сделай это. Как же мне всё это осточертело! Я и так чувствовал себя лучше, чем вчера, и мог бы обойтись без всякого врача. Но кому какое дело до моего мнения? Они управляют мной как своей марионеткой, и всё только потому, что я «идиот» позволяю им это делать с собой. Я зашёл в гостиную с раздражением, и увидел в центре высокого, даже выше, чем Винсента, мужчину. Внешность его ничем не выделялась: каштановые волосы, такие же карие глаза, тонкие губы, чуть резкие скулы. Но на фоне привычных ворчливых эскулапов, презирающих пациентов и готовых облить их желчью(мне пока попадались только такие), этот выглядел... куда респектабельнее. В роскошном костюме тройке, с серебристого цвета оправы очками и кожаными туфлями.
— Доброе утро, — первым заговорил он. — Как ты себя чувствуешь, Элиас?
Я едва удержался, чтобы не скривиться. Все врачи такие бесцеремонные? Сразу на «ты» и по имени?
— Здравствуйте. Намного лучше, благодаря мадам Дюран, — ответил я.
Он отложил блокнот, и я заметил, что на обложке значится моё имя. Когда он успел составить карту?
— Открой рот, — коротко скомандовал он, включая фонарик, похожий на ручку. Я подчинился. — Зев немного гиперемирован, ангины нет, — пробормотал он, и пальцами тут же оттянул мне нижнее веко, разглядывая конъюнктивы. — Приподними рубашку, хочу послушать лёгкие.
Мне пришлось повозиться, и как только я приподнял её, он тут же приступил к делу, тыкая меня холодным концом фонендоскопа. По спине пробежала дрожь. Он не сказал мне ни слова, только протянул градусник и я зажал его под мышкой.
— Кашель? — спросил он, усаживаясь в кресло.
— Немного, — признался я.
— Сухой или влажный?
— Сухой.
— Ты принимал какие-нибудь лекарства?
— Только ментоловые пластинки и пару раз ибупрофен.
— Ясно. Хронические заболевания, операции, аллергия?
— Ничего из этого.
Он так внезапно начал засыпать меня вопросами, что я почувствовал себя на допросе.
— Хорошо, — лаконично заключил он, делая пометки в планшете. — Обычная простуда, правда меня смущает, почему у тебя резко поднялась температура до сорока градусов, обычно это свойственно ангине с бактериальным генезом, нежели вирусной инфекции. Я направлю к тебе медсестру, она приедет... — он глянул на часы. — В лучшем случае через полчаса, максимум через час. Возьмёт кровь. Ты ведь ещё не завтракал?
Мы оба знали, что за час, а уж тем более за полчаса она сюда не доберется. Это же глушь!
— Нет, — ответил я к своему сожалению.
— Потерпи немного, как только сдашь анализы, сможешь поесть, — он вырвал листок с назначениями и протянул мне. Я заметил в списке банальные лекарства, явно стандартный набор для всех подобных случаев. — Вот твоё лечение. Увидимся через неделю.
И не теряя ни минуты, он направился в кабинет герцога, оставив меня наедине с пустым желудком и предстоящими двумя часами томительного ожидания.
***
Если бы всё ограничивалось только голодом... К несчастью, не прошло и двадцати минут, как из кабинета вышел сам Эшфорд. Он не поленился подняться ко мне в комнату. Я в этот момент сидел на полу, копаясь в шкафчике и лихорадочно искал телефон. Последний раз я звонил Жюльену и, если память мне не изменяет, сунул его в карман пальто.
— Доброе утро, Элиас, — раздался позади его голос, и я вздрогнул, никак не ожидая услышать его прямо здесь и сейчас.
— Доброе, — с трудом выдавил я и поднялся, чтобы уступить ему место на заправленной слугами кровати.
Но он не сел. Вместо этого подошёл слишком близко и, протянув руку, большим пальцем коснулся моей щеки. Мне стало не по себе. До этого момента между нами никогда не было такой опасной близости. Разве что в тот раз, когда он силой усадил меня в кресло у себя в кабинете.
— Вижу, тебе стало лучше, — прошептал он по-английски, и я машинально нахмурился.
— Да, — коротко ответил я, чувствуя, как всё тело напряглось.
— Ты понял свою ошибку?
Он стоял почти вплотную, его горячее дыхание коснулось моего уха. Слишком близко. Я невольно попытался отступить, но только оказался зажат в углу.
— Почему вы это делаете? — спросил я, сглотнув нарастающую панику.
— Потому, что иначе ты не поймёшь. Я дал тебе свободу, Элиас. Но это не значит, что ты можешь поступать, как вздумается.
— Это неправда, — прошептал я, едва находя в себе смелость возразить.
— Посмотри на меня, — приказал он, и я не смог ослушаться. — У тебя красивые глаза, но ты никогда не позволяешь мне ими насладиться. Впредь, когда я говорю с тобой, не избегай моего взгляда.
Он отодвинулся и я смог выдохнуть. Несколько секунд мы провели в тишине, пока он наконец, не сел на мою кровать. Разговор по всей видимости ожидал быть долгим.
— В том, что случилось, есть и моя вина, — вдруг сказал он, и у меня внутри всё напряглось. — Ты бы не стал так легкомысленно относится к своему положению, поясни я тебе всё сразу. Элиас, как думаешь, почему ты здесь?
Я тяжело вздохнул. Его тон мне категорически не нравился. Всё катилось в сторону, где я не хотел оказаться.
— Вы хотите переспать со мной, — выпалил я первое, что пришло в голову. В моём понимании — самое очевидное.
Он улыбнулся.
— Не обижайся, но для постельных утех я мог бы найти кого-нибудь получше. Ты нравишься мне, Элиас. Не за красивые глазки, хотя это тоже сыграло свою роль, а за наивность и образованность. И я хочу, чтобы мои чувства оказались взаимными.
— Но я не могу ответить вам взаимностью, — тут же поспешил добавить я. — Вы слишком многого от меня требуете.
— Например?
— Вы решаете когда и что мне делать, а теперь, с кем и где жить!
— Я просто волнуюсь за тебя.
Больше похоже на контроль.
— Я вам не доверяю, — искренне признался я.
— Могу я узнать почему? — его бровь слегка изогнулась.
— Потому что вы всегда давите на меня своим положением. Вы не слышите меня, не считаете нужным прислушаться. Я... я не привык, чтобы со мной так обращались.
— И вот мы снова пришли к тому, с чего начали.
Он встал с места, оглядел мою комнату, и подошёл к рабочему столу. Взял в руки скетчбук и без зазрения совести начал листать мои пометки. Мне стало интересно о чём он мог сейчас думать или что собирался со мной сделать, но я не сдвинулся с места. Только наблюдал за ним, и поражался, как обманчиво мягким он выглядел со стороны. Аnge incarné, не иначе.
— Элиас... — он выдохнул моё имя и несколько секунд просто смотрел на меня, словно думал, что сказать. — Доверие не так то просто заслужить, и я прекрасно понимаю твои чувства. Но и ты должен понять мои. Через три месяца я должен приступить к предвыборной компании, а на следующей неделе мне предстоит встретиться с людьми в трёх разных странах, один из которых занимает пост президента, и все они, сочли бы за честь встретиться со мной. А я трачу своё время — на тебя.
Я не знал что и сказать, уж этого я явно не ожидал услышать, а следующее тем более:
— Каждый твой отказ больно бьёт по моим чувствам. Ты обещал дать мне шанс, но на самом деле продолжаешь отталкивать меня. Иногда мне кажется, ты даже стыдишься меня. Скажи, разве я нарушил своё обещание насчёт Сорбонны?
— Нет, — ответил я, вытирая вспотевшие ладони о брюки.
— Склонял тебя к сексу?
— Нет.
— Причинил тебе боль?
Я покачал головой.
— Тогда почему ты избегаешь меня?
Я открыл рот, чтобы что-то ответить, но так и не нашёл слов. Мысли путались. Всё, что он говорил, звучало логично.
— Потому что... я не хочу быть обязанным, — наконец выдохнул я.
Он усмехнулся и снова сделал шаг ближе.
— Обязанным? Элиас, я прошу только честности. Если тебе неприятно, то лучше скажи мне прямо. Но не убегай, от меня как ребёнок.
Я отвёл взгляд, но он поймал мой подбородок пальцами и заставил снова встретиться глазами.
— Amor vincit omnia(10)— прошептал он и прежде чем я успел сообразить, его губы коснулись моих. Слишком резко, слишком близко. Его ладонь легла мне на затылок, и я ощутил, как он притянул меня ближе, не оставив ни малейшего шанса отстраниться.
Я вздрогнул и машинально попытался высвободиться, упёрся ладонями ему в грудь, но он только крепче меня удержал. Сердце в панике забилось ещё быстрее, дыхание сбилось. Всё внутри запротестовало, но тело не слушалось (я словно оказался заперт в клетке из его рук и дыхания).
Губы его были горячими, настойчивыми, и он не оставлял мне пространства, будто хотел выжечь во мне своё присутствие. Я чувствовал, как он чуть приоткрыл рот, пытаясь углубить поцелуй, и в этот момент резко дёрнулся в сторону, но всё тщетно. Его пальцы крепко держали мой затылок.
Никогда бы не подумал, что мой первый поцелуй, окажется прихотью аристократа. К тому же мужчины. Мне стало стыдно только от одной мысли и я почувствовал как помимо легких, горели и мои щеки. В груди клокотала злость, вперемешку с унижением. Я хотел было закричать, но вместо этого лишь задыхался, судорожно хватая воздух носом, пока он не позволил мне вырваться. И вот тогда, мне удалось его оттолкнуть, да так сильно, что сам я тоже пошатнулся назад, едва не споткнувшись о ножку стула.
Мне захотелось его ударить, наверное, именно так я и поступил бы, не будь таким трусливым.
— Что вы сделали?! — возмутился я, чувствуя, как предательски дрожит голос.
— Показал тебе, как это работает на деле, — невозмутимо ответил он, будто и ничего не случилось. — Впредь, каждый раз, когда ты будешь отталкивать меня, я буду приближаться ещё ближе. Запомни этот урок, Элиас.
Примечания:
(1) Шарль де Голль — основатель и первый президент (1959–1969) Пятой республики.
(2) «Рассказ о двух любовниках» Пикколомони — В XV веке будущий папа римский Пий II написал эротический рассказ, более известный как папа Пий II, проделал огромный путь от простого секретаря епископов до папы римского. В молодости он иногда пописывал эротические рассказы, один из которых — «История о двух влюбленных» — обрёл огромную популярность. На самом деле рассказ почти что невинный. В нем идет речь о двух возлюбленных, которых чуть не застает муж любовницы. Любовник прячется в сундук и клянется больше никогда не думать о постельных утехах. Но, освободившись, снова окунается в свои чувства. Пий II тщетно пытался бороться с его распространением. Даже в одном из своих писем говорил: «Отбросьте Энея, примите Пия», пытаясь отречься от своих былых эротических сочинений.
(3) «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех» — эротический роман английского писателя Джона Клеланда, впервые опубликованный в Лондоне в 1748 году. 1Сюжет: история о юной девушке, которая отправилась в столицу на заработки и угодила в фешенебельный лондонский бордель, где не без удовольствия проводила время, пока не обрела настоящую любовь. 5Роман считается «первой оригинальной английской прозаической порнографией и первой порнографией, использующей форму романа». В тексте нет «грязных слов» или явных научных терминов; вместо них для описания гениталий используется множество литературных приёмов, среди которых широко представлены эвфемизмы. По сюжету роман состоит из двух длинных писем, написанных Фрэнсис «Фанни» Хилл, богатой англичанкой средних лет, которая ведёт жизнь в довольстве со своим любящим мужем Чарльзом и их детьми. Письма адресованы неназванной знакомой «Мадам», которой Фанни рассказывает о «скандальных этапах» своей жизни. 4В силу фривольности у романа была неоднозначная история публикаций. Так, несмотря на то, что он был переведён на 12 европейских языков, публикация романа в США была запрещена довольно долгое время.
(4) «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» — вторая редакция романа маркиза де Сада «Несчастья добродетели», изданная в 1791 году. Сюжет: повествование разворачивается вокруг Жюстины — юной девушки из благородной семьи, которая вдруг стала сиротой, стремится зарабатывать себе на жизнь честно и следовать строгим моральным нормам католичества. Все усилия девушки оказываются напрасными: похищение, изнасилования и ложные обвинения являются лишь началом жестоких испытаний. В финале Жюстине противопоставляется её сестра Жюльетта, которая, в отличие от Жюстины, предавалась порокам и извращениям, и которой выпала более удачная доля. Таким образом, очень просто, но красноречиво, де Сад доносит до читателя идеи либертинизма — философии, строящейся на отрицании любых общественных норм.
(5) Леонардо да Винчи стремился к бессмертию. Он изучал каждую клетку человеческого организма, каждый нерв, каждое биение матки, обременённой новой жизнью, чтобы найти ключик к бессмертию. Также известно, что если Леонардо и боялся смерти, то из-за страха не успеть познать себя, мир и Вселенную.
(6) Memento vivere — лат. выражение, противопоставленное более известному memento mori («помни о смерти»). Напоминание о том, что важно не только помнить о бренности, но и проживать жизнь.
(7) Memento scribere — авторская вариация, придуманная Амели в контексте разговора. Намекает на то, что писательство — это способ «остаться» в памяти, даже если сама жизнь уходит.
(8) Этическая теория Канта основана на том, что мораль не зависит от последствий поступка (как, например, у утилитаристов), а определяется внутренним долгом и принципами разума. Человек должен поступать так, как считает правильным с точки зрения разума, а не ради выгоды или страха наказания. Для современности это важно, потому что кантовская этика подчёркивает автономию личности, уважение к человеческому достоинству и идею универсальных моральных норм, которые должны действовать независимо от культуры, обстоятельств или личных интересов.
(9) Категорический императив — главный принцип морали у Канта: поступай только по такой норме (максиме), которую ты мог бы захотеть видеть всеобщим законом. Иначе говоря, прежде чем действовать, задай себе вопрос: «А что если бы так поступали все?» Если результат окажется разрушительным или противоречивым, значит, поступок аморален. Для современности этот принцип ценен тем, что помогает выстраивать этику универсальной ответственности — от личных решений до глобальных вопросов (например, экологии, прав человека, политики).
(10) «Amor vincit omnia» — «Любовь побеждает всё» (лат., Вергилий)