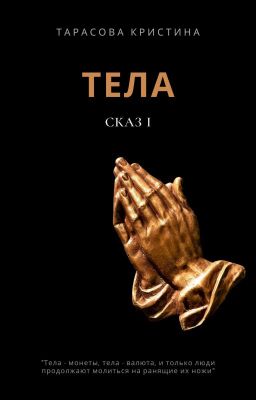Девочка
Солнце прикасается к лицу, но прикасается ласково, осторожно. Не так, как это случалось дома, средь выжженных полей и погибающих древ. Это солнце заставляет поверить, что стихия может быть добра и щедра (вопреки зримому даже после молитв в адрес земли), потому что пригревающие руки обращают взгляд в сторону живописного сада.
Это неправда.
Ты никогда не видела сад, Луна.
Открываю глаза и наблюдаю трёх сестёр. Это не забытые в отчем доме сёстры, это сёстры приобретённые: уставшие, дремлющие, сопящие. Лучи рассветного солнца бьются о металлические жерди окна. Потому Мамочка называет послушниц птичками? Или именем этим она наградила лишь меня?
Магдалена, Мириам и Муличка отказываются просыпаться, ссылаясь на грядущую ночь без сна, посему я решаю прогуляться по Монастырю в одиночестве. До сего момента спутницами выступали упомянутые – дотошные и болтливые, журчащие «сюда нельзя», «это потом», «здесь неинтересно» и прочее. Умываюсь с вечера оставленной водой и пальцами разгребаю непослушные волосы. Монастырь неподвижен, спокоен, слеп. Я двигаюсь мимо спален и комнат для красоты, как вдруг замечаю красный, разделяющий коридор, балдахин. С любопытством двигаюсь к нему и, едва руки мои касаются ткани, на них приземляются чужие руки. Грубые, мужские. Вздрагиваю и желаю вырваться.
– Не спеши, Луна, всему своё время.
Руки принадлежат Хозяину Монастыря, голос – ему же. Отрываю взгляд с балдахина – оказываюсь схвачена танцем мёда и рясы, следом – смотрю на представляемый шрам.
– Всё, Луна, случается в свой положенный час.
Завораживающий голос велит успокоиться, поддаться плавким, вылепливающим фигуры послушниц, рукам. Замираю и слушаю. И смотрю на собственные запястья, крестом схваченные единой ладонью. Хозяин Монастыря наблюдает ту же картину, смеётся и говорит:
– Какие у тебя тонкие запястья. Удобные, не находишь? Можно сделать так.
И, сжимая лапу, поднимает их у себя над головой, одаривая теплом очередной улыбки. Посторонний запах – сладкий и горький воедино – отлипает от одежд и прилипает к коже.
В ту же секунду красные ткани разрезает женский стан, а потому мы отстраняемся друг от друга. Нагая блестит масляным телом и скромным махом головы здоровается с Отцом. Нескромный мах бёдер намеренно прижигает хозяйское бедро. Мужчина не отвечает и ни единая судорога не проскальзывает на его холодном лице.
– Вот так, – жжёт Хозяин Монастыря и щёлкает меня по подбородку, дабы я закрыла рот. – Понравилась?
– Думаю, мужчины по ней с ума сходят.
– Не только мужчины, – восклицает девушка и пропадает в одной из комнат для красоты.
Я вновь смотрю на красные ткани за нами.
– Что там?
Хозяин Монастыря игриво поднимает бровь и объясняет:
– Там, Луна, девочки обслуживают важных господ. Там важных господ будешь обслуживать ты. Не торопись, как я и сказал, всему своё время: ты понесёшь Богам добрую службу.
И я представляю – нет, лишь пытаюсь – себя: разрезающую красные ткани. Раз за разом. День за днём. И разы, и дни друг с другом слипнутся, стянутся, скрутятся, потеряют значимость: я не буду помнить, сколько и когда там бывала – лишь факт возвращения. И он страшит меня. И страшат в особенности красные ткани.
– Это всё не я... – в шёпоте сползает с губ. – Всё это не взаправду.
– Что ты мямлишь? – сердится Хозяин Монастыря.
– Это не я.
– О чём ты, Луна?
– Я не хочу!
Оборачиваюсь к нему и повторяю:
– Не хочу. Всё это, не желаю! Я передумала.
Плечи сжимаются острыми пальцами: встряхивают, будто бы веля угомониться и прийти в себя.
– Я жалею...
– Закрой рот, – перебивает само спокойствие.
– ...о принятом решении.
Имело ли то смысл?
– Меня здесь быть не должно, поверь, – настаивает страх. – Я здесь лишняя, чужая, таковой и останусь. Я не послушница, ты видишь? Не послушница! Отпусти меня.
– Луна, я велел молчать.
– Отпусти!
– Молчи.
Хозяин Монастыря неприемлемо спокоен и малодушен. Его угнетающий взгляд демонстрирует, что сам он не впервой сталкивается со слезами передумавших дев.
– Отпусти, пока я не привнесла в твою жизнь бесконечные беды, – говорю я. О, глупые угрозы! Но помутнённый рассудок иного не приемлет.
– Сколько было велено молчать и сколько ослушания последовало? Тебя, Луна, плохо воспитывали и уважать богов не научили, верно? С кем мне об этом потолковать?
Я предупреждаю:
– С меня ты ничего не поимеешь, а вот я – твой мозг – более чем смогу. Не вынуждай.
– Заманчиво. Вот только ещё слово, Луна, и наказание.
И я отчаянно толкаю Хозяина Монастыря в грудь. Как и велено, без единого слова. И смотрю на него бесконечно жалобно, однако мужчина не сердится, нет. Глаза его пылают от восторга. Он улыбается. Он возбуждённо скалится и кусает губу, хочет, чтобы я повторила, а потому склоняется к лицу с готовой вырваться ядовитой фразой. Происходящее ловит взглядом выплывшая из комнаты красоты послушница, и, дабы не терять лица, Хозяин Монастыря швыряет:
– В кабинет, Луна. Быстро.
Он произносит это с такой безобидной и в тот же миг пристреливающей интонацией (и, право, безупречным, нетронутым эмоциями лицом), что я готова признаться во всех грехах и принять чужие. Интонация нагнетает ужас и навязывает вину, интонация принуждает. И, кажется, девочка узнает её – жмурится и прячется за красным занавесом.
– Ты услышала меня?
Я отворачиваюсь и бегу по коридору. Теряюсь за кабинетной дверью, как вдруг лисий силуэт нагоняет, разворачивает за талию и пришибает к стене. Пальцы гневно сжимаются на горле, оскал нависает подле лица и тяжело дышит. Я впервой наблюдаю немую войну: войну с самим собой. Хозяин Монастыря препирается с моими нисколько не раскаивающимися глазами – потому что я скорее пьяна от касаний, нежели напугана – и, нервно глотая, отпускает шею. С носков приземляюсь на всю ступню и – глупая! – руками касаюсь скачущей от учащённого дыхания груди. Не своей. Мужчина роняет взгляд на тешащие его касания и резво отстраняется.
– Никогда больше, – зудит голос. – Не прикасайся и не думай об этом. Я твой Отец, твой наставник, я Хозяин Монастыря. Услышала?
– Правило действует в обе стороны? – спрашиваю я и касаюсь собственной шеи, секундой ранее стянутой чужой рукой. – Не прикасайся и не думай об этом.
– Дразнишь? Наглая безродная мерзавка, – заключает мужчина.
В следующие часы внимаю содержательным речам в отцовском кабинете. Хозяин Монастыря утверждает, что прощает меня на первый раз (это не первый), но впредь (тоже враньё) оценивать и обращаться будет как с другими (о, ложь на лжи и ложью погоняет; он сам себя слышит?).
– Поняла? – подводит мужчина и влетает кулаками в рабочий стол.
Я влетаю затылком в подушку и соглашаюсь скромным кивком.
– Словами, Луна, – добавляет он.
– Поняла.
– ...прекрасно.
– Но не приняла.
– Повтори?
– Это правда. – Пожимаю плечами. – Я чувствую к себе другое отношение, а потому не играть на нём не смогу. Мне хочется быть для тебя особенной. Продолжать таковой быть.
– Переоцениваешь себя, – играется мужчина (в ошарашенных и довольных глазах я читаю очередное лукавство).
– А ты недооцениваешь меня.
– Разве?
И он решает закурить. Выуживает очередную острую иглу, поджигает её и сцепляет в зубах. Дым выбирается через танцующие от прохлады шторы и перебивается сигналом конвоя.
– Добро пожаловать, – устало выдыхает мужчина.
– Там...новенькие? – аккуратно спрашиваю я.
– Новее не бывает. Сколько чудесных и порядочных родителей взрастили чудесных и порядочных плодов на землях своих земных богов...Однако жертву они приносят небесным, а сам жертвенник находится меж двух пантеонов. Воистину.
– Ты не рад.
– А чему радоваться?
И он протягивает сигарету. Отмахиваюсь, но под тяжбой сурового взгляда сжимаю её меж пальцев. Затягиваюсь и осторожно выдыхаю: кольцо дыма обволакивает одну из лампочек на потолке.
– Хоть что-то умеешь.
Укол не из обидных, а потому ответа не заслуживает.
Или заслуживает?
– Надо же было чем-то заниматься до встречи с тобой, – говорю я. – Перед физической деградацией я внимала моральному разложению.
– А куда ты впихнула этап развития? – подхватывает мужчина.
– Это самый короткий этап.
– От зачатия до рождения?
– Очень смешно.
– Очень.
Мы смотрим в окно: из конвоя выводят двух девочек. Худые тельца жмутся друг к другу и оглядывают окружение, цепляются за уродливую, требующую ремонта, вывеску, смотрят на покрытые решётками окна – понимают, зубастый дом поглотит их. Одна из будущих послушниц оборачивается на сальную шутку водителя конвоя, отвечает ему колким взглядом и вдогонку получает прижигающий удар по бедру. Водитель конвоя обтирает ладони о пыльные штаны и прячет руки в карманы.
– Разве это дозволено? – спрашиваю я.
– Прибывшие не равно послушницы, – отвечает Хозяин Монастыря. – Они ещё не заключили договор, а, значит, не являются собственностью и неприкосновенностью Отца.
– Водитель хорошо знает здешние правила.
– Ты только приехала, а уже чувствуешь их, – смеётся мужчина. – Для чего обратила внимание на безобидный жест? Хочешь вступиться за незнакомок, которые, увидев бы тебя в грязи, не предложили платка?
– Меня никто не трогал. И не думал.
– Ещё бы.
– Что это значит?
– Я велел, – серьёзно отвечает Хозяин Монастыря.
– Сопровождающих было двое. Два водителя. Один из них сказал «девочка Босса».
– Значит, моя девочка. Особый груз, Луна.
– А это что значит?
– Как думаешь, – мужчина кивает на бредущих к Монастырю, – они отличаются чем-либо от уже пребывающих здесь? Ну, кроме того, что спят на соломе, жрут похлебку через день и плату за то не получают.
– Поняла.
– Уверена?
Он касается моего плеча своим плечом. Случайно. И задерживается, решает.
– Неопытность ныне дорога? – издеваюсь я. По большей степени над собой.
– Дорога невинность. И всегда будет. А неопытность для некоторых назидательных мужчин даже бывает желаема. Для некоторых — некоторым балансом. Опасающиеся же её в Монастырь не являются.
– Что об этом думаешь ты? – с искренним интересом вопрошаю я.
– Думаю, приятно выступать в роли искусителя, указывающего на запретный плод. Но также я думаю, приятно выступать в роли дьявола, с которым заключают договор.
– Ты бы хотел меня?
То его поражает: удивляет и скоблит. На лице вырисовывается совершенно неясная эмоция.
– Я думаю, – признаюсь, – утайки друг от друга лишь портят людские отношения.
– Они задают такт, Луна, а подобная прямота обескураживает, понимаешь? Так нельзя с людьми.
– А как можно? И к чему придумывать на уже придуманные слова другие?
Я докуриваю и швыряю хвост сигареты в пепельницу, сама же приземляюсь на край стола и, обняв одно колено, внимаю очерчивающему меня лицу.
– Хотел бы, – признаётся мужчина на заданное мной. – Если ты откровенна, то и я предпочту. Но мои слова ничего не значат. Ничего не значат и твои слова. Мы есть – такие, и поступать будем – как должно.
– Много договоров ты заключил, о, дьявол? – в очередной раз спрыгиваю с темы.
– Достаточно.
И Хозяин Монастыря рассказывает о том, как пребывают новые девочки: в каком возрасте, с какими историями и помыслами, как часто. Принимает он (удивительно то или нет...?) не всех; многие мечтающие о благой жизни покидают монастырские земли по указу Отца, многие отказываются сами после беседы с ним, предпочитая уродливую и грязную, однако свободную и не обременённую обязательствами жизнь. Несколько раз в квартал – случается – Хозяин Монастыря подготавливает и продаёт друзьям из пантеона жён. Другие публичные дома подобной функцией не располагают, и их целомудренные жительницы периодически несут двух-трехкилограммовые свёртки проблем.
– Расскажи о человеке, который меня купит, – прошу я.
Мужчина вздыхает и, прежде чем ответить, уточняет:
– Ты говоришь об этом в таком ключе, словно он перекупит тебя и скроется. Но нет, Луна. Услуга временна. Ты одаришь его и останешься при мне. И имя его я вправе назвать только завтра – после вечернего представления.
– Мамочка сказала, ты можешь продать меня в жёны.
– Могу. Но не хочу, – улыбается Хозяин Монастыря. – Мне нравится, когда ты рядом. Однако! однако, если будешь сильно чудить и думать о своей неприкосновенности – сплавлю не самому лучшего господину, помяни моё слово.
– В Монастырь ходят только знатные люди? Боги...?
– Только, – соглашается мужчина. – Для остальных есть остальные дома удовольствий, они нас не беспокоят, не трогают, не интересуют.
– А зачем Боги это делают?.. ну, ходят сюда.
– Провокационный вопрос, Луна, не находишь?
Утаиваю взгляд в разбросанных на столе бумагах. Если бы я могла прочесть хотя бы часть из них...
– Луна, я обращаюсь к тебе.
Мужчина ловит меня за лицо и приподнимает.
– Возможно, – отмахиваюсь я.
Тогда Хозяин Монастыря рассказывает, что Боги и иные важные господа, приближенные к первым указанным, прибывают в Монастырь, дабы узреть взращенные на их землях плоды и отведать лучшие из них. Он говорит, что вера в земных богов их нисколько не смущает (если молитвы эти дают такой хороший урожай), однако при личной беседе религии предпочитают не касаться (а касаться спелых тел). Они, как он выражается, обыкновенные Боги со своими делами и характерами.
Это же так просто и совершенно в порядке вещей. Быть Богом. К чему обращались родители и сёстры в своих песнях и сплетениях рук?
– Ты обещал рассказать, с чего начинался Монастырь, – прошу я.
– Луна, – причитает хозяйский бас, – ты пришла за наказанием, а не за ответами. Не думаешь ли ты, что уже узнала слишком много?
– А я могу выходить за пределы Монастыря? Например, в город?
Вопрос потрясает. В действительности. Мужчина теплится в моих глазах, склоняется на колени, и, взяв за руки, отвечает:
– Ты про Полис? Город, что на линии горизонта?
– Да. Я могу там бывать?
– Никто не может.
– Что?
Сёстры рассказывали о Полисе (родители умалчивали). О загадочном и недоступном городе, о творении людской мысли и силы, о вершине технологического прогресса, который самодуры втоптали в грязь и явили миру уродливый сгусток прихотливых людей. Обитающие на окраинах земель мечтали попасть в блаженный город, но тешились пёстрыми сказами. Они знали: туда невозможно добраться пешим шагом; пустыня коварна, солнце едко, зной удушлив. Да и что там – в городе – неизвестно. Высокие дома клыками причудливых морд прокалывали небеса.
– Не обговаривается, Луна, – отвечает Хозяин Монастыря. – Выходить в город нельзя. Тебе нельзя, никому нельзя. И незачем.
– Почему нельзя? – спрашиваю я.
– Потому что это прописано в договоре. Ныне тюрьма твоя, крепость – Монастырь.
– Почему незачем?
– Потому что кроме жалкого разгула, бесконечного ужаса, хаоса и смердящих уродов, именуемых людьми, но не дотягивающих ими называться, ты ничего не найдешь и не повстречаешь. Ты столкнёшься с грязными улицами и мертвечиной, тебя изнасилуют и, в лучшем случае, убьют. В лучшем, Луна! Люди безумны. Ты не наблюдала таких в своей отсталой деревеньке нефтяников, однако большие города иным не располагают. Люди безумны, – повторяет он. – А личная причина кроется в том, что я берегу тебя из эгоистичных побуждений и потому ступить по неверному пути не позволю.
– Отчего же люди сошли с ума?
– От свободы.
И Хозяин рассказывает мне (нет, всё же тешит старыми сказками, преданиями и легендами), что уставшая Земля решила изжить населяющих её паразитов. По правде, паразиты эти сами решили изжить себя. Бесконечные войны и оружия, насилия и убийства, подытоживали дело выбросы, химия, падающие заводы и звёзды. Что-то покрылось бесконечными рыжими пустырями с колючими, голыми, едва встречающимися деревьями, что-то поросло мертвецкими удушающими вьюнами.
– Человек – не венец и не вершитель, – говорит Хозяин Монастыря, а следом просит. – Твоя очередь: поведай о своей родной деревне, Луна. Об этих чудаковатых и безобразных нефтяниках.
И я говорю, что от нефти проку не было вовсе – грязные лужи любезно прогоняли разводами радуг, излишками своими плескали в воздух и пожирали незнающих.
И я говорю, что земли наши были бесплодны.
– Ну почему же бесплодны, – перечит мужчина, – если произвели на свет Такое.
Он указывает на меня, а я продолжаю:
– Урожая не было несколько лет. Скромные посевы умирали на солнце или от нехватки воды. Из сбережённого готовили ужины, день отдавали труду, работе и добыче, а утром благословляли земной пантеон, умоляя вернуть нашему краю былую красоту и плодовитость. Вот только край изобилующим никогда не был – металлические жирафы выкачивали нефть, а потом она пробилась сама. Мать готовила сорго и приправляла его для душистости веточками корицы, которые оставляли торгующие путники, что пребывали за мясом варанов, которых ловил отец.
– Какие воспоминания у тебя вызывает дом? Назови самое яркое, – просит Хозяин Монастыря.
– Сдохший лимон на треснутом окне.
Мужчина смеётся. И берёт мои руки в свои.
– Он стоял на моём подоконнике. Его бы даже слёзы вечно беременной сестры не смогли напоить. Всё же земли там бесплодны, – настаиваю я. – Если что и произрастало – сразу, опомнившись, умирало. Я не только о посевах. О людской надежде также.
– Почему вы не уходили с этих мест?
– Потому что некуда. Потому что всё везде одинаково.
– Ты уверена?
Спрашивает аккуратно. Мне не нравится.
– Има в своих молитвах упоминала, что «мы вкусили заслуженное», и «познали кару».
– Ты называешь мать словом из старого наречия, отчего, если есть общий язык?
– Ты мне скажи, – забавляюсь я. – Старое наречие существовало до моего рождения, до рождения моих родителей и наверняка твоего, Хозяин Монастыря. Этот язык – как дань уважения старым богам. Почему его отростки проникли в отдалённые земли, кто их пронёс и рассыпал?
– Очаровательная Луна, – подхватывает собеседник. – Ты умеешь красиво мыслить, вот только старое наречие придумали, чтобы разделить людей по кастам и осадить неграмотных, оградить их от знаний, которых они недостойны.
– Я тоже недостойна знаний?
– Время покажет.
– Желаю выучиться старому наречию.
– Право, требовательна и капризна равно юной богине. Тебя за нрав не пороли?
– А что? Тебе хочется исправить это недоразумение?
Хозяин Монастыря улыбается и велит осторожней выбирать слова и выражения, после чего возвращается к былой теме:
– Значит, вы верите, что наказание добралось до провинившихся? Что весь людской род повинен в произошедших с Землёй бедах, верно?
Я киваю. И говорю, что это правда, потому всё внутри Монастыря вызывает восторг и расспросы; а Хозяин – удивительно для этих мест (и вообще всех оставшихся пригодными для жизни) разумен и воспитан.
Я признаюсь, что представляла ад. А мужчина, признаётся, что ад ещё впереди. И рассказывает мне, ад и рай – явление глазами разносмотрящих. Что для меня будет горестным испытанием, для другого – блаженной платой, что иного окажется пытливым недугом, для меня станет щадящей волей.
– Ад и рай, – повторяет Хозяин Монастыря, – одно явление разносмотрящих.
– Откуда ты? – интересуюсь я.
– Из пантеона небесных богов, – зудит насмешливый голос.
– Это уже поняла. А взаправду?
Дверь открывается – синхронно со стуком. Опомнившись, мы вдруг отстраняемся друг от друга. Руки пускаем по швам и взглядами врезаемся в нисколько не интересующие объекты. На пороге является Мамочка.
– Бо!, я как всегда вовремя? – говорит она. – Папочка, у меня к тебе вопросы. Птичка, к тебе их нет, порхай.