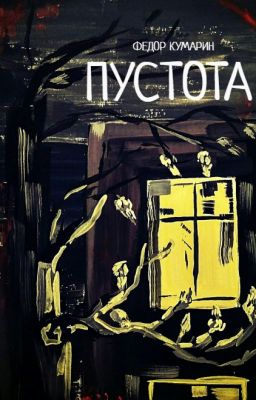Глава 6 Некомфортный
Пустые коробки стояли у мусорного контейнера, разбитые бутылки, смятые пачки из-под сигарет, пакеты валялись рядом. На улице было тепло. Снег тихо хрустел под ногами. Ярко светило солнце, поглаживая теплыми лучами грубую кожу планеты, заросшую коростой серого снега. Голубое небо было шторкой, что закрывала от нас пугающие космические дали, живой океан Соляриса, планеты с ксеноморфами и хищниками, пустынные Татуин, Плюк и Арракис, далёкий от совершенства Торманс, высокоразвитую Тагору, переживший ядерную войну Саракш. Зачем нам всё это? Нет. Человеку не нужен космос. Он необходим лишь мечтателям, больше никому. Но мечтатели чужды людям. Они существуют в пустоте, в собственном воображении, в других мирах. Поэтому мечтатели и рвутся туда, к звёздам, прочь от выблеванного богом мира, к фантазии! Ведь что такое космос, если не фантазия?
Я снова шёл в университет. Навстречу мне шагали другие студенты. Каждому из них я заглядывал в лицо. Вот черноволосый парень с огромными синяками под глазами, сухощавый, бледный. Волосы неаккуратно разбросаны по его полумёртвому лицу. Зато у чувака мало прыщей. Есть несколько на лбу, на щеках, но не всё так плохо, как у меня. Кажется, он не спал полгода. У него безразличный взгляд. Как пыльное стекло у троллейбуса. Б-р-р-р! Наверное, его поглотила тошнота.
Парень быстро проходит мимо меня и растворяется в пустоте. Следом за ним идут две девочки, болтушки-хохотушки. Вы все знаете это щебетание. «Ха-ха-ха! Хи-хи! Сегодня моя сестрёнка Надя съела весь торт «Наполеон» из холодильника, который я купила для себя. Купила, между прочим, специально под сериал. Думала, буду смотреть сериал и есть торт. И тут такое! Пришлось смотреть без еды. Но я ей отомщу...». Дальше я не услышал. Но ты должна благодарить сестру за то, что она съела твой торт. Посмотри на себя, ты же жирная, у тебя рожа смешная, как у Юрия Никулина, в тебе нет ничего красивого. Хотя бы сходи в спортзал, похудей там. Тогда на тебя хотя бы клюнут те, кто не способен воспринимать красоту, те, кому нужно мясо.
Но я же ненавижу тех, кому чужда красота. Они все уроды. Свиньи, которым почему-то хорошо в этом большом свинарнике.
Наконец, на глаза попалась знакомая личность. Навстречу мне шёл студент-журналист. Первокурсник. Толстенький такой, смазливый поросёнок с кучей родинок на щеках. Фамилия у него была Алексеев, кажется. Мы с ним вместе работали на радио. Правда, я его никогда не любил. Говорили, он открытый педик. Мне, конечно, всегда было пофиг на педиков. Я просто их недолюбливал. Сумасшедшие люди, которые сосут друг другу члены. Ну их нахер. Как здесь, в Сибири, вообще могут жить педики? Одно дело, где-нибудь в Париже или Амстердаме, среди мостов, чистых улочек и Эйфелевых башен, где царствуют либеральные порядки, и ходят довольные люди в шляпках и модных шарфиках. Ну ещё в гламурной, готовой отсосать за новый iPhone Москве. Другое дело здесь - в царстве зон и холода, в отчуждении... Нет, не понимаю.
Хотя, может, он не был педиком. Ведь эти истории мне рассказывали девочки из группы, а они всегда склонны преувеличивать или просто обманывать. Но лучше лишний раз перестраховаться. Поэтому когда он почему-то подходит ко мне и протягивает руку, желая со мной поздороваться, я просто прохожу мимо. Мало ли, что он делал этой рукой? Пошёл он в жопу. И это никакая не гомофобия, бросьте. Гомофобия - это если бы я его избил и плюнул сверху. Но я этого не делаю. Мне на него просто всё равно. Я не испытываю к нему ненависти. Просто лёгкую неприязнь.
Гораздо больше я ненавижу Артура Клыка. Особенно когда прохожу мимо рекламной стойки и снова вижу анонс нового концерта этой бездарности. Как же хочется уничтожить его... Исправить эту ошибку. Воспользоваться пистолетом, который дал таксист. Нет, остановись. Не думай об этом, чувак! Это же всё шутка, правда? Ты никогда не сделаешь этого. Ещё бы. Ты же не сумасшедший. Ты не поехал кукухой, как этот таксист.
Но разве он говорил мне полный бред? Разве Клык - не мой враг? Он забрал у меня цветочек. Алису. Эта посредственность сделала всё, что должен был сделать я. Я должен был стать писателем, поэтом, я должен был уйти в искусство, а не в пустоту, я должен был поцеловать Алису, впервые в жизни крепко обнять девочку! Какое это, наверное, счастье - просто обнять девочку, которую любишь. Наверное, она такая мягкая, такая тёплая, космическая, такая живая, идеальная. И он взял её, он обнял её, он оттрахал её... Лизал ей! Фу, что ты сделал, мразь! Со своими стихами! Со своей надменной рожей! Вроде как все - посредственности, а ты - творец! Нет, нихера ты не творец. Ты ещё большая посредственность, самая гнилая, сухая посредственность. Да ты завидуешь, Фёдор! Да, завидую, и что? Ведь я писал стихи получше! Разве ты, Фёдор, в этом уверен? Они ведь плохие, сколько раз ты сам говорил? Ты сам же всё выбросил! Всё разорвал. Почти всё. Сколько собственных стихов ты стёр? Около сотни. После того, как понял, что ты бездарность, ты всё удалил, уничтожил, выбросил. Кроме некоторых, отдельных стихов, которые не смог отлепить от себя. Посредственность! Долбаная посредственность! Графоман! Нет, ты всё заслужил. Всё сделал правильно. Одной посредственности вроде Клыка хватает. Вторая не нужна. Ты хотя бы не поиздевался над искусством. Ты сохранил пустоту. Пустота гораздо лучше уродства. Я правильно сделал, что выбрал её. Но пустота может принести только ещё большую пустоту. Вот я и растворяюсь в ней. Я всё делаю правильно.
Я замечтался, задумался. Впереди стояла бабка, которая просила милостыню. Мне кажется, я где-то её видел. Интересно, где. Наверное, здесь же. Наверное, она не в первый раз просит денег.
- Мальчик, подай копеечку на лекарства, - простонала она. - Совсем нет денег, внучка болеет, пенсия маленькая.
Я знал, что это всё ложь. Она говорила таким жалким, дурацким голосом, чтобы растрогать людей. Бабка была плохой актрисой. Но она стояла здесь, на морозе, унижалась, и ей явно было неловко. Пофиг на тебя, бабка. Я дам тебе два рубля. У меня должно быть в кармане хоть что-то...
Я остановился. Залез рукой в карман, нащупал пальцами монетку, достал и бросил ей. Правда, не два рубля, а почему-то десять. Неужели я не почувствовал разницы? Монета «два рубля» более плоская, она больше. Ладно, плевать.
- Благослови тебя Бог, - промямлила она. - Господь Иисус Христос о тебе позаботится. Он надеется, что ты не выберешь зло. Зло противно тебе. Но ты хочешь стать злом, да? Ты думаешь, что в зле - твоё спасение. Так и есть. Но ты не выберешь зло, ты умрёшь. Хочешь расскажу, как это произойдёт?
- Что? - спросил я. - Вы о чём?
- Под тобой разверзнется земля, и бездна поглотит тебя. Но ты не будешь сопротивляться.
- Почему?
- Потому что вода потушит пламя, а ты только и хочешь его потушить.
- Я не понимаю, о чём вы, - честно признался я.
- Это и не надо понимать, - промолвила она. - Главное для тебя - понять, где ты находишься. Ты же ничего не знаешь. Вокруг так темно, а у тебя нет и фонаря. Кто будет освещать тебе путь? Твоя любовь? Но этот свет готов выжечь тебе глаза. Всё это - только твоё наказание. Сам бог - твоё наказание. Ты - человек пустоты, рождённый из пустоты. Ты не добро и не зло, ты не борец и не смирившийся, и не художник и не часть толпы. Кто ты? Наблюдатель? В чём твоя задача?
- Успокойтесь! - закричал я. - Вы...Вы - сумасшедшая.
- Нет, - помотала она головой. - Просто, знаете, у меня потерялся внук... Мальчик семи лет. Внучка болеет, а теперь и внучек потерялся... Может, вы видели? Он любит рисовать на стенах всякие слова. Иногда пишет их задом наперёд. Любит ходить и всё разрисовывать. Боже, это так страшно! Недавно же, неделю назад, потерялась маленькая девочка, слышали новость? Мама ушла работать в ночную смену, оставила малышку с бабушкой. Бабушка была больная, старая... И вот, в этот самый вечер, она умерла. Давно было пора. Но девочка испугалась. Малышке было всего пять лет, кажется, она никогда не оставалась дома одна. Ей стало страшно. И вот малышка раздетая, в пижаме, вышла на улицу, в тридцатиградусный мороз, босиком... Пошла искать маму по посёлку... Это было в частном секторе. Девочка дошла до леса, и там умерла, замёрзла. Но на следующий день был сильный снегопад, малышку засыпало. Поэтому её трупик долго не могли найти. Только пару дней назад кто-то увидел в сугробе маленькую, белую ножку ребёнка. Дитя откопали. Мама узнала в нём свою девочку, а вчера... Вчера мама девочки повесилась. Вот так и умерла семья за несколько дней. Глупо, да? Сначала бабушка, потом девочка, потом мама.
- Зачем вы это мне говорите?
- Ну, не хочется, чтобы так же случилось... - оправдалась бабуля. - Чтобы сначала внучка, потом мальчик, потом я. Я ведь без внучков-то не проживу. Сама повешусь на верёвочке... Поэтому лучше мальчика-то найти. Если увидите его - поймайте, пожалуйста, и приведите сюда. Я здесь всегда стою, внучке на операцию собираю. Вы точно его увидите. Я уверена, он вам попадётся.
- Обратитесь лучше в полицию, - посоветовал я.
- Ха-ха-ха! - засмеялась она. - Нет, не проведёшь, к оккупантам я не пойду. Они заберут меня и будут пытать в своей пещере по приказу усатого. Я боюсь усатого. Меня с детства баба Клава научила, что надо бояться усатого и его бесов.
- Он давно уже мёртв, - сказал я.
- Нет, он не может умереть! - гаркнула бабка. - Если дьявол спустился на землю - то это до конца. Обратного пути нет. Он просто прячется, он просто убедил нас в своей смерти, но он выскочит, выпрыгнет, и полетят клочки по закоулочкам!
- Сумасшедшая! - воскликнул я и пошёл прочь.
Почему ко мне постоянно привязываются всякие... Словно я - их товарищ, друг. Нет, нифига. Я обычный человек. Никакой я вам не свой, сумасшедшие. Нет! Отстаньте! Отвяжитесь от меня.
Я вошёл в университет. Надо было предъявить пропуск. Я достал его из рюкзака, приложил к турникету, но он никак на это не отреагировал. Пропуск снова сломался. Надо идти заменять. Вот чёрт.
Я объяснил ситуацию охраннику, и он пропустил меня. Мудак. Ещё и посмотрел так презрительно, словно я - какой-то нелепый дурак. Иди в жопу, мразь.
Ускорившись, я отправился на четвёртый этаж, к аудитории 403.
Оказалось, что спешка была напрасной. Все ещё стояли у дверей. Препода не было.. Я и не удивился. Он постоянно опаздывал на пары минут на 10-15 минимум. Звали его Сергей Сергеевич Сергеев. Забавное сочетание, да, но оно придавало ему колорита. Для удобства все называли его просто Серёжей. Его внешность отлично подходила для этого имени. Сергей Сергеевич был толстым, добродушным мужиком лет 40 на вид, не слишком большого, но и не слишком маленького роста. Стрижка его была короткой, лицо - простым и часто озадаченным. Носил Серёжа преимущественно голубые джинсы, коричневые ботинки и рубашки поло, на которых всегда выступали следы от пота. Говорил он медленно, размеренно, с большими паузами, поэтому слушать его было довольно скучно. Да и лектор из Серёжи был так себе. Он только и делал, что неподвижно стоял у кафедры и читал лекцию, постоянно заглядывая в бумажку. Иногда он делал это сидя, что, впрочем, было ещё хуже. Говорил он достаточно громко, не бубнил, но это совсем не спасало положения. На парах Серёжу слушало лишь несколько человек, а остальные обычно занимались своими делами: читали, рисовали, шептались, смотрели видосы на ютубе, вставив в уши наушники.
В этот раз всё было так же, как и всегда. Пусто.
Я подошёл к двери, поздоровался с несколькими людьми. Они также поздоровались со мной.
- Как дела, Федя? - спросила меня одногруппница Маша.
- С пивком потянет, - по привычке ответил я.
- Слушай, а ты не участвуешь в олимпиаде по журналистике? Называется «Профессионалы!». Её питерский вуз проводит. Там как раз до конца февраля можно всё решить. Давай, ты же умный!
- Нет, нафиг мне твои олимпиады, - отмахнулся я. - Зачем в них участвовать? Всё равно ничего путного не выйдет.
- У тебя же получалось! - воскликнула Маша. - Везде, где участвовал, ты занимал призовые места. Ты же хорошо пишешь.
- Я плохо пишу, - ответил я ей. - Просто отвратительно. Да и на многих олимпиадах я проваливался. Там всё зависит от везения. А у меня его нет. Как и сильного ума, впрочем.
- Не ври, - оспорила она меня. - Я читала твои тексты для студ.журнала. Жалко, ты оттуда ушёл.
- Почему жалко? - спросил я. - Разве им без меня не лучше? Те мои тексты были мёртвыми. Я просто писал, как все. Где-то лучше, где-то хуже, но...
- Что - но?
- Это только пустота, - зачем-то снова произнёс я это дурацкое, безликое слово.
- Ты всё усложняешь, Федя, - пробубнила она. - Это просто журналистский текст, а ты относишься к нему, как к поэме.
- Да, просто текст, - согласился я. - Больше ничего.
Наконец-то пришёл Серёжа. Мы расселись по местам, он всех отметил, и лекция началась. Снова никто его не слушал. Я, впрочем, тоже. Сидел и читал книжку с рассказами Андреева. Может быть, вам нужна информация о том, какой именно рассказ я читал? Хорошо, я читал «Бездну». Вы можете сказать мне, что рассказ слишком маленький. Но я читал его медленно, постоянно отвлекаясь и думая о чём-нибудь.
Я всё не мог понять, откуда взялась эта странная бабка, и почему она рассказала историю о девочке. Правда ли это, или только выдумка сумасшедшей? Я залез в интернет и попробовал найти новость. Действительно, в поселке Южный умерла девочка, которая ночью, босиком, вышла искать маму... Какая жуткая хрень. К чему она это говорила?
«— Мне страшно. Тут так тихо. Мы заблудились?»
Кажется, у неё пропал внук... А ведь пару дней назад, в тот же день, когда я в последний раз видел Алису, я встретил в университете парнишку лет семи. Я помню, он рисовал что-то на двери, а я его спугнул. Чёрт, может, тот мальчик и был её внуком? Нет, это бред. Она - сумасшедшая старуха. Охранник бы ни в коем случае не пропустил кого попало в корпус, ведь так? Да, мальчик не мог попасть в корпус. Это сын какой-нибудь технички. Сколько семилетних людей в городе... Сколько из них любят порисовать? Нет, я всё себе придумываю. Та бабка сошла с ума. Не было у неё никакого внука. Никто не пропал. Иллюзия.
Надо было дочитать рассказ Андреева. Оставалось всего несколько абзацев.
Но мысли не позволяли. Голова! Забитая всяким хламом корзина! Кастрюля, в которой варится суп. Я оглядел аудитории. Много кто спал. Остальные говорили, слушали музыку, смотрели видео на ютубе. Всё, как обычно. Серёжа просто стоял у кафедры и, глядя в бумажку, рассказывал лекцию.
Меня всегда удивляло, почему он не может запомнить все эти лекции? Ведь он произносит их уже не один год. И столько лет он просто стоит и вот так читает с бумажки? Какой абсурд. Кстати скажу, что все его лекции - прямиком из учебника, по которому мы занимаемся. Мы как-то даже экспериментировали - открывали учебник на параграфе с темой лекции и слушали, что он говорил. Оказалось, Серёжа просто читал учебник. Строчка в строчку. Разве что иногда он вставлял какие-то свои конструкции в текст, и всё.
Я снова уткнулся в рассказ. Мужчину ударили по лицу, бросили в яму. Её насилуют в лесу. Он встаёт и находит её.
«И с силой он прижался к ее губам, чувствуя, как зубы вдавливаются в тело, и в боли и крепости поцелуя теряя последние проблески мысли. Ему показалось, что губы девушки дрогнули. На один миг сверкающий огненный ужас озарил его мысли, открыв перед ним черную бездну. И черная бездна поглотила его».
Может, меня тоже поглощает чёрная бездна? Может, и самой бабки не существует? Может, я схожу с ума? Может, надо перестать думать об Алисе, о пустоте, обо всём этом бреде!
Надо было с кем-то поговорить. Отвлечься от всего. Рядом со мной сидела девочка - Маргарита Хартунг. Мы с ней даже немного общались. Она была самой нормальной из всей это женской братии. Многим Хартунг казалась пацанкой. Она ходила в джинсах, какой-нибудь кофте худи, часто надевала шапку в помещении. Косметики на ней либо не было совсем, либо было очень мало. Она могла смешно пошутить, посмеяться над собой, над темами, которые «хорошо воспитанные девочки» считали запретными и идиотскими. У Хартунг не было слишком уж большого самомнения, она не превозносила себя. Правда, в ней всё равно было много женского. Она любила обсудить других девочек, плакала, если лажала (а лажала она часто), выносила мозг своими проблемами. Также Хартунг мало что интересовало. Единственная вещь, которой она была увлечена, - это косплей. Ну и аниме. Впрочем, это шло в связке. Она любила наряжаться в костюмы из японских аниме, ездить по всяким сибирским фестивалям. Так она себе и представляла жизнь - от фестиваля до фестиваля.
Но Хартунг была своей - я считал её не девочкой, а ещё одним пацаном из группы, с которым можно поговорить о чём угодно. Сейчас я решил задать ей свой странный вопрос:
- Слушай, Хартунг, ты не видела в вузе ребёнка? Здесь бегает мальчик такой, лет семи...
- Может, видела, - ответила она. - Я такие вещи не запоминаю, а что?
- Да ничего... - вздохнул я. - Просто... Тебе это не кажется странным? Мальчик в университете.
- А что тут странного? - усмехнулась она. - Нередко сюда приходят внуки преподавателей или техничек. В этом нет ничего такого.
- Да, наверное, - допустил я.
- А что это ты, Федя, детьми стал интересоваться? - решила она пошутить.
Ну ладно, шути. Вообще-то я в замешательстве. Вообще-то мальчику может быть плохо. Но тебе наплевать. Всем наплевать. И мне должно быть наплевать на мальчика. Кому он нужен?
- Ага, Хартунг, хожу и ищу маленьких детей, - ответил я ей. - Даю им конфетки. Знаешь, на что они ведутся? Я говорю, что покажу тётю в костюме Сейлор Мун... Или кого из аниме ты там косплеишь?
- Отвели, Федя! - простонала она. - Аниме не только дети смотрят.
- Ну да, наверное, - пожал я плечами. - Ещё умственно отсталые.
Хартунг психанула, встала и пересела на другой ряд. Я ударил по больной точке. Лёгкая победа. Хех. Но она не обиделась, уверяю вас. Просто выделывалась.
На перемене я подошёл к ней, и мы нормально поговорили. Так всегда. Она любит психануть, демонстративно надуться, как маленькая девочка, но настоящих обид не таит.
В это день я отсидел ещё две пары и поехал домой. Автобус снова был полным. Ещё бы, время - шесть часов, когда автобусы превращаются в грёбаную баню. Стоишь в тёплой куртке, шапке, шарфе, потеешь, ненавидишь всё и всех. С крыши свисает новогодний дождик, который так и не убрали с новогодних праздников. Спасибо, повеселили. Окна запотели. Кондукторша плохо шутит, что-то кричит. Она орёт на какого-то парня за то, что он не уступил место пожилой женщине.
Парень всё же сдался, встал и отдал своё место бабке. Но кондукторша только вошла во вкус.
- Да, - возмущалась она. - Сейчас всё только на женщинах и держится! А какие сейчас мужики пошли... Чёрт знает, кто это, но на мужиков они не похожи. Женщины сейчас куда сильнее и рациональнее, я считаю. На них всё держится.
Она произносила свою речь до следующей остановки. Это достаточно долго, потому что мы как раз встали в пробку. Автобус почти не двигался. Он еле плёлся. Я потел, сдувал сбегающие по моему прыщавому носу капельки пота. Нос заложило так сильно, что я совсем не мог дышать. Надо было достать капли... Они - в портфеле, в нижнем кармашке, но разве их достанешь в такой толпе? Нет, нифига. Пора слезать с капель. Я год уже капаю в нос. Наверняка всё себе там сжёг. Ладно, насрать. Кто-то курит сигареты годами, а я капаю в нос. Обычная ситуация. Ничего страшного.
На остановке кондукторша заткнулась, потому что вошли люди, и всех их надо было рассчитать. Когда она сделала свою работу, то снова начала возмущаться, но уже чем-то другим, однако её крики заглушил плач ребёнка. Чёрт... Почему мне так часто попадаются автобусы с орущими детьми? Как их можно слушать? Ор разрезает уши, лишает покоя, погружает в какую-то громкую, страшную действительность.
На этом проблемы не кончились. К концу поездки у меня из руки выпалрюкзак. В этой парилке я обмяк, расслабился и случайно уронил его на грязный пол. Там чуть ли не текли коричневые лужи. Вот чёрт. Я мигом поднял рюкзак, но это не помогло. Он был уже порядком запачкан. Сжавшись, чтобы получить хоть немного пространства, я достал платочки и немного вытер портфель. Точнее, стёр с него часть грязи, а часть размазал. Я попытался ещё. Стоял и, потея, в давке оттирал свою сумку. Истратил все оставшиеся у меня бумажные платки. Ими, запачканными, коричневыми, я заполнил все карманы, но так и не стёр с ранца всю грязь. Ну и похер.
Скоро я вышел из этого дебильного автобуса. Насквозь мокрый и с грязным рюкзаком. Я выкинул гору платков и закапал себе в нос. Стало лучше. Куда лучше.
Я пошагал домой. По своему унылому, тошнотворному дому, полному детей и бомжей, которые ходили сдавать бутылки в пункт приёма стеклотары, который находился близ моего каменного муравейника.
Дверь подъезда была открыта. Её покрасили и оставили на ночь сушиться. Припёрли её каким-то поленом. Замечательно. Главное, не вляпаться в краску. Хотя бы с этим я справился. Спокойно прошёл, ничего не задев. Молодец, Фёдор! Похвально, ты не самый большой дебил на свете.
Дома я размяк ещё больше. Делать ничего не хотелось. Я думал лишь об Алисе. Улица позволяла мне отвлечься, думать о чём-то другом, там были люди, машины-тараканы, серые стены с окнами, огромные, угловатые , холодные. У себя дома, в своей сырой, холодной пещере, в этой тёмной конуре, где никогда ничего не меняется, я остался наедине с собой. И я чувствовал смятение, тревогу, стыд, который никогда не прекращался. Он - как морская волна. То откатывается на время, то приходит снова. Иногда - с ещё большей силой, смывая меня в унитаз страха, заставляя смотреть на себя в зеркало и хотеть набить себе морду. Ну или просто проблеваться. Зависит от физических сил.
Я решил посмотреть какой-нибудь фильм, расслабиться. У меня был список фильмов, который я когда-то для себя составлял. По режиссёрам, всё как надо. Зачем я маялся такой хренью? Тогда ещё ставил перед собой цель заниматься самообразованием. Идиот. Всё равно ты почти всё забывал. Сидел за английским, старался разобраться в философии, читал историю, а потом не мог ничего вспомнить. До сих пор читаешь, но уже по инерции. Знаешь, насколько это всё бесполезно. Позор.
Отчего всё это? Меня словно разбирают... Разносят по кусочкам. И каждый день я только и делаю, что пытаюсь собрать себя воедино, но рассыпаюсь. Всё равно рассыпаюсь. И с каждым разом кажется, что песчинки всё меньше, что они утекают куда-то, что часть их теряется...Словно уходит в пустоту.
Я выбрал первый попавшийся фильм. «Необратимость» Гаспара Ноэ. Он знаменит семиминутной сценой изнасилования главной героини, сыгранной Моникой Беллуччи. Сцена и правда мощная. Впрочем, там ещё есть хороший момент с убийством. Цвета, движение камеры, музыка - всё на высоте. Всё вызывает тошноту, омерзение. Но я не чувствовал ни того, ни другого, потому что постоянно отвлекался от фильма, открывал профиль Алисы, пролистывал его ещё раз, ещё и ещё. Я помешался на ней. Зачем я смотрел на одни и те же фотографии по тысяче раз? Не знаю. Наверное, потому что я идиот. Я решил отложить телефон подальше и нормально досмотреть фильм. Я справился. Не брал телефон час, глядел на то, как насилуют Монику Беллуччи, слушал разговоры главных героев и постоянно смотрел, сколько времени осталось.
Как только фильм закончился, и по экрану поползли финальные титры я, как сумасшедший, схватил в руки телефон и вновь зашёл на её профиль. Чудо! Она обновила фотографию. Выложила очередную красивую, псевдогламурнуюфоточку в жёлтой кофте. Зачем, почему у тебя такое искусственное лицо, такие ненастоящие, пластиковые губы... Ты скорчила их, как утка, но это ошибка. Они делают тебя обычной, но ты же не такая. Ты живая, а фотография убивает тебя. Нет, ты не пустота, милая! Что у тебя с глазами? Почему они не блестят? Что убило их? Неужели фотоаппарат? Нет, не он. Ведь на других фотографиях ты такая живая. Ты - произведение искусства. А здесь? Нет, ты и здесь так красива... Всё-таки это твоё лицо. Те же ямочки. Та же маленькая родинка на правой щеке, которую так трудно заметить. Для меня это - чёрная дыра, в которую улетает моя фантазия.
Под фотографией был комментарий какого-то парня по имени Игорь с фамилией Дровосецкий. Жил он в Питере, так что вряд ли он был как-то связан с нашим, сибирским Дровосецким. «Шикарная», - написал он в комментарии. Как ты смеешь, сука? Зачем ты пишешь ей эти пошлые слова? Зачем? Ты тоже хочешь понравиться? Ты - такой же кретин, как я? Вряд ли. Но зачем ты всё это делаешь? Она уже занята. Хотя действительно ли это так? Клыку она не нужна. Он скоро бросит её. Да, она это знает. Наверное, Клык для Алисы - не более, чем увлечение.
Я посмотрел другие её фотографии. Их я видел уже тысячу раз. Зачем я их листаю? Ведь все они есть у меня в голове.
Может, ты напишешь ей? Просто спросишь, как у неё дела? Просто, обычно. Так же делают нормальные люди, правильно? Интересуются, как дела. В этом же нет ничего такого. Она наверняка хочет, чтобы я спросил у неё: «как дела?». Но ведь этот вопрос ничего не значит, его задаёт каждый парень, который хочет познакомиться с девушкой. Вопрос «как дела?» ничего не значит. Он - пустота. Не надо пичкать её пустотой! Она не такая, чтобы я пичкал её пустотой! Она может подумать, что я навязываюсь. Надо ждать... Я же ей просто друг, человек, с которым она просто общается, никто больше. Она не берёт трубку, не хочет разговаривать со мной. Значит, я ей отвратителен. А чего ты ожидал? Посмотри на себя в зеркало! Как ты мерзок! Ты думаешь, что можешь кому-то понравиться? Посмотри на неё! Нет, не на эту фотографию! На другую! Посмотри, кто она! Неужели ты хочешь всё испортить? Почему бы и нет? Красота и уродство... Нет... Но неужели во мне есть совесть! Неужели я за добро? Но зачем? Зачем? Ведь все остальные против! А может, это я, я один, - против добра? Я один - язва на теле человечества. Они ведь все так смотрят на меня, словно ненавидят! Я - просто неудачник, клоун, посмешище! Я всё сам упускаю, правильно? Алиса сама познакомилась со мной, она дала мне шанс, но я им не воспользовался. Зато Клык воспользовался, да? Хотя надолго ли? Может, они уже не вместе. Нет, Клыку она не нужна. Он не влюблён в неё. Да и есть ли между ними хоть что-то? Может быть, нет. Зачем ты накручиваешь себя? Может, лучше ей написать? Ведь ничего не будет. Нет! Я люблю её! Мне кажется, она пошлёт меня. Нет, уж лучше я буду тихо любить её, сидеть в уголке и надеяться, что когда-нибудь мы случайно встретимся и пообщаемся. Лучше уж так, чем она мне скажет... Что скажет? Что она может мне сказать? Она ведь хорошо общалась со мной? Она была приветлива... А в последний раз? У неё был тест по лексикологии. Она была занята! Алиса, как и любой другой человек, может быть занята, верно? Но теперь-то она свободна! Мы можем пообщаться, да? Прошло уже несколько дней, да? У неё произошло что-то интересное! Надо пообщаться с ней! Я так больше не могу! Она слишком красивая! Слишком волшебная! Цветочек! Как я могу просто забыть про неё... Нет, я не могу. Значит, я должен ей написать!
Я включил компьютер, открыл её профиль, снова посмотрел на фото. Оно стало живее. Чёрт, это я оживляю его! Переключи, срочно! Поле для сообщений. Напиши ей. Осторожно, чтобы не спугнуть.
«Привет», - набрал я своими жирными, коротенькими пальчиками.
Какой же я урод, черт возьми. Представь, как ты, урод, возьмёшь её за руку. Она же почувствует твои коротенькие пальчики, она почувствует пот на твоих ладошках, ей станет мерзко, противно. Её вырвет от тебя. Она увидит себя с уродливым карликом, с потным и грязным гномом... АААА!
Кроме «привет», надо написать что-то ещё. Только «привета» мало.
Я всё-таки сдался. Написал это фальшивое «как дела?». «Пока не родила», блин. Дурак. Ладно. Хорошо. Я сдался. Всё ради того, чтобы понравиться ей. Но ты же не умеешь нравиться. Чёрт. Пиши, мразь. Ты должен бороться. Ты должен быть нормальным. Если она сводит тебя с ума, то говори с ней. Не упускай её, прошу. Она - лучше всех. Она затмила Полину. Ведь ты так хотел, чтобы Полина ушла. Ты даже создал фигуристку для этого.
Стоп! Алиса ответила мне! Скинула голосовое сообщение! Подарила мне свой голос! Я включил его, закрыл глаза и наслаждался. Это как в песне про дерево у забитого Цоя: «мне с ним радостно, мне с ним больно...». Прежде чем ответить, я переслушал сообщение несколько раз. Каждое слово, каждый звук, каждую букву... Как красиво. Я не могу выразить это словами. Я мог только слушать, как её безмятежный, спокойный, солнечный голос льётся молочными реками по скалистым утёсам моей души, как он звучал из динамиков телефона. Почему он с каждым разом ещё прекраснее?
Я не особо вникал в содержание сообщения. Пришлось переслушать его ещё пару раз, чтобы всё понять. Она рассказала о том, как ходила на вечер какого-то поэта из Германии, который почему-то, зачем-то приехал в нашу сибирскую глушь читать свои стихи. Ей очень понравилось, она вдохновилась до такой степени, что ей захотелось тратить больше времени немецкий язык. Я спрашивал у неё какие-то глупые вопросы вроде: «сколько человек пришло?», «кто такой этот поэт?», «о чём он читал?»... Ничего такого, лишь бы поддерживать нормальный разговор. Мне не хотелось её пугать, не хотелось ни в чём ей признаваться. Нет, зачем же... Я уже и так сказал слишком многое в тех двух беседах.
Очень хотелось ссать, но я не мог бросить её, не мог перестать отправлять ей слова, не мог не задавать ей вопросов.
Надо было записать ей голосовое сообщение. Она отправляла только голосовые. Я же отвечал письменно, словно какой-то зануда. Но у меня ведь такой скрипучий, уродливый голос. Ей будет так неприятно. Чёрт... Может, со мной всё не так плохо? Может, всё-таки я ей нравлюсь, а? Возникла пауза. Она пока не отвечала. Я встал со своего потного, дурацкого стула и пошёл в туалет.
Пока ссал, решил, что надо отправить ей несколько голосовых. Да, без этого никуда. «Надо начать нормальный разговор, - думал я, - сколько можно говорить об этом поэте?». У меня тряслись руки. Чёрт, я боялся её. Боялся ляпнуть что-нибудь лишнего. А ведь я всегда говорю что-то лишнее, я всегда веду себя, как идиот, делаю что попало. Как так получается?
Лишь бы она не послала меня. Лишь бы не разочаровалась во мне, лишь бы дала мне маленький шанс. Но я же не заслуживаю шанса. Посмотри на себя. Ты просрёшь десяток шансов, сотню, тысячу. Поэтому лучше сразу отказаться... Нет, всё же хорошо. Она отвечает мне. Значит, всё нормально? Я позову её куда-нибудь, мы встретимся, поговорим. Нет, всё будет хорошо. Я исправлюсь. Стану другим. Надежда ведь ещё есть. Я всего лишь юноша, студент.
Я помыл руки и посмешил к компьютеру, посмотреть, что Алиса ответила. Её сообщение висит там, в диалогах, точно на верёвке... Может, она думает, что я её игнорирую? Нет же, я просто отошёл. Только не обижайся на меня. Не упрекай меня, прошу.
Я вернулся на своё место, открыл диалог и прочитал чёрно-красное, гнилое, червивое сообщение. Я протёр глаза первый, второй, третий раз. Всё бесполезно. Оно не изменится. Это же клише из фильмов. Зачем я протираю свои глаза цвета фекалий? Может, хочу вырвать их? Затереть их до дыр! Стать человеком с чёрными дырочками в черепушке! Скормить глаза акуле? Акула плавает в речке, где купаются дети лет тринадцати... Проклятый возраст, да? Зачем они там купаются? Акула же вот-вот сожрёт их! А мама ничего не заметит, а потом будет искать своих детей, а найдет лишь оторванный маленький пальчик, мизинчик какой-нибудь! Мерзко, да? Вот и Алиса съела меня, как акула. Правда, здесь даже мизинчика не осталось.
Что она написала? Давайте я вам прочитаю. Она написала следующее: «Слушай, я давно хотела тебе сказать, что мне как-то немного некомфортно с тобой общаться. Да и для меня ты человек какой-то некомфортный. Только для меня. Ты тут не виноват. Думаю, мы темпераментами не сходимся, или что-то вроде того. Не держи обиду только, пожалуйста».
После сообщения была парочка смайликов. Зачем ты их поставила? Это что, шутка, да?
Я перечитал сообщение ещё раз, ещё и ещё.
Всё понятно. Ты ожидал чего-то другого? А-А-А-А-А-А-А! Я закричал и орал до тех пор, пока не кончился воздух, пока глотку не стало разрывать на части. Надо было прекратить кричать. Вообще-то время - полночь. Люди спят. И похер на них. Они - всего лишь шелуха, перхоть, тараканы, колония муравьёв. Заткнись! Меня только что послала нахер очередная девушка, в которую я, как дурак, влюбился. Зачем? Пустота, пожалуйста... Забери её, засоси её в себя, милая, сделай так, чтобы мне стало всё равно. И на неё, и на всех остальных. Боже, зачем я кого-то люблю? Это же всегда такое мучение.
Я пошёл на кухню и открыл холодильник. Внутри меня всё полыхало. Надо было загасить этот пожар. Что-то выпить. В холодильнике была лишь бутылка пива. Плевать, для начала хватит. Я открыл бутылку над раковиной. Пиво полилось в раковину, зашипело. Какой приятный запах, какой приятный звук. Я поднёс бутылку ко рту и начал вливать пиво в себя. Пил большими глотками, надеясь осилить бутылку залпом. Я давился, но пихал пиво в себя. Пару раз пришлось сделать перерыв, потому что пиво потекло из носа. Но ничего, я собрался, взял себя в руки и продолжил. Через две минуты бутылка пива была пуста. Мне стало чуть легче. Но этого, конечно, было мало. Я знал, что за телевизором в гостиной родители хранят водку. Думаю, пропажу одной бутылки они не заметят.
Я открыл бутылку, налил прозрачную жидкость в стакан и выпил этот противный, обжигающий напиток. Половину стакана. Влил в себя слишком много. Так много, что всё чуть не полезло назад. Я запихал в рот горсть сухариков и, сев на пол, жевал, закусывал. Нет, прекрати. Ты что, ревёшь? Да, у тебя на глазах слёзы, Фёдор. Вот ты баба, размазня. Стыдно и жалко сидеть тут и рыдать. Жевать эти сраные, дешевые сухарики, которые я так любил в детстве. Благо, родители на дежурстве. Хотя бы никто не видит моего позора.
Что я делаю? Прочитал сообщение, не ответил. Она подумала, что взяла верх надо мной. Нет, надо что-то написать. Не показывать своей слабости. Не надо никому показывать слабость. Я самый слабый человек на свете, да, но для них я должен быть сильным, для них я должен быть нерушимым, они... Они все враги мне. Я бы убил их всех, будь я президентом какой-нибудь ядерной державы. Нажал бы на кнопку, пустил бы ракеты, очистил бы планету от всей этой грязи, от этой городской плесени. Сделал бы нашу планету обычной, похожей на все остальные, и она перестала бы быть изгоем, она бы вылечилась... Нет, всё это бред. Просто подростковые обиды на весь мир. У всех они есть. Каждый подросток-неудачник думает так же, как и я. Ничего нового. Я отхлебнул ещё немного водки из стакана, снова запихнул в рот сухарики, от которых слипались пальцы. Надо было встать, написать что-то.
Но боль росла. Она душила меня, выдавливала меня в стул, брала иголку и царапала меня, разрывала мою кожу, словно обычную тряпку.
Я помыл руки, умылся. Нет, не надо бухать и ныть. Я сильнее этого. Я не должен быть жалким. Я должен быть злым. Меня должны не жалеть, а ненавидеть. Это куда лучше. Не надо стремиться к любви, к добру, не надо пытаться понравиться. Наоборот, я обязан не нравиться им, я должен раздражать их, вызывать у них ненависть. Вот бы послать Алису, обматерить её, поиздеваться над ней. Но нет, я не могу. Во мне ещё сидит слабый Фёдор. Он не даст мне этого сделать. Ведь она такая красивая, а проблема только во мне. Я урод, коснувшийся красоты. Я виновен. Я согрешил, да. Но ведь я не говорил ничего такого, мы ведь начали нормально... Может, она просто психанула? Может, я сделал все выводы раньше времени? Нет, это всё так нелепо... Всё не может на этом кончиться. Так не должно быть. Я ведь люблю её. Я должен написать ей, спросить, что произошло. Я пошёл на кухню и допил тот стакан с водкой. Для храбрости. На этот раз я закусил шоколадкой. Фу, так противно. В горле - горячо. На языке - тошнота и злоба на себя. Я вернулся к компьютеру, открыл диалог с ней и настрочил: «Блин, странно, что ты прям в середине разговора это написала. Если я показался тебе стремным, так сразу бы и сказала, я бы понял. Касаемо темперамента, ты меня вряд ли могла бы узнать по двум дням общения, это точно... Мне казалось, у тебя есть ко мне какая-то симпатия».
Написав своё сообщение, я закрыл глаза и принялся ждать. Она ответила быстро. Я услышал щелчок - это значит, что её сообщение пришло. Я открыл глаза и прочитал:
«Дело в том, что какое-то время эта мысль держалась у меня голове, - писала Алиса. - Но я осознала всё до конца только в середине этого разговора, так бывает. Может это что-то ещё, неважно, что, я просто написала честно, что мне некомфортно с тобой общаться. Не надумывай ничего лишнего, пожалуйста. Это ж странно, что из-за каких-то моих заморочек кто-то может париться. Даже не странно, а бессмысленно».
После слова «бессмысленно» она поставила пару смайликов. Это выглядело издевательством надо мной. Я испытываю боль от каждого твоего слова, а ты ставишь смайлики. Но ты не специально, я знаю. Просто пытаешься сгладить углы. Сука.
«Да, - зачем-то ответил я. - Бессмысленно».
Больше отвечать было нечего. Всё понятно, она решила со мной порвать. Выбросить меня из своей жизни, которая только стала налаживаться. И правильно! На помойку, к бомжам! Там мне самое место. Место для моего сумасшествия.
Да, Алиса послала меня. В очередной раз послала. На этот раз, в последний. Славно. Я не такой человек, чтобы говорить с девушкой. Я - говно. Просто кусок говна, зараженный бактериями. Ко мне даже прикасаться нельзя... Девушка в очередной раз разорвала меня, она решила, что я не обижусь... «Только не надумывай ничего лишнего», сказала... Ага, не надумывай... Я уже надумал лишнего. Надумывать лишнего - моя фишка. Я раньше от этого недуга книжки писал, придумывал истории про самоубийц, а потом перестал. «Не надумывай лишнего, не надумывай лишнего!». Я же каждую секунду надумываю. Уже столько надумал! Надумал настолько, что на полном серьёзе хочу покончить с собой. Надумал настолько, что я хочу всё ненавидеть! Хочу всё сжечь и поджечь себя, а потом бежать, бежать, пока не умру, пока всё моё тело не обгорит до костей.
«Да пошли они все! - кричал я самому себе. - Каждая из них! Почему они так меня ненавидят? Почему они не дают мне ни единого шанса! Почему им так легко взять и растоптать меня? Почему одна ошибка - и всё... Я никто. Разве они не ошибаются... Разве они - самые лучшие люди на Земле? Идеальные, честные, красивые? Разве они не могут понять меня? Просто попытаться понять меня? Нет. Им не за чем. Им это не интересно. Но я ведь ни с кем так не обходился. Да, я отстранял людей своим поведением, но они даже не пытались меня понять... Всем, кто пытался, я открывался. А они смотрели внутрь, видели пустоту и громко смеялись. Нет, я не должен никому открываться. Я должен поверить в дьявола, да? Не в пустоту, а в дьявола».
Эти пустые, идиотские слова лишь ещё больше душили меня. Алиса была такой красивой. Её имя - волшебно. Её фамилия - это лучшее, что я слышал в жизни. Алиса Беловодская. В ней воплощена мечта русских о свободе, о земном рае, о Беловодье. Беловодье это же почти как Иридий, то есть место, где зимуют птицы, где есть покой, мировое дерево. Да, это большой, светлый рай. Но русские упустили своё Беловодье, оно пропало, потерялось где-то. Я тоже упустил свой рай. Девочку с фамилией, звучащей, словно музыка. Милую, ясную, как погожий летний день у бабушки в деревне, когда ты ещё совсем ребёнок. Хорошую, добрую. Она даже не написала о том, какой я грубый, самодовольный урод. Боже, как я вёл себя там, на этих двух встречах с ней? Что я делал? Какую-то гадость. Я ошибался, постоянно ошибался, пытался убедить себя в том, что мне всё равно, хотя мне было совсем не всё равно. Я с каждым днём всё больше влюблялся в неё. И вот - это привело к такому. Может, стоит обо всём ей написать? Нет, ты лишь ещё больше пред ней унизишься, ты покажешь, насколько жалок.
Успокойся, хватит ныть! Надо было ещё выпить! Это лекарство. Представляю, как я реагировал бы на всё это, если бы не выпил водки и пива. Наверняка напридумывал бы себе всякого, сошёл бы с ума, убил бы себя к чертям собачим! Надо было продолжать пить. А что ещё делать? Главное, притупить мысли о ней и о собственных ошибках, о просранной любви! Я всё просру! И ладно! Какая разница! Я - вечный одиночка! И в жопу всё!
Я достал из кладовки ещё пива и открытый тетрапак дешёвого вина. Отхлебнул немного из тетрапака. Вроде нормальное винцо. Пить можно. Для разнообразия подойдёт, а то от водки с пивом меня стошнит. И пусть, если стошнит! Мне надо очиститься. Как там бабушка говорила в детстве? «С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, мое детятко, вся худоба». Она говорила так, когда умывала меня, маленького, святой водой. Бабушка была верующей, водила меня в церковь. Где теперь церковь? Церковь Детства сгорела, а новую так и не достроили. Да и бабушка умерла.
С гуся вода... И всё будет хорошо. Бесы утекут вместе с водой, в мрачные канализации, где обитают черепашки-ниндзя. Или я запутался? Плевать.
Что я делаю? Я сижу на кухне, смотрю на стену и вливаю в себя алкоголь, который раньше ненавидел. Миксую дебильное вино из тетрапака, пиво, водку. Ноги воняют потом, а я продолжаю вливать в себя это... По капельке, по глоточку, по стаканчику. Как мама учила. Зачем я полюбил Алису? Как? Она показалась мне не какой-то телевизионной мечтой, а человеком... Но зачем? Не надо искать человека. Никогда. Я для неё, для всех, какой-то не тот, неправильный человек. Меня невозможно полюбить, да, это правда. Я не предназначен для любви. Любовь требует созидания. А я настолько разрушил себя, что не могу созидать. Нет, не надо и пытаться. Надо просто умереть... Завершить процесс саморазрушения, ну или раствориться в пустоте... Впрочем, я уже много раз говорил, что это одно и то же.
Надо пить, чтобы заглушить боль, расслабится, отвлечься от себя самого и своей ничтожности. А ведь перед вузом я вообще никогда не пил. Теперь давлюсь дешёвой водярой и поганым вином наедине с собой. Говоришь так, словно это достижение... Идиот.
Через какое-то время меня вырвало. Сначала один раз, затем второй. Я выпил активированного угля, несколько таблеток и рыгать больше не стал.
На часах было уже три часа ночи, а я всё сидел на кухне. Пить больше не хотелось, но куда-то деть себя надо было. Спать я не мог, заняться чем-то другим тоже был не в силах. Вдруг в голове у меня появилась очень хорошая мысль. А что, если попробовать написать то сочинение, которое задал Дашков? Вылить туда всё? Попробовать писать... Ведь раньше это помогало. Раньше буквы делали мне легче. Хорошо, можно попробовать.
Я включил уже потухший компьютер. На экране всё ещё была переписка с Алисой. Я посмотрел на него и снова почувствовал, что моё горло сжимает злоба на самого себя. Я снова заплакал и стал читать сообщения. «Нет, - подумал я, - переписку надо удалить, а то я буду читать её по сто раз. В этом нет ни малейшего смысла». Я взял и стёр все сообщения. Затем создал на рабочем столе новый документ, в котором была лишь одна пустая страница, и начал её заполнять. Получился текст на десять страниц, в котором содержалась гнетущая, мрачная пустота. Написав текст, я помылся и, пьяный и уставший, улёгся в постель. Правда, заснуть я всё равно смог лишь на пару часов. Что-то заставило меня проснуться в шесть утра и снова думать о ней и о том, какой же я всё-таки мудак.
Но что же я написал? Что же сочинило моё возбуждённое сознание? Дашков сказал сделать текст про войну или про героя в экзотической стране... А я всё совместил. Всунул и то, и другое. Читайте!
Я назвал этот высер в честь одного из моих самых любимых фильмов - «Апокалипсис сегодня». Только слово «сегодня» заменил на «всегда». Типа вся история человечества - апокалипсис. Умно, да? Я знаю, что отвратительно, но можете не напоминать. Ладно, хватит говорить...
Апокалипсис всегда
«Потолок накаляется, плывёт, растекается, становясь чёрно-белым, тающим снегом. Единственный, особенный, химический звук шипящей «Пепси» в жестяной баночке. Всё остальное - тишина, которая спидозной иголкой входит в вену и вводит внутрь идиотские, жалкие, извращённые мысли о собственной ничтожности. В комнате воняет телесным, липким, мясным потом, который белые ветви квартирных батарей выталкивают из моей призрачной, плёночной, жирной, как картошка-фри, кожи. Я скоблю её, эту ненужную кожу, представляю её всего лишь пенкой на поверхности манной каши... Сдерёшь её, морщинистую, прозрачную, мнимую, соскоблишь ноготками, и внутри образуются комочки, и есть себя становится куда сложнее.
Тишину нарушает кашель, что вырывается из грязной, вонючей, чёрной помойки моего горла, словно озлобленный, жестокий, но желающий свободы пленник. Я смотрю на прямоугольный экран компьютера, в который сваливаю, словно отходы из ведра, собственные мысли, эмоции, желания, фантазии, слова... Здесь, на белых страницах, живёт моя любовь - лёгкая, электрическая, неоновая, бело-розововолосая девочка с картинки, которую я никогда в жизни не видел. И я не хочу видеть её. Не хочу разочароваться, представлять её потеющей, произносящей обычные, сухие, прямоугольные фразы. К тому же, на фотографиях я видел её подруг, любящих провинциально-гламурные фотосессии. Она тоже хочет фотографироваться в студии, у хороших фотографов, - только нечасто делает это. Стесняется. Это часть её образа. Стеснительная, красивая, непопулярная, самодостаточная. Может, она не такая, но разве это имеет значение? Главное не то, кем она является на самом деле, а то, кем я её представляю. Да, эти представления немного не сходятся с реальностью. Помню, как-то рыскал по страницам её друзей и увидел там фотку... Она в обнимку с двумя бритыми парнями в три раза больше меня. «Наверное, школьные друзья... - подумал я. - Но зачем ты водишься с ними? Ты ведь такая одинокая, умная, дымная, растворённая в холодной ночи... Зачем существует твоё прошлое, зачем ты рушишь образ, который удерживает меня от полной, безрамочной, слепой пустоты? Слава богу, на её странице нет этих обезьяноподобных, супергероистых, мачовидных бакланов. А если бы я там оказался, в её инстаграме... Как бы её обосрали... Как она посмела... Вот так вот, враз, всё изуродовать, разрубить топором некрасивости, втоптать свою красоту в грязь, осеннюю, липкую, булькающую.
У неё несколько постов в Инстаграме. Я выучил их наизусть, до каждого слова, до каждого блика, до каждой чёрточки её вечно печального лица... Я со всем согласен... Ну или не согласен, но так хочу согласиться. Каждую её фотографию из инсты я могу нарисовать закрытыми глазами, но почему-то не делаю этого. Лучше этим заточенным, острым, невкусным карандашом, который в двадцатилетнем возрасте грызть вроде как несолидно, выколоть себе эти коричневые, цвета липкой осенней грязи глаза, похожие на парочку самых больших гнойников на моём и без того прыщавом лице. Нет, только не надо представлять себя рядом с ней. Красавица и чудовище. Как бы ей было страшно, стыдно, непросто со мной. Как богине с карликом из ада. Фу, блевать хочется.
Мой бородатый отец, которого я совсем не помню, погиб от рук горных бородах людей в камуфляжных куртках. Он погиб на войне, и я вроде бы должен этим гордиться. Ведь я не погибну на войне. Хотя тут как посмотреть. Я тоже часто представляю себя на войне. Война между мной настоящим и тем, кем я хочу быть. Причем, я периодически занимаю то одну, то другую сторону. Ненавижу то одни свои качества, то другие. Но большую часть времени я ненавижу всё, что во мне есть. Это касается не только уродливой, гнойной, крысиной, ущербной внешности, которой я обладаю, но и моего характера. Я не понимаю, как меня вообще терпят. Ненавижу всех и каждого и хочу, чтобы меня ненавидели. Наверное, это стремление к полной пустоте, к огню, самоуничтожению, взрыву, который раз и навсегда всё сотрёт. Ну и пусть. Рано или поздно должна произойти война, которая закончится либо одним взрывом, либо несколькими хорошими, яркими, выжигающими глаза взрывами. И всё завершится. Господь скурит нас и саркастично ухмыльнётся, глядя на воображаемого мента, который подойдёт к нему, чтобы сказать о том, что здесь, в пустом раю, курить нельзя. Вроде как общественное место. Откуда, казалось бы, в божьем царстве может взяться мент? Но, как вы думаете, если бы у нас не было мента, разве мы бы его не придумали? Вот и Бог придумал себе мента. Пузатого такого, в заляпанной куртке, с родинкой на щеке. Нелепого такого, неказистого, неуклюжего. Мент выпишет Богу предупреждение и уйдёт рыскать по раю, огорчаясь, что план по раскрываемости так и не был выполнен.
Но на чём я там остановился? Ах да, на войне, которая происходит в моём организме. Наверное, вы скажете, что я преувеличиваю её значимость, но разве я не буду прав, если скажу, что самая большая война происходит именно внутри человека, а самая страшная трагедия лежит в самых малых вещах. Хотя если говорить о мире, то он тоже, по сути, одна маленькая трагедия, с маленькими, похожими на прямоходящих муравьёв, существами.
Жуя чипсы со вкусом соли, я намеренно прокусываю язык. Теперь чипсы со вкусом человечины. Хотя бы чуть-чуть. Сегодня я бы попробовал себя полностью, скормил себя себе самому. У многих это называется самоубийством, но мне это название кажется слишком высокопарным и совсем не подходящим. Было бы логичнее сказать «освобождение от плоти, от организма, от потребности не быть пустотой». Но освобождение - это тоже звучит так высокопарно, так по-советски. Напоминает о эпопее Озерова, тоже о войне. И зачем это вообще?
Война - всего лишь смерть. Почему её так не любят, смерть? Почему её считают чем-то запретным? Ведь жизнь - труслива, а смерть - храбра. В ней присутствует самая яростная, жёсткая и злая форма протеста против главной человеческой потребности. Потребности жить. Эта ненавистная потребность накипью прилипла ко дну мозга, и её не отдерёшь, как ни старайся. Да, так я представляю собственные мозги - железой кастрюлей с пересоленной водой, где, словно пельмени, медленно, по-собачьи, плавают мысли, какие-то - с мясом, а какие-то - без. И между ними ведётся война. Да, если война и поселяется в тебе, то сражения начинаются между всеми компонентами личности, между всеми человечками, бегающими в твоёй черепушке, и никто из них не остаётся безучастным. Война между желаниями, потребностями, любовью и нелюбовью, добром и злом, страхом и попытками его преодолеть. Война между желанием сходить в спортзал и, набухавшись и обожравшись шавермы, разбить себе голову о стену панельной многоэтажи. На самом деле, ни того, ни другого я делать не собираюсь - это одна из форм бессмысленного, абсурдного, идиотского угара, из которого состоит вся моя мокрая, замкнутая, ленивая жизнь.
Ещё один угар - смотреть фильм и думать о том, что после него я покончу со всем этим. Какой раз я пытаюсь? Не знаю... Я тысячу раз пытался написать той девочке, тысячу раз пытался раствориться в пустоте, но ничего не получилось. Наверное, я трус, и любые решения даются мне нелегко. Так уж сложилось. Мне трудно преодолевать себя. Но я хотя бы пытаюсь. Сижу и каждый раз по новой перевариваю эти медленные сцены из «Апокалипсиса сегодня». Почему - чёрт его знает. Наверное, мне нравятся вся эта вьетнамская тематика, «Полёт валькирий», солдаты, безумие от употребления ЛСД, переход из человека в животное...
- Чувствуешь запах? - спрашивает меня подполковник Килгор, но не хочет слышать ответ. Он просто желает выговориться. Это необходимо всем служивым, я понимаю.
- Это напалм, сынок, - продолжает он. - Больше ничто в мире не пахнет так. Я люблю запах напалма поутру.
Классика, полковник Килгор. А я люблю запах сырого, сонного, полумёртвого тела утром. Мне кажется, что ночью я гнию, и какие-то существа, черви, быть может, растаскивают меня по частям, а потом собирают обратно, слепляют вместе... Очаровательно.
- Однажды мы бомбили одну высоту двенадцать часов подряд, - продолжает неугомонный, суровый, мускулистый подполковник. - И когда всё закончилось, я поднялся на неё. Там уже никого не было, даже ни одного вонючего трупа. Только запах напалма! Весь холм был им пропитан. Это был запах… победы!
Для меня, кстати, это тоже было бы победой. Представьте себе, миновать стадию трупа, разлагающегося, пожираемого разными мифическими существами, представьте себе, не быть мёртвой плотью, а сразу стать запахом. Пусть и напалма, какая разница! Просто раствориться - мечта поэта. Да и гопника, наверное, тоже. Разве гопник, этот панцирь русского двора, хочет гнить в этой булочке с повидлом под названием «гроб»?
«Когда-нибудь эта война закончится», - подводит итог Килгор.
Вот тут, в этом выводе, я с вами не согласен, американец. Скажи, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Нет, сила в правде. А в чём правда? Разве война когда-нибудь заканчивается? Нет, мясорубка никогда не заканчивается. Она происходит внутри каждого человека, внутри общества, внутри стран. Куча разных войн, взрывов разных размеров, которые однажды приведут к одному единственному большому взрыву.
А то, что в обиходе мы называем войной, с оружием и танками, - это всего лишь Апокалипсисы. Они постоянно повторяются. Один Апокалипсис следует за другим. Поэтому Апокалипсис никогда не заканчивается. Как жизнь человека - всего лишь затянувшаяся смерть, так и жизнь на Земле - всего лишь изрядно затянувшийся Апокалипсис.
Я ему соответствую. Ему соответствует и город вокруг меня, словно оставшийся после какой-то гигантской войны. Город разбомбила алчность, лень, жадность и другие низкие человеческие качества, которые и перечислять-то противно. Где же они прячутся, эти шакалы, как их убить?!
«Чёртовы гуки, они на деревьях!»
Шучу.
Преимущество, эстетика, особенность этого города в том, что можно легко ассоциировать себя, жалкого, разбитого, покоцанного, с местными пейзажами. Например, этот прекрасный вид из окна на магазинчик, в котором я раньше, ребёнком, покупал хлеб... Теперь магазинчик завален мусором... И моя жизнь - такой же мусор... Наверное, она плавает на дне тех жутких, пустых, вонючих бутылок из-под девятой «Балтики», разбросанных рядом.
Я сижу на стуле, который впитывает мой пот. А я впитываю историю о том, как едет кукуха у капитана Уилларда. Он следует за своей целью - Уолтером Курцем. Следует за сумасшедшим и сам сходит с ума. Это похоже на взросление. Когда мы - ещё дети, мы ставим перед собой образ взрослого, в который как-нибудь, чем-нибудь, когда-нибудь сами должны превратиться. Но мы не понимаем, что фигуры взрослых - это фигуры тех же детей, искорёженные в кривом зеркале времени. Вот и всё. Такая вот псевдофилософия под усыпляющие сцены из «Апокалипсиса».
Ненадолго ставлю кино на паузу. Сижу и путаюсь в сетевой паутине, как несчастный малыш в пуповине. Хех, даже в рифму получилось. Правда, звучит паршиво.
Я снова пробираюсь по страницам фидленты без малейшей мысли, просто так, как попало, автономно, чтобы убить время, сократить путь до Апокалипсиса. Я сто раз повторял это путешествие. Проверяю почту, наспех, неосторожно, невнимательно прокручиваю несколько либеральных сайтов с новостями, в которых заключается весь абсурд российской действительности, смотрю сайт про футбол, пролистываю несколько пабликов про кино, захожу в Инстаграм, где сверстники выставляют напоказ свои блестящие лица, нашпигованные мышцами тела и собственные «оригинальные мысли». Вскоре я натыкаюсь на её аккаунт с её до боли знакомыми фотографиями. Захожу на её профиль в другой социальной сети. Горят две заветные кнопки, которых я боюсь больше всего - «написать сообщение» и «добавить в друзья».
«Может, всё-таки»... - думаю я в тысячный, десятитысячный, стотысячный раз и вдруг, неожиданно для себя, нажимаю на первую кнопку. Открывается пустой, пыльный, не особо нужный ей диалог, в котором никогда ничего не должно появиться. Но безумство тянет руку к белому, чистому пространству, на котором блекло, серовато, полупрозрачно начерчено всё то же: «написать сообщение». Может, испортить белое пространство, сделать его чёрным? Я снова включаю фильм, чтобы заглушить ненужный, назойливый, беспрестанный шум в голове. Но не удаётся. Беру телефон, и пока фильм идёт, я смотрю то на экран, то на загадочное, соблазнительное, заострённое: «написать сообщение». Пусть фильм, идёт, а я... Я хочу сжечь напалмом её... И я сжигаю. Расширяя порез улыбки на собственном лице, я убиваю девочку из своих снов. Вместо того, чтобы познакомиться с той, кого я, быть может, любил, я пишу ей, что она шлюха, и тем самым убиваю свою любовь. Это один из способов убить себя. Она посылает меня в жопу и сваливает, как сваливают в фильме от солдат звёзды «Плейбоя». Какое совпадение. Хохотливые, длинноногие, легкомысленные «киски месяца» улетают на вертолёте, а солдаты, поражённые запахом напалма, который девицы оставили после себя, стоят и пускают слюни, глядя далеко в небо, наполненное порохом.
И они понимают, насколько война прекрасна, насколько прекрасен абсолют смерти, от которого не надо никуда бегать, от которого не надо закрываться. Они понимают, насколько прекрасен абсолют ужаса, скрытого от нас в повседневности.
Какие они милые - узкоглазые чёртики, выпрыгивающие из кустов и кидающиеся в тебя железными, заточенными, юркими пульками. Хитренькие такие мальчики, весёлые, озорные. «Да они просто играют!» - кричат их мамашки. Просто бегают, мальчишки, среди ветвистых, влажных, лабиринтообразных джунглей и играют в войнушку, думая, что всего лишь исполняют приказ. Но почему солдаты не могут ответить капитану Уилларду на один простой вопрос: кому они подчиняются?
Уиллард так и не получил однозначного ответа. Зато он узнал пару вещей о Курце, которых не было в досье.
Постепенно, ровно, размеренно фильм подходит к концу. Вьетнамское солнце убило ещё несколько человек. Но кому они нужны? Их тела просто засосёт в болото, и ничего не останется. Одна пустота. И оторванная голова «Шефа», которую принёс Уилларду Курц.
Это его добыча. Как и сам Уиллард. Но вдруг всё меняется.
«У тебя есть право убить меня, но право судить меня тебе никто не давал». Ведь суд - это очень страшно. Особенно, самосуд.
«Ужас... У ужаса есть лицо, и ты должен подружиться с ужасом», - говорит Курц.
Вот дикари рубят быка. И Уиллард убивает Курца под стук барабанов и рёв гитар. Курц получает заслуженное наказание от человека, которого он видел своим преемником.
«Ужас. Ужас», - звучат предсмертные слова Курца, я смотрю последние сцены и медленно проваливаюсь вниз, в чёрную, скользкую, холодную яму сознания.
Я вижу себя в катере. Лэндона и Уилларда здесь уже не было. Только маленький каменный идол из последней сцены фильма. Вверху - черное въетнамское небо, внизу - чёрная въетнамская вода. Словно всё дерьмо, сидящее внутри у людей, вырвалось нарушу, в этот мир, который почему-то, как-то, с какого-то перепугу перестал быть холодным. Где мои сибирские, гнетущие, радиоактивные хрущёвки цвета половой тряпки? Я без вас так одинок. Где тот до боли знакомый запах мочи из темноватых подъездов, где я марал руки в крошках от чипсов «Читос» со вкусом кетчупа, запивая их полторашкой лимонада за 12 рублей? Где эти штрихи моего детства? Их нет. У меня всё отобрали и выкинули сюда, во Вьетнам, в последнюю сцену фильма, который закончился, но как бы не до конца. Наверное, в другой сцене я и оказаться не мог. Это было бы несправедливо. Если человек существует в пустоте, он в конечном итоге должен провалиться в пустоту. И я проплываю сквозь джунгли. Мне хочется увидеть в них инопланетного Хищника, который бы навёл на меня эти три лазера, поставленные равнобедренным треугольником. Три точки уперлись бы мне в лоб, Хищник бы пульнул - и всё. Дело сделано. Мозги поплыли бы по реке, где их сожрали бы стаи пираний. Но не суждено. Никакого движения в джунглях не было. Ничего. Ни ветра, ни шороха - только вода под лодкой едва слышно плескалась. Я словно плыл в вакууме, и вода будто бы ударялась о стенки сферы, в которой я находился.
Я не знал, куда я плыл и зачем. Вокруг только - только война, джунгли. Только белая, гнойник, луна. Мимо проплывали белые трупы американцев в зелёных касках. Куда мне идти? Ждать приказа? Какой приказ я должен получить, находясь в этих мрачных, красно-зелёных вьетнамских джунглях? Может быть, я должен отстранить себя самого от командования собственным телом и поставить кого-то другого?
Мне бы сперва понять, где я... Нет, я знаю, где я! Во Вьетнаме, плыву по реке, замечая лишь темноту и трупы повешенных, свисающие с деревьев. В каждом из них я вижу себя. У кого-то - мой нос, перетянутый жгутами соплей, у кого-то - мои брови, в которых прячутся красные, опухшие, моргающие прыщи, каждый из которых похож на холмик над могилой. Вот и получается не лицо, а сплошное кладбище.
Внезапно с берега зазвучал громкий, истеричный крик. Я повернул голову и увидел ту самую девочку. Мою в фантазиях, чужую - в реальности. Это была она, я не мог перепутать. Вон она... Ходит по этой впитавшей все грехи человечества вьетнамской земле босиком, в синих порванных джинсах и в красной майке с яркими, тоненькими, белыми полосками. Именно такой она была на фотографии «В Контакте». Правда, в сети на её бриллиантовые, горячие, тонкие ножки были надеты чёрные ботинки. Но лучше уж босиком - так она казалась более невинной.
По её красному, яблочному, влажному лицу текли слёзы. Девочку обидели. К ней применяли силу.
Большой, лысый человек, лицо которого я совсем не мог различить, тащил её в чащу. Ему помогали вьетнамцы, которые били мою девочку, пинали её ногами, совали автоматы ей в рот.
Я схватил в руки вёсла и что есть сил погрёб в сторону берега. Наверное, я был не нужен девочке из интернета, но мне так хотелось её спасти... Так хотелось помочь ей, так хотелось оказаться хоть кем-то в её жизни, похожей на загадочную, но сладкую колыбельную.
Когда я прибыл к берегу, вьетнамцы уже уволокли девочку в чащу, в загромождение покрытых бетоном пальм, серых, грязных и безжизненных. Я метнулся туда, разгребая завалы листьев, лиан и прочего дерьма... Что ещё может расти в джунглях? Я не знаю... Я бежал долго, но чаща всё время была одинаковой. Я видел кровь, следы борьбы... «Может, они убили её? - летели в меня бомбы собственных слов. - Может, за ближайшим кустом я найду её труп?». Но никакого трупа не было. Просто кислотная, тихая, чёрно-красная чаща.
Я вижу, как она сгущается. Каменные пальмы становятся всё жёстче, пластиковые окна кустов недовольно шипят, из-за мороза их становится всё сложнее закрывать. Но в холоде и темноте я слышу её крики. Девушка, которую я обозвал шлюхой, кричит, зовёт, и некому ей помочь. Словно супергерой из голливудских блокбастеров, я бегу ей навстречу, слыша, как мимо меня пролетают бесшумные пули вьетнамцев. Самих воинов тьмы я не вижу - только пули, которые летают туда-сюда, но почему-то не задевают меня. Неужели я правда на войне, бегу куда-то, желая спасти девочку из интернета? Ничего страшного... Война - это всего лишь процесс, в котором убийца убивает убийцу. Просто естественная, природная, живая потребность человека к саморазрушению. Я всегда нуждался в войне. И теперь - я здесь. Не в фигуральном смысле, а в весьма буквальном. Бегу за криком, за человеком, большим, полноватым и лысым.
Под ногами становится всё больше травы. Эта зубастая, злая, острая трава режет ноги, прокалывает ботинки, рвёт их на куски, разламывает, как булку хлеба... Трава - это зубы, нет, осколки стекла... Да, точно, осколки. Я останавливаюсь и смотрю вниз - в осколках отражаюсь я сам и огонь, которым пылает лес. Я стараюсь идти аккуратней, но осколки начинают резать мне ноги. Я стискиваю зубы и прислушиваюсь. Девочка всё ещё кричит. На секунду мне приходит в голову мысль её бросить, забить, оставить её на растерзание этому монстру из чёрно-красной, кровавой, злобной, залитой бетоном чащи. Но мне жалко её... Она ведь такая красивая, листочки её губ такие нежные, и я не хочу, чтобы они просто сгорели, не хочу, чтобы ласточки её ресниц упорхнули в дальние края, и никогда больше не вернулись сюда, в это страшное место, из которого я никогда не уеду. Я не хочу, чтобы её бело-розовые волосы, такие же мягкие, как подушка после тяжёлого, дерьмого дня, превратились в обычный парик для пластиковой куклы... Не хочу, чтобы потерялись кристаллы её ногтей, кометы бровей, не хочу, чтобы испарились большие, затерянные во впадинах, озёра её глаз, из которых, наверняка, часто текут ручейки прозрачных, солёных и неловких слёз.
Я продолжил идти по острому стеклу. Но здесь было не только стекло. В джунглях можно было встретить различные растения, траву, организмы, вот и мне повстречалось множество видов острых предметов, которые протыкали мне ноги. Иголки для шитья полностью входили мне в ступни, иголки от шприцов лишь разрывали плоть, а длинные, худые, уродливые спицы выливали из бочки моего тела изрядное количество вина... Но оно не впитывалось в землю. Кровь текла к реке, где я оставил свой катер. Она лилась прямо у меня под ногами. Можно было и поскользнуться. Удивительно, почему я не падал?
Становилось всё жарче. Прям как в теплице в летний солнечный день. Правда, на улице всё ещё была ночь. Какой парадокс. Но не время думать об этом! Зачем, если она зовёт меня? Я должен думать только о девочке и о том, как ей помочь.
Я попытался идти, но наткнулся на дуло автомата. Пока я смотрел под ноги и рассуждал, куда течёт моя кровь, вьетнамцы окружили меня. Они подняли на меня свои узкие глаза и приказали следовать за ними.
Мы шли к какой-то разрушенной, горящей церкви. Из неё валил черный, лёгкий, печальный дым... Наверное, именно так древние представляли уход людей на тот свет.
В ноги больше ничего не вонзалось. Иглы и стекло снова стали травой, по которой вьетнамцы и вовсе шли босиком. Наверное, меня просто отказывалась принимать эта чужая, жаркая, узкоглазая земля.
Скоро мы достигли горящей церкви. Вокруг были расставлены рисунки на мольбертах. Точные копии фотографий из её инстаграмма. Я бы нарисовал точно так же. Кто художник? Но художником был лысый монстр. Он подошёл ко мне. И я заметил, что он был очень похож на меня. То же лицо... Только чуть другое. Чуть более ожесточённое и безразличное ко всему. Возможно, это и был я. Только какой-то другой я, мистический, жестокий, мёртвый. Тот, кем я всегда хотел быть.
Он подошел ко мне и, прошептав только одно слово «ужас...», вернулся дорисовывать очередную фотографию из её инстаграма.
- Посмотри, - сказал он, - какая она красивая. Такая аутентичная, электрическая девушка с очень музыкальной фамилией. С бело-розовыми волосами, в сером пальто, с печальным, гордым, чистым, в меру девичьим лицом... И, знаешь, эта царапина одиночества... Просто безумная смесь. Такая холодная, дымно-неоновая красота. Такой взгляд... Как будто направлен мимо тебя... Но он - словно молния, прожигающая насквозь. До такой девочки даже дотронуться страшно, правда?
- Правда, - признаюсь я, - она такая волшебная.
- Вот именно, - соглашается он. - Мне она тоже кажется белоснежкой, дюймовочкой. А вот этим лысым, голым, потным вьетнамцам совсем не страшно. Им хочется женщины. Они давно не были с женщинами. А ты?
- Я вообще никогда с ними не был, - честно сказал я. - Только мечтал.
- Целовал подушку, да, представляя, что это она?
- Правильно, - признался я.
- Как это романтично... - молвил лысый. - Ты целовал подушку и спокойно засыпал, но сколько же страхов в тебе было? Ты ведь боишься... Ночью ты больше всего боишься проснуться собой. Проснуться и осознать, что ты - это ты, и никем другим никогда больше не станешь. Не станешь мной. Бр-р-р-р, как холодно. Солнце отключилось. Надо бы послать мастера починить. Наверное, девочке тоже холодно.
- Подпусти её к горящей церкви, - попросил я. - Там она согреется.
- Девочка уже у горящей церкви, но ей всё ещё холодно. Может, вьетнамцы смогут её согреть? Ведь ей тоже хочется к ним. Мы для неё - ничтожество. То ли дело - сильные, желтоватые, безразличные, лишённые романтических иллюзий дикари. Наш век - это время, когда миром правят тараканы. Посмотри, разве они не тараканы? Разве они не заслуживают того, чтобы, наконец, все признали их власть? Ты же поклоняешься тараканам? И как ты не признаешь их власть? Ты признаёшь... Посмотри на девочку... Вон она стоит, потерянная, иллюзорная, чистая, голая... Ты ведь всегда хотел увидеть её голой. Ну смотри. Тебе не насрать на неё? Мне вот наплевать. Я буду её любить, но чуть-чуть. Ты ведь хочешь быть мной? Неужели ты не можешь просто послать её в жопу, позволить жизни течь так, как она должна течь? Если не можешь - прекрати всё это. Вот тебе пистолет. Убей меня - и тогда вьетнамцы будут подчиняться тебе. Пока же они сделают всё, что я скажу. А я собираюсь спустить их с поводка.
- Эй, вьетнамцы! - воскликнул он. - Фас!
И четверо самых жалких, обглоданных голодом, ушастых вьетнамцев начали, словно животные, совокупляться с моей мечтой. Я смотрел и дрожал. Было холодно. Лысый был прав. Он равнодушно поглядывал на оргию и продолжал рисовать очередное фото из её инстаграма по памяти. Получалось отлично. А я всё смотрел. У меня изо рта текли слюни, и у неё текли... И всё это было так мерзко, неприятно, тошнотворно. Вскоре из меня посыпалась рвота. Она выходила комочками, как шерсть у кота... Эти были те самые комочки, что так часто застревают в горле.
Вьетнамцы отрезали моей девочке её бело-розовые волосы, которые падали в грязь, словно никому не нужная солома. Я хотел подбежать и спасти её волшебные волосы, чтобы хоть что-то от них уцелело, чтобы они не пропали навсегда, но это было бы совсем унизительно. Вьетнамцы сделали из моей мечты лысую певицу, они валяли её в грязи, били по щекам, а она даже не сопротивлялась, с улыбкой снова и снова шла к ним, поедала их, наслаждаясь их больными телами и чувствуя себя в кои-то веки удовлетворённой. А они не жалели её, раздирали каждый сантиметр её тела, который я так любил. Они рвали самый красивый цветочек в саду и поливали его мочой. Она целовала грязные, потные ноги вьетнамцев, залитые кровью бравых америкосов, марая свои губы, которые раньше казались мне похожими на розовые облака.
Я не мог это терпеть. Всё крепче сжимал свой пистолет... Я прижал его к собственному виску, чтобы всё это закончить. Выключить телевизор. Надо выключить телевизор. Но я не мог. Она кричала. Не от страха, а от удовольствия. Ей было приятно. Они взяли нож и вырезали на её груди слово «шлюха». А она облизывалась и просила ещё. Нет...Она не шлюха... Пожалуйста, нет! Я так не хочу! Где твои волосы?! Почему вы затоптали их в грязь?
Я прицелился и выстрелил в лысого. Он лишь сказал слово «ужас» и, доведя последний штрих её безупречного портрета до конца, упал на землю. Всё прекратилось. Это совпало и с концом совокупления. Вьетнамцы быстро прекратили дырявить мою мечту. Но им больше и не хотелось. Они были удовлетворены. Хотелось моей электрической девочке. Она вопросительно посмотрела на дикарей, не понимая, почему они остановились.
Вьетнамцы склонились передо мной. Мои страхи... Они теперь пресмыкались передо мной, как перед Уиллардом. Я смотрел на них, и половину моего лица застилала темнота. Кто я такой? Человек внутри меня, который только что умер, безразличный, несущий смерть, - это Курц. Он хотел всё разрушить, сбросить атомную бомбу, но разве я должен её сбрасывать на себя? Разве я не до конца познал ужас? Разве ужас - это не синоним жизни? Разве сдавшись перед ужасом, я не стану тем, кто просто отворачивается от него? Но я ведь всегда любил ужас... Я всегда шёл ему навстречу. И ещё я шёл к ней. Всё её лицо было испачкано, но почему-то оно всё ещё казалось мне прекрасным. Я всё ещё боялся даже слово ей сказать. Хорошо хоть, что первой заговорила она:
- Ты теперь тут главный? - робко промолвила девочка.
- Да, вроде как, - глупо промямлил я. - Ты можешь уходить в лес. Ты теперь свободна.
- Но мне здесь понравилось, - протирая рот, мило прощебетала та, кого вьетнамцы нарекли шлюхой. - У вьетнамцев так тепло, и они такие любвеобильные. Ты же всё видел. Мне было хорошо. Всё бы продолжилось, если бы ты не вмешался.
- Они тебя не любят, - зачем-то сказал я.
Будто это не было очевидно.
- А кто любит? - спросила она. - Ты?
- Да, любил... - покраснев, ответил я. - Даже больше. Почему... Почему ты так поступила? Я пришёл сюда, чтобы тебя спасти.
- Ха-ха, - усмехнулась она. - Ты хочешь, чтобы я ушла в сети джунглей? Блуждала там, а ты меня любил, глядя на фотографии? Но я - только тело. Мне не нужна такая любовь, которую ты можешь дать. Это же просто... Посмешище. Так что я остаюсь здесь, у вьетнамцев.
- Нет! - воскликнул я, не посмев одёрнуть её, дотронуться... - Ты уйдёшь отсюда в джунгли. Сейчас же. И не вернёшься.
Я направил на неё пистолет.
- Ты ведь не хочешь умереть... - сказал я. - Ты такая красивая, и я не смогу просто смириться с тем, что ты умрёшь... Или с тем, что ты будешь с ними. Я не позволю тебе быть шлюхой, ясно? Беги отсюда. Или я выстрелю алмазной пулей прямо тебе в лоб. Ты всё поняла?
Сквозь грязь на её лице прорезалась слеза. Она заплакала, развернулась и побежала в лес. Голая, грязная и изодранная.
Я и сам пошёл в джунгли, игнорируя усевшихся на колени вьетнамцев, которые ожидали увидеть во мне вождя.
Вдруг у меня в кармане что-то зашипело. Это была рация. Я достал её и услышал:
- Капитан Уиллард, это Килгор, - звучал голос из рации. - Вы собираетесь выжечь напалмом эту деревню с церковью?
- Да, - ответил я без лишних сомнений. - Собираюсь. Церковь всё равно сгорела.
- Когда? - спросил меня Килгор.
- Минут через 10, пожалуйста.
- Принял. - уведомил Килгор.
Надо было поспешить, пока деревню не разнесли в клочья. Надо снова погрузиться в джунги. Я пошёл к своему катеру, до которого было очень далеко. Но по пути заметил хижину, в которой горел тусклый свет. Почувствовав интерес, я отворил дверь хижины и вошёл в свою комнату на пятом этаже типичной российско-советской панельки. Попытался вернуться в джунгли, но там, позади, был просто мой коридор с лампой, туалетом и стоящим в углу сломанным стулом. Я вошёл в свою комнату и сел за компьютер. Там начинался фильм «Апокалипсис сегодня». Наверное я постоянно буду его смотреть. Снова и снова. Но когда-нибудь... когда-нибудь эта война закончится. Закончится пустотой.