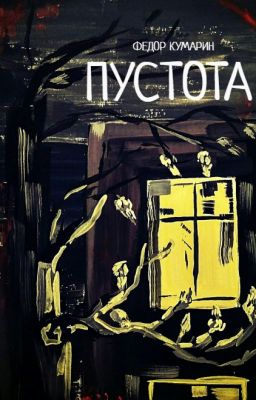Глава 5. Алиса в стране чудес
Пустота снова бежала по кругу. Она зудела, стонала, нашёптывала мне на ухо сказки о страшных, маленьких существах, которые забираются под кожу и соскабливают мясо с костей. Человек чувствует боль, но ничего не может с ней поделать.
Вечерняя пара. Автобус, забитый бабками и куртками, красное лицо, на котором созрела парочка новых прыщей. Полупустой универ, который вечером нравится мне куда больше, чем днём или утром. Вечером он более одинокий, более атмосферный. Он словно начинает дышать, пережив основной поток студентов. Но в то же время, без их гомона, без их ржача на лестницах, он будто скучает... Наполняется пустотой. В нём остаются эти темноватые коридоры, а в окнах можно увидеть неоновые вывески и огни провинциального, мечтающего о славе города, что медленно погружается в сон. Но вечером в университете совсем не тихо. Небольшие группки чуваков из студотрядов постоянно репетируют какой-то всратый танец на этажах. Приносят гитары, играют, усаживаются на полу, на лестницах. Как меня раздражают эти пионеры. Девочки в разноцветных майках и чёрных лосинах, вечно улыбающиеся, неэстетичные. Без загадки и тайны. Порой даже симпотичные, но в каком-то пошлом, животном смысле. Нет, у некоторых из них даже есть яркая улыбка, похожая на маленькую лодочку, такая смешная и праздничная, у некоторых есть глаза, напоминающие звёзды, у некоторых есть тонкие, настоящие черты лица. Но всё это - лишь намёки на то, кем они все могли стать. Намёки на что-то более прекрасное, более ценное. Когда я вижу такое, мне становится грустно. Ведь мир потерял столько красоты, столько света, столько надежды на что-то большее.
Вот и сейчас они сидели на лестнице и пели затёртую до дыр «Батарейку». Я усмехнулся и пошёл дальше, на пятый этаж, где у меня должен был быть английский. Именно здесь, на пятом этаже, учились лингвисты, и здесь я надеялся встретить Алису. Конечно, мне пора было перестать думать о ней... Конечно, она мне не принадлежала, у меня не было с ней ни единого шанса, но внутри мне хотелось увидеть её, внутри всё кричало о ней, звало к ней.
Перестань, говорил я себе, успокойся, дебил. Она не попадётся тебе на глаза. Ты уже несколько дней ждёшь встречи, хочешь, чтобы она подарила тебе свою улыбку, чтобы она укутала тебя в одеяло своего тёплого голоса. Но ведь этого не будет. Ты посидишь на двух парах, а потом поедешь домой в вечернем автобусе с таким же тусклым светом, как в этих коридорах. Ты будешь слепнуть, читая лежащую в портфеле книжку. Ты будешь хотеть есть и, придя домой, забьёшь желудок маминым лагманом, а потом сделаешь уроки и ляжешь спать. Интересно, когда я выйду из роли пятиклассника? Когда превращусь в мужчину? Наверное, никогда. Да и похер. Я ведь и не хочу взрослеть, правильно? Меня пугает всё это... Полное, тотальное одиночество, унылая работа, безденежье, идиотские, сухие обязанности. Зачем всё это? Нет, впереди лишь ещё больший мрак.
Я стою перед кабинетом, жду, когда подойдёт кто-то ещё. Прошлая пара ещё не закончилась. До её смерти осталось минут пять. Подходит девочка из моей группы по имени Юля. Не очень симпотичная, но приятная. Я отшучиваюсь, говорю что-то дурацкое. Подтягиваются остальные. Целая толпа. Здороваюсь с Ромой. Он рассказывает о том, как поссорился со своей подругой, которая раньше была его девушкой, а теперь вроде как ей не является. У них всё сложно. Вроде бы она уже встречается с другим парнем, и он ревнует её к Роме. Короче, целый любовный треугольник. Или не любовный. Роме-то она больше не нравится. Насрать.
Я пытаюсь съехать с этой нудной темы, перевожу разговор в русло учёбы, а потом и книг Сорокина, которые Рома обожает. Книг Сорокина хватает, чтобы заполнить время до окончания пары. Мы даже не успели договорить. Остановились на романе «Тридцатая любовь Марины», который обсуждали уже в тысячный раз. Ну и ладно. В конце концов, разговор между товарищами - это всегда диалоги об одном и том же.
Дверь кабинета открылась, и из неё вслед за преподавательницей с классической русской фамилией Волкова, странноватой, весёлой, но строгой одновременно, начали выходить студенты-лингвисты... Девочка с кудрявыми волосами, у которой всегда было такое выражение лица, словно она улыбается, низкий, как я, очкарик с глупыми усиками, похожими на гусеницу, смуглая тёлка в серой водолазке, высокий парень с лицом жирафа... Среди девочек и мальчиков, смешных и не очень, я увидел её... Алису, которая была королевским, величественным кораблём среди маленьких лодочек.
Это точно была она? Да. Белые волосы, кончики которых окрашены в розовый. У неё новый цвет волос. Она покрасилась или и раньше была такой? Какая разница? Боже, как это нежно... Как красиво переливается, точно любовь и безразличие, точно жизнь и смерть. Её волосы - это произведение искусства, это рисунок, которому нет конца. Это пористый молочный шоколад с клубничным джемом.
Розовое переливалось в красное, а затем в синее. Да, она была в красной кофте и синих джинсах. Вроде бы обычная одежда, но какая же красивая... Этот ярко-красный цвет. Такой тёплый, напоминающий огонь, горящий в камине. Она вышла из кабинета последней... Шла, опустив свои тёмно-голубые глаза вниз. Эти глаза были такими яркими, такими холодными. Глаза цвета ночного льда... Это не просто голубой, нет... Это смесь синего и голубого... Что-то между ними... Знаете, такой цвет ещё бывает у северного сияния... Потрясающе.
Нет, она не была похожа на мою фигуристку. Она - куда лучше. У фигуристки не было такой кожи, таких щёк, таких родинок-бусинок на щеках, таких ресниц-крапинок, таких бровей-молний... Шёлковые занавески её щёк были так непоколебимы и, одновременно, воздушны... Как мне, уроду, вообще позволили такое увидеть?
Я остолбенел, и за какую-то секунду, за какое-то мгновение, она прошла мимо меня. Рома что-то говорил про финал романа Сорокина, доказывал мне абсурд советской действительности, но меня это уже не волновало. Я повернул голову и смотрел, как она уходит... Её походка была великолепной. Простой. Настоящей.
Я должен был подойти. Не надо стоять! Надо побыть мужчиной хоть раз в жизни.
Извинившись перед Ромой, я побежал догонять Алису. Через несколько секунд я уже подошёл к ней и кинул ей в спину жалкое: «Привет, почему не здороваешься?».
Она подняла на меня свои глазки... Боже, как не заплакать от вида таких глаз? Но я удержался. Я должен изображать из себя нормального человека.
Она улыбнулась, чуточку покраснела. Нет. Порозовела. Как кончики её волос.
АААААААААА! Я сойду с ума от неё! Почему она режет меня своими этими чёрточками, этими ресницами-пилочками, этими бровями-иголочками... Чёрт!!! Не красней, прошу, Алиса! Когда ты краснеешь, твоя красота становится ещё более осязаемой. АААААААА! Я готов был взорваться. Но не показывал виду.
- Прости, - пропела она. - Я тебя не заметила, отвлеклась.
- Ты хорошо выглядишь, - зачем-то сказал ей я.
- Спасибо за комплимент, - наигранно улыбнулась она.
«Не делай так больше, прошу. Ты же такая настоящая. Ты не должна ничего делать искусственно. Ты не куколка. Ты - любовь».
- Как твой тест по лексикологии? - спросил я. - Справилась?
- Не очень, - скептически посмотрела она на меня. - Мне кажется, я всё залажала.
- Это так сложно? - не зная, что ещё спросить, промямлил я.
- Наверное, - недоумённо пожала плечами Алиса. - Мне сложно.
Пауза. Я не знал, что сказать. Она смущалась, она так смотрела на меня... Она словно давала мне шанс, и я словно не должен был его упустить. Она ждала, что я скажу какие-нибудь важные слова, которые всё исправят, которые сделают из меня другого человека, хорошего, доброго, правильного. Но я молчал. Мне было так страшно, так стыдно за себя, так трудно разговаривать с ней... Я позорился. Но вдруг её отвлекла чёрноволосая смуглая одногруппница в серой водолазке, и они пошли вниз по лестнице. Алиса даже не попрощалась со мной. Я её разочаровал. Ничтожество. Что я наделал?
Я снова остался один. Что это было? К чему был последний вопрос. «Это что, сложно?»
Прозвучало, словно претензия. Что я наделал? Я ещё больше её отпугнул. Вот дурак. Блин. Может, догнать её, встать перед ней на колени, сказать, что я чувствую, сказать, как люблю её. Нет, это будет унижением. А я не должен перед ней унижаться. Всё что угодно, только не унижаться перед ней. У неё, скорее всего, и так полно мальчиков, которые бегают и унижаются перед ней. Нет, она просто тупая сука. Пошла она в жопу. Почему они так жестоки, эти красавицы? Они не прощают ни одной ошибки, с ними нельзя оступиться, нельзя сказать ничего лишнего. Зачем вообще я вообще это делаю? Общаюсь с людьми. Я должен ненавидеть их за их жестокость, за то, кем они являются. И её я должен лишь ненавидеть. Вот бы в моей душе появилось нечто чёрное, нечто страшное, грязное и злое. Оно дало бы мне покой. Оно бы потушило весь этот пожар. Но всё ведь продолжится, да? Я не смогу измениться. Я обречён.
Пока я перебирал в голове все эти слова, пара уже началась. А я всё стоял в коридоре, ставшим пустым. На том же месте, где она меня покинула. В воздухе всё ещё оставался её запах. Она пахла виноградом и вишней. Не знаю, почему. Может, это были такие духи. Какая разница? Важно, что этот чудесный запах был таким магическим, будто бы не существующим, растворённым в её красоте... Да, так пахнуть может только самая чистая, самая прозрачная красота на свете. Красота, которой не может быть в человеке. Но в ней она есть. Почему? Я сам её придумал? Нет, такую красоту не может родить пустота. Из пустоты не появляется ничего красивого. Из неё рождается только уродство и бесконечная боль.
Алиса всё ещё была прямо перед моими глазами. Её образ не мог просто взять и раствориться в пустоте. Она была куда выше пустоты. И это меня разрушало.
Наконец, я заставил себя достать из кармана телефон и посмотреть, в какой кабинет мне надо идти. Электронное расписание показывало цифру 217. Я спустился на пару этажей ниже. На лестнице мне встретилось несколько негров, которые непонятно зачем приехали учиться сюда. Лучше бы отправились обратно в свою Африку. Не мозолили бы мне глаза. Не бесили бы меня. Я же не люблю их. Я же долбаный расист, националист, людоед, чуть ли не Гитлер! У-у-у-у! Как страшно!
Наконец, я добрался до второго этажа. На улице уже темнело. Свет ещё не включили, так что в коридоре было довольно мрачно.
Здесь снова никого не было. Точно коридор очистили, всех людей убили, собрали их совком, забросили в грузовик, вывезли за город и кинули в одну общую братскую могилу. Нет, конечно. Люди просто расселись по кабинетам, залитых вечерней тоской и усталостью.
Второй этаж. Цифра 217. Мой кабинет. У двери стоял маленький мальчик лет шести или семи, в синем комбинезоне и серой кофте, и рисовал на двери какую-то надпись красным маркером. Стоило ему только увидеть меня, он тут же испугался и убежал... Убежал быстро... Словно растворившись в пустоте. Я подошёл к двери и увидел надпись. «Redrum». Что-то напомнило. Только что именно? Неважно. Мальчику просто нечего делать. Скорее всего, у него в университете работает мама или бабушка, которая таскает его сюда, но не справляется с ним - мальчик бегает по университету и делает всякие гадости. Трудный ребёнок... Бывает.
Я зашёл в кабинет. Преподавательница посмотрела на меня своими большими, как у совы, возмущёнными глазами, но прогонять не стала... Позволила мне сесть на последнюю парту. Я сбросил с плеча портфель и попытался её слушать. Она устало, тихо читала лекцию по стилистике английского языка. Показывала очередную презентацию. Я пытался что-то писать, но рука еле поднималась. Она была такой тяжёлой, такой неподвижной, словно какая-то цепь...
Писать удавалось, но медленно. Я то и дело не успевал записывал определения, которые она диктовала, а потом и вовсе бросил. Всё равно всё можно найти в интернете.
Я прилёг на руки и вроде бы заснул... Через сон я слышал обрывки лекции, но они растворялись в каком-то шумном ветре... Мне снился лёд. И вода, которая течёт под ним. На секунду лёд стал зеркалом, и я увидел в нём своё отражение. Это заставило меня проснуться.
Сначала мне показалось, что всё в порядке. Белая парта с надписью «Лера», то же освещение, та же презентация на интерактивной доске. Та же идиотская дверь, которая никогда не закрывалась полностью, те же грязные жалюзи.
Но что-то было не так. Во-первых, все молчали. Во-вторых, с людьми в аудитории произошло что-то страшное. Все девочки стали не девочками, а длинными, тоненькими деревьями, на которых висело по одному яблоку. Эти деревья были такими хрупкими, чёрными, увядшими... В них словно чувствовалась смерть, скорая гибель красоты... Оставалось упасть только одному яблочку, и дерево бы превратилось в сухую, никому не нужную материю. Но яблочки не падали. Они держались из последних сил, делая деревья красивыми и мешая им превратиться в бессмысленную пустоту.
А кем же были мальчики? Они превратились в маленьких, заточенные топорики. Но у деревьев и топориков были и человеческие части тела. У тех и других имелись ноги, чтобы ходить, и ручки, чтобы хватать. Так что они почти казались человечками. Прикольными такими, с вытянутыми железными мордочками.
Я почувствовал неприятный запах. Кажется, мочи. Да, точно, пахло мочой. Она затекала в кабинет из коридора. Но разве это имело значение, когда рядом сидели живые деревья и топорики?
Вы спросите, что произошло с преподавательницей? Я перевёл на неё взгляд. Она была какими-то помехами, она мигала, словно плохая голограмма, она становилась то деревом, то человеком, она скручивалась в шаурму, затем становилась чебуреком, из неё тёк сок, который сливался с мочой.
Она пыталась читать свою лекцию. Некоторые слова, терявшиеся в бесконечных помехах, я даже мог расслышать.
Наконец, она закончила свою трансформацию, стала девочкой-подростком. Я не мог разглядеть её лица... Оно казалось мне таким знакомым. Девочка не двигалась. Наверное, она ждала, когда я подойду. Я покорился безумию. Встал, взял портфель и в полной, пустой тишине пошёл к девочке.
Я приблизился, встал вровень с первой партой. Да, я знал эту девочку. Она покончила с собой пару лет назад. Я читал о этом в интернете. Потом её смерть вдохновила какого-то идиота убить несколько бомжей. Он был сумасшедшим, этот парень. Потом пришёл в школу, застрелил несколько человек и покончил с собой. Ничтожество.
Как звали эту девочку? Кажется, Лера... Морозова. Да, Лера Морозова. Отлично, вспомнил. Она выглядела как-то уродливо. Не очень красивая девочка с заплаканными глазами, бледным лицом.
- Ты тоже упадёшь, - внезапно промолвила девушка каким-то неживым, электрическим голосом.
- Куда? - тихо, почти шёпотом, чтобы не нарушить покоя деревьев, спросил я.
- В бездну. - сказала она. - В голубую бездну.
Закончив говорить, девочка снова превратилась в помехи, начала мигать. Всё вокруг загудело. Я почувствовал беспрерывный, острый звон, которые разрезал мои уши. Возможно, это и была пустота. Звук вызывал боль, но ничего больше. В нём ничего не содержалась, он был непонятной, однотонной эмоцией, которая никак не проходила. Только усиливалась. Вместе со звуком нарастала и боль. Меня словно завалило камнями. Я чувствовал, что меня скоро раздавит, что ещё секунда, и я лопну, как воздушный шарик. Я закрыл глаза, упал, корчась в судорогах. Казалось, что вот-вот наступит конец всему... Шарик... Я только воздушный шарик... Пыщь-и всё! Но внезапно, когда я почувствовал, что сильнее боли нет и быть не может, звук исчез.
Я открыл глаза и поднялся на ноги. Теперь передо мной стояла Алиса... Вроде бы Алиса. Одежда точно принадлежала Алисе. Эта чёрная, тонкая кофта, такая аристократичная, словно пришедшая из глянцевых журналов. Её юбка, такая воздушная, жёлто-чёрная... Самая лучшая из тех, что я у неё видел. Правда, волосы остались от девочки-самоубийце. Они были красными, залитыми кровью.
Я оглядел тело девочки. Оглядел руки Алисы, благородные, опасные, извивающиеся, словно две змеи, пальчики Алисы, напоминающие лепестки ромашки... Её грудь, похожую на две морские волны. Да, это точно была она.
Но лицо... Лицо всё ещё мелькало. Её лицо заменялось лицом той суицидницы. Непонятная смесь из двух этих несуществующих в реальности девушек.
Дело кончилось тем, что лицо разделилось. Одна половина была - Леры, другая - Алисы.
Зачем ты забрала у меня Алису... Зачем ты заменила прекрасное на такое уродство из газет? Ладно. Ты хотя бы оставила половинку. Спасибо.
Существо не стало просто стоять. Оно открыло рот. Засунуло туда свою руку... Руку Алисы... Что ты делаешь? Перестань! Существо пихало руку всё глубже и глубже. Алиса давилась, в её глазах был страх, недовольство, омерзение от всего, что происходило. В глазах же Леры была только пустота. Бесконечная. Мёртвая.
Существо ещё несколько секунд что-то искало у себя в горле. Наконец, оно достало руку изо рта.
В руке был клочок бело-розовых волос, измазанный какой-то противной красно-зелёной жидкостью.
Я взял волосы и положил их себе в карман... Если это волосы Алисы, то их нужно будет очистить и сохранить, чтобы вспоминать о них до конца жизни.
Избавившись от волос, девушка снова преобразилась.
Половинка Леры откололась. Спасибо, Господи! Теперь передо мной стояла просто Алиса. Моя совершенная, прекрасная Алиса. Воображаемая Алиса, которую у меня никто не отнимет. Только она сама. Нет, пожалуйста, нет!
Алиса подарила мне лишь одну улыбку, а потом превратилась в ту зеленоволосую девушку из оврага, которая снимала с дерева плод. Зеленоволосая красавица не заигрывала со мной. Сразу начала говорить:
- Долго ты ещё будешь воевать? - спросила девушка. - Ты же суицидник. На войне не нужны суицидники. На войну едут для того, чтобы жить. Это лишь ещё одна форма жизни. Война - это торжество жизни. Война - повод рождаться. Война - не повод умирать.
Когда она замолчала, я услышал позади себя шаги. Один топорик шагал прямо к девушке. Я сделал шаг назад, чтобы дать ему пройти, чтобы уступить дорогу. Мне было плевать на девочку с зелёными волосами. Главное, чтобы топорик не задел меня своим хорошо заточенным остриём. Не разрезал меня, не убил вот так просто. Нет, если я и проиграю кому-то, то только самому себе. Не какому-то топорику.
Но девочка его не боялась. Поэтому топорик подошёл и спокойно вонзил своё лезвие в её голову. Наверное, он хотел её поцеловать. Или убить. А может быть, это одно и то же.
Череп раскололся, треснул напополам. Забавно. Две половинки головы торчали в разные стороны. А между ними бултыхалась какая-то жёлтая жижа.
Я улыбался. Мне было весело смотреть на всё это. На мальчика-топорика, на эту зеленоволосую дурочку, на кровь, которая текла из её головы.
Я глянул на часы. Стрелки бежали быстро, обгоняли друг друга, соперничали. Я снова перевёл взгляд на девушку... Из расщелины в её черепе росли красивые, жёлтые цветы. Росли быстро, словно их подгоняло само время.
Запах мочи исчез. Его заменил запах цветов. Прекрасно.
Девушка стояла на месте, не падала. Зато упал мальчик-топорик. Его лезвие раскололось на две части, и он был уже никому не нужен. Он хотел убить девочку, но умер сам. Вот идиот. Не знал, что девочки могут жить с расколотыми головами, а мальчики нет.
Вдруг зелёноволосая голова, залитая кровью, начала говорить.
- Ты же понимаешь, о чём речь? - спросила она. - Убийство той, кого ты любишь, лишь часть самоубийства. Чем сильнее ты будешь пытаться забыть её, превратить её в пустоту, тем быстрее ты сам будешь станешь пустотой. Она иссушит тебя, а ты никуда не сбежишь. Ей будет хорошо, а тебе будет плохо. Она ещё станцует на твоей могилке.
Зеленоволосая громко засмеялась.
«Ха-ха-ха-ха!»
Наконец, она сдвинулась с места, подошла к компьютеру и, тыкнув несколько раз на мышку, включила песню «Комсомольцы-добровольцы» и исполнении покойного Иосифа Кобзона.
Кобзон вылез из магнитофона и, распластавшись на парте, заголосил. Микрофон был у Кобзона вместо кисти, так что ничего держать мёртвому старику не приходилось. Он только пел. Пел так красиво, что парни-топорики не выдержали, повставали с мест и пошли танцевать. Приплясывая, они щёлкали пальцами, пытались копировать друг друга, следовать какому-то неведомому образцу, взявшемуся неясно откуда.
Девочка с расколотым черепом тоже не хотела просто стоять. Она пошла мне навстречу. Я думал, она хочет что-то сказать, опустить меня, поведать о моей ничтожности, но она не стала этого делать. Она просто обняла меня. Крепко так, словно я был её родным человеком. Я удивился этому поступку, но не стал отстраняться от неё. Всё-таки, пусть и с расколотой головой, она - девочка. Как я мог отстраниться?
Да, она была странной, да, её голова была разделена на две части, да, её мозг раскалывался, но разве не у всех девочек так? Наверное, у всех. К тому же, из дыры в черепе уже выросли цветы, от которых так приятно пахло... Я нюхал цветы и смотрел на танцующих мальчиков-топориков. Почему она выбрала меня, а не их? Вон они какие, красивые, блестящие, а кто я? Просто урод. Наверное, поэтому девочка быстро бросила меня обнимать. Она поняла, кто я... Хватило и пары секунд.
Снова увидев её голову, я заметил одну важную вещь. Цветы плакали кровью, и маленькие красные капельки тоскливо, медленно, лениво падали на носик девочке с расколотым лицом. Они прокатывались по этому милому, маленькому носику и сваливались в пустоту... Как жалко.
Но почему цветы плакали? Что заставило их рыдать? Кажется, я знаю ответ. Предчувствие скорой смерти. Девочка подняла левую руку и под песню Кобзона сорвала все цветочки, спрятала их в ладони.
Она протянула правую руку ко мне и кивком головы предложила мне самому узнать, что она сорвала... Ведь это были уже не цветы. Наверняка не они.
Я открыл шкатулку её ладони. Убрал один палец, второй, третий... Да, цветов там уже не лежало. Вместо них я увидел ровные, прекрасные бело-розовые волосы. Маленький, аккуратно уложенный клочок. Казалось, что волосы отрезали уже очень давно, что они пережили страшные вещи... И ещё от волос шёл какой-то неприятный запах разврата и похоти, от которого тошнило. Но - нет, нельзя так про них говорить. Волосы всё ещё были замечательными, красивыми.
Я взял клок волос и положил его во второй карман. Я улыбался... Ведь всё это было так мило. Кобзон, его песня, девочка с расколотой головой, мальчики-топорики... Они, кстати, начали водить вокруг нас хоровод. Мы с девочкой стояли в центре, а топорики плясали по кругу, словно мы были какими-то идолами. Но круг стремительно сокращался... Это было опасно, ведь топорики могли в любой момент задеть нас своими лезвиями.
Я оглянулся и заметил, что на интерактивной доске включился какой-то фильм. Это была порнография. Шестеро негров драли девочку с бело-розовыми волосами, с зелёными глазами, аристократическим, нежным лицом. Она была в меру бледноватой, худой, но приятной, живой и будто бы настоящей. Это была не кукольная красота... Нет, совсем, нет... Её губы были похожи на два покрывала, какими укрываются полярники в холодные ночи, её носик был как каким-то непознаваемым, древним, лёгким, но правильным и изысканным символом, её глаза были двумя фонарями, которые освещали даже самые мрачные закоулки души, где таится всё злое, всё жестокое, что есть в человеке, её щёки казались гладкими русскими полями под чистым небом, в которые хочется зарыться, на которых хочется умереть... Её ресницы были каплями дождя, который пролился для тех, кто умирает от жажды в пустыне, её брови казались крышами домов, что согревают в сибирские зимы, её морщинки были окопами, что укрывают солдат от смертельных пуль... Ой, извините, кажется, я заигрался с образами. Зато негры не заигрались. Они не видели ничего этого в ней. Они просто драли её. Засовывали свои огромные письки в её рот, вытирали её лицом свою жопу, а она смеялась... Почему-то её улыбка была такой красивой и такой уродливой одновременно...
На секунду мне показалось, что я даже знаю эту девочку, что я когда-то даже мог любить её, но это ощущение быстро прошло, растворилось в моей пустоте, и я с улыбкой на лице продолжил смотреть на то, как негры разбираются с красавицей-порнозвездой.
Почему я смотрел это видео с блондинкой ангельской красоты? С глубокими, почти детскими глазками, с тонкими, прекрасными чертами лица, с какой-то наивностью во взгляде и лёгкостью, которая уходит только когда пара чёрных членов оказывается у неё во рту. Какое чарующее разрушение красоты, безумие смешного, грязного мира. Красный смех. Я смотрю, как она орёт, загрязняется, мне становится больно, невыносимо тошно от себя самого. Девушка лижет жопу негра, а я зачем-то смотрю на это, и мне кажется, что я так виноват перед нею... Но ведь это она сама всё сделала, а я - просто немой наблюдатель, мне не нужна телесность, похоть, я вижу в этом образ, нахожу в хаосе мысль... Мысль о том, как легко разрушить любую, даже божественную красоту. Да и разве существует она на самом деле, красота? Её же так легко сломать, она же такая хрупкая, такая недолговечная... Может, её и нет вовсе? Может, мы просто придумали красоту только от скуки, придумали себе страдание и радость одновременно, придумали что-то, что нельзя описать, а можно только почувствовать?
Пока я смотрел на экран, мальчики-топорики сужали свой круг. Они были уже совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Их заострённые лезвия летали, словно ангелочки, прямо перед моими глазами, но я не боялся, нет, мне было всё равно.
На интерактивной доске кто-то начал переключать каналы. Раз-два-три-четыре.
Кто же это мог быть? Конечно, Кобзон. Он спел свою советскую песню и стал владеть умами людей, переключать каналы. Вторая его рука превратилась в пульт, чтобы никто не смог отобрать у него власть над телевизором.
Но по всем каналам показывали какую-то пошлятину. По одному демонстрировали, как бомжи, сидя в просторной, богатой квартире, обмазанной кровью и говном, ссали, улыбаясь и хихикая, на грязные, засохшие мозги, похожие на черепашек. Да, эти мозги были такими интересными... С маленькими ручками и ножками, с крошечными глазками. Я хотел бы посмотреть на эти обоссаные мозги чуть дольше, но Кобзон не позволил мне этого сделать. Он переключил канал.
От новой «передачи» меня чуть не стошнило. Это была очередная порнуха. Девушка с отрезанными пальцами на ногах и одной оторванной грудью, симпотичная, но слишком простая на лицо, худая, но крупная, русая, с длинным, тонким носом, с огромными, как у долгопятов, глазами, забитая, страдающая, совокуплялась с четырьмя чеченцами. Но самое отвратительное было не в этом, нет... К ней было привязано несколько мёртвых русских солдат, которых ели белые черви. Солдаты были наполовину обглоданы, но их лица всё ещё можно было узнать... У всех них были перерезаны глотки. Порезы на горлах были настолько большими, что, казалось, солдат зарубили топорами... Казалось, что головы держатся на каких-то маленьких ниточках, и стоит только ветру подуть, они, словно воздушные шарики, полетят куда-то вдаль, пытаясь догнать исчезнувшего во времени Олимпийского мишку...
На оргию смотрело несколько мужчин в пиджачках. Они, толстые, красные и лысые, противно смеялись, бросали в чеченцев деньги, желая, чтобы шоу продолжалось. И чеченцы с удовольствием продолжали совокупление. Иногда мужичкам в пиджачках хотелось остроты, и они давали чеченцам длинные, острые иголочки, чтобы кавказцы протыкали ими кожу девушки, чтобы вонзали иголки в её тело и оставляли их там. Это ведь так смешно... Видеть, как иголки растворяются в теле, словно в пустоте... Ей было так больно, но эта боль, осторожная, невидимая, почти прозрачная, девушкой скрывалась.
Я не мог смотреть на это. Мне было так жалко девушку... Меня разрывало от её боли, её страдания. Казалось бы, почему, ведь девушки никогда не принимали меня, они давали мне только разочарование, тоску, и ничего больше... Следовательно, я должен их ненавидеть, я должен желать им зла, но почему... Почему я люблю их? Почему жалею?
Нет, я не мог на это смотреть. Чеченцы испачкались в её крови, в её поте... Нет, нет! Почему? Что они все себе позволяют? Эти негры, эти чеченцы? А-а-а-а-а-а! Я схожу с ума.
Кружок сокращается. Топорики уже близко.
Кобзон. Кобзон поёт.
«Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной,
Только так - можно счастье найти!...»
Лезвия топориков мелькают прямо перед глазами.
Я чувствую, как топорики оставляют царапины на моей коже. Я чувствую боль. Я знаю, что у меня идёт кровь. Я вижу девочек-деревьев. Другие мальчики-топорики, которые не участвуют в хороводе, уже занялись ими... Они отрубают им ветки, они рубят, разрушают лес, а щепки разлетаются по всему кабинету и кричат, как маленькие дети. Не отличить.
Те мальчики-топорики, что водят хоровод, скоро разрубят меня... Наконец-то.
Я закрыл глаза, чтобы не видеть порнухи с чеченцами, чтобы не смотреть, как топорики убьют меня, как они нарисуют на моём теле длинные улыбки шрамов. Но глаза не хотели закрываться, они не желали оставаться на своих местах. Они запрыгали, заплясали, стали толкаться, а затем, хорошо разбежавшись, выпрыгнули из орбит, вырвались из границ моего тела и обвились вокруг зеркала... Они не потеряли связь со мной... Глаза держались на маленьких красных ниточках... Но это продолжалось лишь пару секунд. Случайный мальчик, случайный топорик перерезал ниточки, и я перестал видеть, а потом почувствовал, что в моём животе появилась большая дыра, заполненная одной лишь пустотой...
И я проснулся. Снова оказался на паре. Вокруг не было никаких деревьев, никаких топориков. Как скучно... На интерактивной доске шла какая-то мини-лекция на английском языке, который я всё ещё плохо знаю. Идиот.
Я не стал это слушать - просто лёг и ещё раз попробовал заснуть. Мне удалось задремать на несколько минут, но скоро занятие закончилось, я встал и снова был вынужден погрузиться в гнетущую пустоту коридоров.
Следующей парой была история отечественной журналистики, преподавал которую декан нашего большого гуманитарного факультета по имени Сергей Анатольевич Дашков. По образованию Дашков был филологом. Литературу он действительно очень любил. Поэтому он часто, встречая студентов в коридорах, читал им стихи и спрашивал, кто их написал. Тех, кто отвечал, он хвалил и торжественно жал им руку. Можно сказать, Дашков не был тем нудным деканом, который только и делает, что сидит за бумажками и награждает победителей олимпиад. Он мог подшутить над студентом, посмеяться над его шуткой или обсудить с ним какую-нибудь интересную тему. Конечно, его любили. Причем, все - от студенческой администрации до тех, кто её ненавидел. К тому же, Дашков не казался никому стариком. Ему было около пятидесяти лет. Выглядел он достаточно молодо, хоть на голове декана уже проступала седина. У Дашкова был средний рост, большая овальная голова, широкие плечи и пивной живот, который, однако, совсем не делал его толстяком. Лицо у Дашкова было совершенно не деканское. Большой лоб, плохо видные, серые брови, прямой длинный нос, как у Блока, маленькие, но юркие и полные жизни зелёные глаза.
В группе ждали, когда он будет вести у нас лекции. И вот, наконец, это случилось. Первая лекция была вводной. Дашков рассказал, что в этом семестре нам надо будет не только выучить материал и прочитать с десяток книг, но и самим написать несколько текстов, которые будут допуском к экзамену. Первым набором букв, который мы должны были сочинить на следующую лекцию, был репортаж. Надо было написать либо о какой-нибудь войне, либо о герое, находящемся в экзотической стране. В общем, задание совсем не сложное.
«Что-нибудь сочиню, - подумал я, - как настроение будет. У меня ещё много времени».
Затем Дашков закончил вводную часть и притупил к самой лекции. Речь шла о Ленине и его статьях. Меня всегда привлекала личность этого человека. И дело совсем не в революции, гражданской войне или в создании СССР. К Ленину как к политику у меня есть масса претензий. Он же разрушил тысячелетнее русское государство, чего вы хотите... Но Ленин меня привлекал как человек, как маленький, неказистый мужчинка, совсем не похожий на гиганта, который разрушил муравейник, уничтожил всех, решился стать злом, преодолеть свою ничтожность. Может быть, он и не был ничтожным человеком... Наверное... Но он был уродлив, он картавил, его отчислили из университета, он брал только мозгами, наглостью, злом. И он создал зло, из-за него погибло столько людей... Да, он гениальный разрушитель. Творец зла. Не такой, как, например, злодей-Сталин, а интеллигентный злодей, свой... Я говорил, что наивысшее счастье для такого человека, как я, стать злодеем? Да, в зле только и есть спасение от этих мук совести, от самоистязания, от пустоты. Ты просто начинаешь ненавидеть всех так же, как ненавидел себя, перестаёшь стыдиться, находишь смысл. Стоит только отдаться течению... Почему же я не могу?
Лекция продолжалась, я записывал слова в тетрадь, смотрел на презентацию, которая никак не заканчивалась. Вскоре нам стали говорить о «Несвоевременных мыслях» Горького, где он посмел выступить против советской власти... Надо же... Зато потом ему понравятся Соловки, да? Любой человек будет задавлен, любой покорится, будет кивать. Ради спокойной смерти. Ради блага наших детей, да? И к чему нужны эти идеологии, да? Зачем их защищать? Если главное - любовь, семья, дети, если это - смысл жизни. Или всё-таки смысл в другом? Не может же он быть в обыкновенном размножении, да?
Но вчера мама говорила мне обратное. Мы сидели и ужинали. Я сказал, что на выходных пойду в кино, и она спросила, с кем именно. Я ответил, что с Саней. Это был мой товарищ, ещё со школы. Высокий такой брюнет, грузный, большой, как медведь, студент-энергетик политехнического университета. Иногда мы с ним ходили в кино или за шаурмой. Наверное, это называется дружбой. А может, и нет. Вон, за каникулы мы вообще не виделись. Он играл в компьютер, а я сходил с ума. Да, так и живём.
В общем, на выходных мы с Саней собрались встретиться. Списались, договорились сходить выпить пива, поесть шаурмы и сходить в кино на вечерний сеанс - в 23 часа. В общем, всё сразу.
Я зря произнёс перед мамой это дурацкое словосочетание - вечерний сеанс. Стоило мне только сделать это, как она зацепилась за мои слова и задала уже давно надоевший мне вопрос:
- А почему у тебя всё ещё девочки нет? Было бы, с кем ходить на вечерние сеансы. А то всё с Саней да с Саней.
- С Аней, - усмехнулся я.
- Если бы... - вздохнула она.
- Ну вот так, - зажался я. - У меня не очень ладится с девушками. Я с ними даже не общаюсь, так... Иногда разговариваю.
- Ты хоть пытаешься кого-то найти? - бомбардировала она меня своими вопросами. - В твоём возрасте это нормально.
- Нет, не пытаюсь, - ответил я. - Да и не пытался никогда. У меня нет для этого навыков. Да и вообще я не приспособлен к общению с девушками. Они видят во мне скучного урода. Так что можно и не стараться.
- Интересно, как ты будешь искать себе жену?
- Жену... - протянул я. - Не знаю. Может, я вообще останусь без жены.
- Это как? - спросила она.
- Очень просто, - ответил я. - Буду жить один, ходить на работу, жить обычной унылой жизнью. Только без жены.
- Тогда ты будешь одинок, Федя, и смысла жизни у тебя не будет, - промолвила мама. - Какой же смысл жить без детей, жены и семьи. Ради чего просыпаться по утрам?
- Раньше я думал, что надо жить ради своего дела, - усмехнулся я. - Но дело ведь у всех разное, правильно, да и большинство людей ради него жить не смогут, потому что оно скучное и обычное. Какой смысл существовать ради работы на заводе? А ведь там работать кому-то надо. Смысл жизни ради удовольствия - это потребление, смысл жизни ради жизни - это абсурд. Ведь тогда у человека и какого-нибудь ленточного червя - один и тот же смысл. Получается, что смысл жизни - пустота, его вовсе нет. Да и какой смысл может быть в абсурдном мире, мам? Его нет. Тут что жизнь, что смерть... По сути, это всё одна и та же пустота, только в разной форме.
- Не говори так, а то мне за тебя страшно, - промолвила мама. - Ты вот иногда такие глупости городишь, что я потом спать не могу. Что у тебя на уме...
- Ничего, - бросил я. - Всё нормально. Я просто рассуждаю.
- Ну конечно, да... - вздохнула мама. - Я видела твои стихи в мусорке. Некоторые разворачивала, читала. Там такое написано, что можно прочитать и усомниться в твоём психическом здоровье.
- Там ничего серьёзного, мам. Поэтому они и в мусорке.
- Нет, там страшные вещи, в этих стихах, - с осторожностью в голосе сказала она. - Ты как будто очень несчастлив. Словно мы тебе не додали любви. Будто мы плохие родители.
Мне стало стыдно перед мамой. Действительно, чем она это заслужила? Она сама не очень счастлива, она устаёт на работе, и единственное, чего она хочет, - чтобы её сын был всем доволен. Но он в депрессии, у него часто случается бессонница, он сходит с ума, к нему приходит воображаемая фигуристка, он видит абсурдные сны, он мучается от любви к девочке, которой не нужен. Какой же бред... Я только создаю проблемы родителям. Являюсь обузой для них, ничем не могу их обрадовать. И ещё завожу такие разговоры...
- Всё нормально, - говорю я маме. - Я просто фантазёр, и всё.
- Я знаю, - сказала она, и на этом наш кухонный разговор вчерашним вечером закончился.
Мы часто вот так разговаривали с мамой. С отцом - никогда, но с мамой - бывало. Она была более чутким человеком, чем отец, хоть и росла в деревне и имела довольно простой характер. Иногда я рассказывал ей о себе то, что рассказывать не хотел. Ей можно было. Даже легче становилось после таких откровений. И никогда у нас разговор не заканчивался чем-то конкретным. Я не делал никаких выводов, а она только расстраивалась.
Мне было жалко маму. Почему ей достался я, а не нормальный сын, которым она бы гордилась? Она ведь заслужила такого сына. Она добрая, работает много, жизнь её потрепала. Ей надо радоваться, а я только её огорчаю.
Я снова не сделал выводов и ухожу. Всё как обычно.
Лекция закончилась раньше на десять минут. На улице уже потемнело. Но я не хотел идти домой. Предложил одногруппнику Роме сгонять поесть гамбургеров, он отказался - ему надо было идти на тренировку. Тоже мне, качок... Раньше, до одиннадцатого класса, я тоже ходил в зал, занимался спортом, чтобы нравиться девочкам. А потом забил. Всё равно, подумал, я никому никогда никому не понравлюсь. Да и никакого удовольствия мне это дело всё равно не приносило. Разве может быть приятно смотреть на сборище болванов и себялюбов, поднимающих тяжести.
Я позвонил ещё одному бывшему однокласснику, с которым до сих пор кое как общался. Его звали Дима. Он учился на филолога, был скромным интеллигентным молодым человеком, умным, деликатным и вежливым. Он совсем не матерился, по-джентельменски относился к девочкам, старался поступать правильно и в целом был хорошим, застенчивым человеком со своими комплексами. Выглядел он чуть лучше меня: коричневые волосы, в меру прыщавое лицо, маленький рост, не слишком худое, но и не слишком толстое тело. Взгляд у него был печальный, но без лишнего трагизма. Всё-таки он всё надеялся на что-то хорошее. Он не был таким мрачным занудой, как я. Дима мог смешно пошутить или подколоть кого угодно, он был весьма остроумен, а всё его уныние шло оттого, что он совсем не знал, что будет с его будущим, куда он пойдёт после филфака, где будет работать, и всё такое. Я тоже не знал, но пытался положить на это болт.
Я слышал гудки. Эту загадочную мелодию, в которой часто бывает перемешано столько разных, противоречивых чувств. Ту-ту-ту! Как мрачно... Дима, наконец, ответил на звонок.
- Я всё ещё в универе, - сказал он. - Но у меня ещё пара. Если ты подождёшь меня полтора часа, то мы можем сходить в бар, попить пива.
- В какой бар? В «KOROVA»?
- Ага, там сегодня какая-то кавер-группа играет, можно посидеть, послушать за сотку.
- Ну ладно, пойдёт, - сказал я. - Я тебя подожду. Как выйдешь с пары - позвони. Хорошо?
- Ладно, - согласился он.
Я решил пойти в штаб Дровосецкого и подождать Диму там. Не в университете же сидеть полтора часа... В это время в шараге даже читальный зал закрыт. А что? Штаб Дровосецкого был совсем близко, там давали чай и печенье, там могла быть Даша. Ты мы с ней могли встретиться с ней и поговорить. После встречи с Алисой общение с Дашей было бы - словно холодный душ после душного летнего дня.
Итак, я попрощался с одногруппниками и пошагал к штабу Дровосецкого.
Дошёл я минут за десять. Всего-то надо было пройти площадь с её огромным, холодным кольцом обозрения, пару переулков с рядами кафе и магазинчиков, украшенных притягательными, волшебными вывесками, которые, словно магниты, притягивали к себе внимание замёрзших людей.
В штабе горел свет. Там сидело много людей, так что когда я зашёл, меня даже не заметили. Вешалка накренилась от обилия курток, так что я решил не раздеваться - оставшись в верхней одежде, я снял шапку и шарф и засунул их в портфель.
Я оглянулся и быстро нашёл Дашу. Она, одетая в белую футболку с надписью «Дровосецкий», разговаривала с красивым, высоким и подкаченным мужчиной в розовой футболке, зауженных джинсах и тёмных очках. Ещё один модный тип. Тёмные очки, айфон, борода и причёска из барбершопа. По виду - типичный московский либерал. Ну а что в них плохого? Кажется, ничего.
Я поприветствовал её, и Даша, улыбнувшись моднику, подошла ко мне.
- Ого, какими судьбами! - воскликнула она. - Кумарин! Я никак не ожидала тебя здесь увидеть. Ты что, следишь за соц.сетями и решил посетить наш сегодняшний сбор?
- Нет, мне просто нечего делать, - сказал я. - Думал прийти сюда, чай попить. Ну или просто поговорить. А что у вас тут?
- Говорю же, сбор, - ответила Даша. - У нас проводятся такие пару раз в неделю. Чай, к сожалению, закончился... Ещё бы, народу столько пришло. Но, думаю, ты не расстроился. Можешь сесть куда-нибудь, послушать. Сегодня к нам сюда пришёл один интересный человек из либеральной среды города. Очень умный, кстати.
- Я рад, - иронично произнёс я.
- Прекрати! - махнула она рукой. - Человек правда интересный. Садись, послушай. Правда, со стульями проблема.
- Есть место на подоконнике, - сказал я, указав на окно. - Я сяду туда, хорошо?
- Ладно, садись, - согласилась Даша. - Подоконник не должен сломаться.
Я снял куртку, кинул её на подоконник и уселся сверху. Отлично. Даша снова куда-то убежала, а я сидел на подоконнике и смотрел на лица этих людей, которые пили чай, ели печенье и что-то друг другу доказывали.
Координатор штаба Ольга, высокая, длинноносая женщина, похожая на старуху Шапокляк, разговаривала по телефону, бросала взглядом из стороны в сторону, возмущалась, волновалась так сильно, что грызла ручку. «Наверное, беседовала с начальством», - подумал я. Вряд ли кто-то другой смог бы её так взволновать.
Знакомый мне косоглазый, большой, бритоголовый парень по имени Юра, которого здесь все знали и считали дурачком, беседовал со студентом-социологом Игнатом Журавлёвым, которого я уже представлял. Да, тем странным типом, который постоянно перекрашивал волосы то в красный, то в синий, то в фиолетовый цвет, заплетал их в косички, из-за чего выглядел, как обрыган.
Их разговор совсем не заинтересовал меня, поэтому я снова переключился на Дашу. Она принесла кофе человеку в чёрном пиджаке, джинсах и белой рубашке. Возраст - около тридцати, среднего роста, даже чуть выше, с жидкими коричневыми волосами, зачёсанными назад. Он сидел очень развязно, закинув ногу на ногу. Взгляд гордый и надменный, нос длинный и крючковатый, губы большие и толстые, щёки - впалые, темноватые. Они придавали ему какой-то болезненный вид. Словно он только выздоровел после тяжёлой болезни. Высоко подняв подбородок, он что-то усиленно объяснял какому-то худому студенту, который, широко раскрыв рот, выслушивал его, точно учителя. Говорил человек в пиджаке весьма торопливо, но всё-таки спокойно и уверенно. Голос его был громкий и чёткий. Даже находясь весьма далеко от них, я слышал обрывки их разговора, в котором речь шла об установлении диктатуры в России.
Вдруг ко мне подбежал Ваня и протянул свою маленькую руку, испачканную в крошках от печений. Но мне было пофиг на эти крошки, и я пожал ему руку.
- Привет! - почему-то волнуясь, воскликнул Ваня. - Я рад, что ты, наконец, примкнул к нашему движению. Ты будешь с нами бороться против жуликов и воров?
- Конечно, буду, - сказал я, - иначе бы я не пришёл.
- Значит, ты теперь бунтовщик?
- Ага, бунтовщик, - усмехнулся я.
- Значит, моя работа была не напрасной. - обрадовался он.- В наших рядах пополнение. Мы с тобой теперь однополчане, боремся за правое дело! Ты будешь как Бэтмен, а я - Робин.
- Ага, - сказал я. - Только какого-то из Робинов в комиксах убили. Так что лучше уж я буду Робином, а ты Бэтменом.
- Как хочешь! - воскликнул мальчик и сразу же убежал.
Вскоре все замолчали, и вечер в штабе начался. Нам представили гостя. Человека в пиджаке. Это был Пётр Мамонтов - местный либерал, член той же либеральной партии, что и Дровосецкий, и вроде как хороший его товарищ. Ему, разумеется, дали слово. Мамонтов поднялся со своего стула и начал произносить пламенную, восторженную речь.
Он начал с того, как важен для российской демократии каждый оппозиционный губернатор, сказал, что в некоторых регионах успех уже был достигнут, и здесь у нас, сторонников Дровосецкого, тоже есть шансы. Затем Мамонтов приводил цифры, говорил об отсталости нашего региона от соседних, о несовершенстве России, о том, что рейтинг власти стремительно падает, доверие населения к губернатору подорвано, и надо сопротивляться, пытаться выиграть выборы.
- Главное в нашем сопротивлении, - твердил Мамонтов, - образовать народ, дать понять людям, что нам нужна настоящая европейская демократия. Мы должны менять народ, рассказывать ему, как надо жить, убеждать его в правильности нашей позиции. Это очень трудно, признаю, но больше нам ничего не остаётся. Все проблемы России - от психологии её народа. Мы должны заменить русского европейцем! К сожалению, русский народ - раб! Это служивый народ, на протяжении всей своей истории он только и делал, что подчинялся господам. И сейчас подчиняется! Ему нужен царь, без царя русские не могут. Я это сам видел, когда был наблюдателем на последних президентских выборах. Все шли голосовать за царя! Раньше я верил в то, что сторонников власти не так много, как пишут официальные СМИ, думал, что выборы фальсифицируются, что люди не могут быть так глупы, что они не могут сознательно выбирать зло! Но потом я осознал, насколько ошибался! Сам русский человек и есть зло, его менталитет - это зло. Главная проблема России, не дающая ей развиваться как полноценное государство - это русский человек. Единственный способ превратить Россию в Европу - уничтожить русского человека. Нет, я говорю вовсе не про физическое уничтожение, а про культурное. Нужно образовать русского, заменить русского европейцем, и тогда, уверен, в России настанет Европа.
- Но ведь это связано с насилием, - оспорила его худая, длинноволосая барышня, сидящая в углу. - Как вы заставите русского стать нерусским?
- Да заставлять-то почти и не нужно, - усмехнулся Пётр. - Русский человек не будет роптать, если ему прикажешь. Русский человек верит пропаганде по телевизору. Он хочет быть европейцем, он пресмыкается перед европейцами. Русский народ преодолеет свою тягу к исключительности и обособленности, если ему сказать, что эта тяга ни к чему не ведёт. Эксперименты уже были, причём весьма удачные. При всей нелюбви к ужасному советскому строю, отрицающему человека, надо признать, что он почти смог уничтожить русского человека.
- Вы говорите о Сталине? - возмущённо спросил Игнат Журавлёв.
- Конечно нет, упаси Бог! - с ужасом в голосе воскликнул Мамонтов. - Я говорю не о Сталине, а о том, что русского человека почти заменили советским. У нас многие и сейчас себя советскими считают, выискивают в себе кровь мордвы, считают, насколько процентов они белорусы или украинцы. Русскость и сейчас уходит. Главное, не поддерживать её... Главное, подражать цивилизованным людям, делать всё так, как делают они. И тогда когда-нибудь мы обязательно станем ими!
- Но разве обыкновенное заимствование не вредно? - продолжал спорить Игнат. - А как же сувернитет, народ? Как же Достоевский, Пушкин, которые говорили о...
- А, вы про особый путь? - перебил Игната Мамонтов. - Вы насмотрелись телевизора, наслушались государственной пропаганды? Куда ведёт нас особый путь? В пропасть. Мы должны понять, что путь уже изобретён. Мы даже успешно шли по нему какое-то время! Мы перестали играть в великую державу, подружились с цивилизованными людьми! Мы отказались от этого имперского груза, который всё время душит Россию. Наши дети росли, как американцы. У нас появилась свобода. Россию перестали воспринимать как жандарма Европы, как тюрьму народов! Мы всех освободили! Мы стали свободными. Правда, на небольшой промежуток времени. Потом пришёл тиран и всё разрушил.
- Девяностые - это разорение русского народа, - зачем-то сказал я. - Это убийства русских в Чечне, гонения на них в азиатских республиках. Зачем вы ставите их в пример?
- Разорение русского народа ради спасения России, ради демократизации, это правильно! - заявил Пётр. - Ради благ нужно чем-то жертвовать... Это не такие уж и большие жертвы. Да, родилось мало русских, да слабые нищали и умирали, ну и что? Это демократия и свободное общество. В свободном обществе властвуют сильные, а слабые гибнут. Всё честно. Таков закон природы. В конечном итоге, сменятся поколения, женщины нарожают ещё граждан Российской Федерации. Посмотрите вон, как у кавказцев это легко идёт... Они, в отличие от русских, рожают по пять человек в семью. Да, демография бы восстановилась, пусть даже за счёт кавказцев, свобода бы дала нам рынок! Нормальный, правильный рынок, а не такое безобразие, как сейчас! Тиран пришёл и всё испортил. Он задушил свободу! А по поводу республик... Это не наше дело. Наша забота - это государство, и всё. Людям здесь, в России, не обязан никто помогать просто так.
- Если вы так относитесь к людям, то чем же вы отличаетесь от тирана? - спросил его я. - Разве это не то же, что «бабы ещё нарожают»?
- Нет, не то же, - решительно заявил он. - Я же не призываю убивать людей, я не провозглашаю насилие, нет. Я выступаю за свободу. Свобода даст гражданам России развитие, она даст им возможность не жить в нищете, она остановит все войны, которые ведёт наше государство. Мы извинимся за свою агрессию, за свою русскость! Мы признаем все свои грехи, признаем, что жили неправильно, перестанем участвовать в судьбах всего мира и займёмся, наконец, своей страной, своими людьми. Мы дадим им комфортное существование в прекрасной России будущего, открытой всем!
- Используя ваше методы, прекрасную Россию не построить, - усмехнулся я.
- Почему же?
- Потому что Россия без русского народа - это уже не Россия совсем, а чёрт знает что...
- Ха-ха-ха! - встал он со своего места и замахал руками. - Вы глупы, студент. Никакого русского народа-то и нет толком... Что такое народ? Я и какой-нибудь провластный мужик с большим пузом, водитель маршрутки, - представители одного народа, но что нас объединяет? Только язык. И город. Но в будущем всё это будет преодолено. Мы все будем разговаривать на английском, мы сотрём все границы, будем передвигаться по всему миру легко и без лишних проблем, из Москвы в Прагу, из Праги в Мадрид... Будущее за космополитизмом, студент. Люди будущего просто посмеются над вашими словами про русский народ. Какой, к чёрту народ? В этом народе все друг другу никто. Народ - это просто абстрактный образ, созданный, чтобы задурить нам мозги. А русскость - это заболевание, очень опасное для человечества, приносящее ему только вред, и никакой пользы. Русскость - значит воинственность, грубость, хамство, невежество. Но её можно вылечить правильным, хорошим воспитанием.
- Да это уже русофобия! - воскликнул я. - Государство не живёт без своего народа. Без русских России уже быть не может. Если вы хотите уничтожить русских, то вы хотите уничтожить и Россию. Следовательно, вы - враг России. А про глобализацию и космополитизм не говорите! Государства не разрушены, нации по-прежнему существуют. И они по-прежнему отличаются друг от друга, они имеют разные культуры. Объединить все нации в одну значить свести все культуры к одной, значит лишить мир многообразия.
- Да что вы? - усмехнулся Мамонтов. - А не все ли культуры уже объединены в одну?! Голливуд захватил мир. Все дети мира растут на человеке-пауке, правильно? И чем дальше - тем больше разные культуры будут превращаться в одну... Все маленькие реки сливаются в одну, и это нормально. И общая мировая культура может быть разнообразной и интересной. Просто у вас, студент, очень устаревшие взгляды на мир. Вы даже употребили это смешное слово «русофобия».Обычно его употребляют наши враги. Я думаю, наш ли вы вообще? Как вы оказались в этом штабе? Поддерживаете ли вы Дровосецкого? Может, вы засланный казачок, а? Если так, то это удивительно, потому как все мы тут уверены, что именно ваше поколение Z сделает Россию свободной. Ведь именно вы можете выходить на митинги, вы вроде как обладаете свободными взглядами, вы не боитесь действовать. Вы должны всё изменить. Но, как говорится, в семье не без урода.
- Не стоит переходить на личности, - осекла его Ольга. - Но одно вы, Пётр, спросили правильно. Действительно ли вы, Фёдор, поддерживаете Дровосецкого?
- Скажем, я согласен не со всем, - честно ответил я. - Но ведь Дровосецкий только кандидат в губернаторы. Он не собирается менять Россию. Этот человек только хочет улучшить город. По крайне мере, он так говорит.
- Но Дровосекий либерал, - подал голос косоглазый. - Он представитель партии, которая хочет изменить Россию.
- Насколько мне известно, Дровосецкий выдвигается не от партии, а как самовыдвиженец, - сказал я. - Значит, он сам не хочет, чтобы его ассоциировали с партией?
- Просто его партия не зарегистрирована, - сказал модный мужчина в тёмных очках. - Но там состоят лучшие люди страны. На данный момент это главная оппозиционная сила в России. И даю пари, что через несколько лет эти люди будут на первых ролях в государстве.
- Однако сейчас это не так, - возразил я. - Мне не очень интересна либеральная партия. Да и народ ей никогда не будет доверять. Он уже один раз поверил либералам, и они его обманули. К тому же, какой резон народу доверять людям из модных московских тусовок? Где он и где московский гламур?
- А почему же вам не интересна либеральная партия? - спросил меня Мамонтов. - Вы не считаете себя либералом?
- Нет, не считаю, - честно признался я. - К тому же, современный либерал не совсем либерал.
- Почему же? - обратился ко мне Игнат.
- Потому что современный либерал не ставит целью освобождение кого бы то ни было. Он не тревожится за людей. Только делает вид, но не тревожится по-настоящему. На самом деле он хочет той же самой власти, той же тирании. Только не чужой, а своей собственной. Он презирает чужое мнение, презирает все другие течения политический мысли, считая их глупыми. Либерал - противник всего, что выходит за рамки либерального. Либерал хочет, чтобы повсюду установился только либерализм, и соперничество шло только между либералами. По сути, либерал лишь говорит о демократии, но демократия ему не нужна.
- Как же не нужна? - встрепенулся модный. - Мы тут все настоящие демократы. Если вы обвиняете нас в том, что мы выступаем за какую-то неправильную демократию, то какая же правильная?
- Демократия, в которой уважалось бы мнение разных сторон, а не только вашей.
- Ты говоришь то, чего нет, - ухмыльнулся бородач, поправив свои тёмные очки. - Мы и так слушаем мнения разных сторон. Тебя в любом другом штабе давно бы прогнали, а тут дают высказаться.
- Да, именно поэтому я сейчас здесь, а не там, правильно? - сказал я. - И то... Вы уже несколько раз сказали, что я тупой. Я не обижаюсь, просто это факт.
- Никто вам такого не говорил! - воскликнула Ольга. - Просто мы хотим понять, кто вы, юноша! К какой идеологии или, быть может, партии вы принадлежите?
- Я - никто, и ни к какой партии не принадлежу. Вообще, я совсем не планировал вступать в это спор. Я считаю, что такие дискуссии - пустота.
- Зачем же тогда ты взялся спорить со мной? - спросил Пётр.
- Потому что вы начали говорить ерунду, - промолвил я. - Я не смог сдержаться. Вы начали оскорблять русский народ.
- Вы что, националист? - продолжил Пётр. - Если так волнуетесь за русский народ.
- Возможно, - улыбнулся я. - Какое это имеет значение?
- Если хотите, вы можете записать ваши мысли на бумаге и прочитать их нам... О русском народе, например. Мне интересно, что вы о нём думаете?
- Да, давайте проведём дебаты, - впервые подала голос Даша. - Тема интересная, горячая и участники уже есть.
- Я готов поучаствовать, - сказал Пётр. - Студент меня заинтриговал. Он, конечно, не наш, но мне интересно узнать, чей он.
- Ничей, - бросил я, но никто не хотел принимать этот пустой, бесконфликтный ответ.
- Такого не бывает, - ухмыльнулся Мамонтов. - Либо вы чей-то, либо бы вы просто тупой.
- Можете считать, что я тупой, - ухмыльнулся я. - Я не обижусь.
- Нет уж, я хочу вас выслушать, - настаивал он. - Вы придёте на дебаты?
- Я подумаю, - произнёс я. - И скажу о своём решении Даше. Она вам сообщит.
- Сообщу, - улыбнулась Даша, взяла меня под руку и, прихватив мою куртку, вывела из штаба.
- Я не ожидала от тебя такого! - восторженно сказала она. - Ничего себе, ты с ними сцепился... Причём, держался ты достойно.
- Я потерял контроль, - вздохнул я, чувствуя внутри тотальное чувство неловкости. - Прости.
- Да нет, всё хорошо, - подбодрила она меня. - Тебя вызвал на дебаты сам Пётр Мамонтов. Он у нас, в провинции, один из главных либералов. В Москве учился, в МГУ вроде. Правда, он, конечно, сильно радикален, но это вроде бы его фишка.
- Мне плевать, что меня вызвал какой-то мужик. Он неприятный тип. К тому же, он просто хочет выставить меня дураком. Ну или предателем. Мне, в общем-то, плевать , кем я буду в глазах его и всех этих людей, но... Чёрт, я вообще не понимаю, что здесь делаю.
- Всё нормально, Фёдор, чего ты... - улыбнулась она. - Неужели ты его боишься?
- Нет, - чётко ответил я. - Ты меня хочешь взять на слабо?
- Почему бы и не взять тебя на слабо? Просто мне так хочется посмотреть на ваше сражение.
- Я подумаю, - сказал я. - Может быть, от безделья и напишу какую-нибудь хрень. Буду осмеян, да и чёрт с ним.
- А откуда вообще всё это? - спросила она. - Я думала, ты не особо интересуешься политикой.
- Раньше интересовался, - объяснил я. - Дебатировал с друзьями, читал всякое, типа болел душой за Россию. Смешно, да? Так что считай, что ты увидела частичку меня из прошлого.
- А что случилось потом?
- Пустота, - отрезал я.
- Как у тебя всё грустно, Фёдор... - протянула она. - Будь веселее, ладно? Ты вроде умеешь шутить, у тебя есть чувство юмора. Но ты постоянно скатываешься в какую-то унылую яму...
- Главное, чтобы Дровосецкий не скатывался, - ответил я. - А то нам будет трудно его продвигать.
- Это уж точно, - согласилась она. - Ладно, мне пора идти. Я рада, что ты сегодня так неожиданно пришёл. Честно, я удивилась. Ты превратил это унылое сборище в настоящую словесную баталию. Это прикольно!
- Ну хоть что-то, - улыбнулся я её искренней и наивной радости.
- Ладно, до встречи, - сказала она и, отдав мне куртку, которая всё это время была в её руках, побежала обратно, в штаб.
Я посмотрел на часы. До встречи с Димой оставалось всего пять минут. Надо было поторопиться. Застегнув куртку и надев шапку, я рванул обратно, к университету. Мимо тех же неоновых вывесок, домов, похожих на большие серые печи, мимо площади с её старым и уродливым колесом обозрения.
Телефон в кармане уже звонил. Это как раз был Дима, интересующийся, где же я нахожусь. Я не брал трубку, потому что бежал к нему сквозь снег и холодный, зимний мрак. Вокруг было не так много людей... Это хорошо, потому я поскользнулся и грохнулся на жопу. Чёрт. Как глупо... Вот я неудачник, идиот. А если бы это увидела Алиса? Она бы смеялась надо мной, над тем, какой нелепый, дурацкий человек... Я медленно поднялся, отряхнулся... Растяпа. Как ты всё ещё умудряешься существовать? Как ты ещё не угодил под машину? Как ты собираешься жить? Кем ты собираешься стать? Что из тебя вырастет? Очередной неудачник...
Отряхнувшись, я снова побежал, вдыхая ржавый, холодный воздух. Как же это глупо - бежать по улице. Одно то, что я так часто бегаю, раскрывает во мне нездорового человека. Ведь все остальные просто ходят. Сколько бегунов ты видишь, Фёдор? Их нет. Один ты постоянно бегаешь.
Наконец, я добежал до университета. Дима вместе со своей девушкой Настей, скромной, низкорослой, молчаливой, но весьма симпатичной блондинкой, стояли в маленьком дворике прямо пред шарагой и мило обнимались. Я не знал, что мне делать. Подходить или ждать того момента, когда они перестанут обниматься? Чёрт его знает. Не хочется рушить чью-то романтическую идиллию. Я встал и устремил свой взгляд в небо. Зимой на нём совсем нет звёзд. Ночное небо без звёзд кажется таким пустым и пыльным, точно с листа бумаги стёрли простой, но гениальный рисунок. Надо было это исправить. У меня же зачем-то есть эта ненужная опухоль, мешающая жить, под названием воображение. И я могу им пользоваться. Я представил звёзды, нарисовал их на скомканном, чёрном листе бумаги. Маленькие белые круглешки - порталы в другие вселенные. Эти мёртвые, существующие лишь в моём воображении звёзды... Они вроде бы светят так тускло. Они так несчастны, потому что знают о своей иллюзорности... Но почему же они ослепляют меня?
Вдруг я услышал голос Димы, вернувший меня в реальность:
- Эй, Фёдор! - воскликнул Дима. - Ты там чего?
Я подошёл к ним и поздоровался за руку с Димой и Настей. Настя улыбнулась мне и что-то прошептала Диме на ухо. Она часто так делала. Стеснялась меня. Я ей казался циничным, грубоватым чуваком, который может над всем посмеяться, при котором лучше не говорить ничего лишнего или грубого. Я и правда старался таким быть. Я хотел таким быть. Ходить и посылать их всех в жопу. Быть сильным.
Мы решили съесть по шаурме. Настя пошла вместе с нами. Впрочем, мне было без разницы. Я её не стеснялся. Только она меня. Правда, при ней я не хотел говорить об Алисе. Не знаю, почему, но я не желал, чтобы о ней все знали. Особенно девушки. Любые, пусть даже самые нормальные, как Настя. Поэтому надо было ждать, когда подружка Димы уйдёт. Пока же можно было бросать на воздух идиотские шутки, говорить о кино, прочитанных за последнее время книгах. Дима сказал, что, наконец, осилил «Петербург» Белого, а я поведал ему, что взялся за Лимонова. Впрочем, ему мой рассказ о Лимонове не понравился. Слишком уж много пошлости. Дима такое не любил. Он выступал за чистую красоту. Вообще, Дима - это, скорее, персонаж конца девятнадцатого-начала двадцатого века, чем нашего времени. Он всё эстетизировал, видел красоту в античной статуе, а не в грязной хрущевке, как я. Наверное, в отношении к красоте и к искусству мы были полными противоположностями. Но какая разница? Мы просто являлись двумя бестолковыми идиотами. Только Дима, конечно, был чуть лучше меня. Он ещё не потерял веру в жизнь, он ещё ждал от неё чего-то, к чему-то стремился. Это заслуживало уважения.
Перед тем, как пойти в шаурмичную, мы забежали в магазин и купили воды за четырнадцать рублей. Всё как обычно. Правда, Дима ещё и взял своей девочке гранатового сока. Правильно. Она у тебя красивая, Дим, хорошая, не надо, чтобы она пила эту дешевую, парашную воду.
Вскоре мы добрались и до шаурмичной - светлой, просторной, тёплой. Здесь было малолюдно. Основной наплыв посетителей прошёл, и теперь оставались только случайно зашедшие сюда парочки, компании друзей да одинокие бродяги с серыми, безжизненными лицами. Мы расположились за большим столиком, который стоял прямо по центру, и заказали себе по жирной, средней шавухе. Точнее, я и Дима заказали себе по жирной, средней шавухе. Настя взяла себе маленькую, вегетарианскую шаурму. Правильно. Она у тебя красивая, Дим, хорошая, тонкая, только не надо, чтобы она ела трупы, да? Не надо, чтобы она запихивала эти жирные куски мяса себе в рот... Мы будем их запихивать себе в рот, хорошо? Мы будем есть трупы, которые оживут у нас внутри. Это вкусно. Это прекрасно. Трупы оживут, и внутри у нас будет целый зверинец. У нас будут питомцы... С ними будет не так одиноко, да? Хотя ты и так совсем не одинок. Ты, как это называется, в рабстве любви, да? Зато я свободен, да... Только свобода и подразумевает постоянное одиночество.
Мы поели, вытерли рты салфетками, помыли руки и отправились в путь. Дошли с Настей до остановки, дождались её автобуса. Дима поцеловал её напоследок, обнял. Я пожал ей руку. После всех церемоний прощания, Настя села в автобус и уехала, растворилась в ночи.
Мы остались с Димой наедине. Он спросил, как дела в университете, как прошли каникулы, и я рассказал ему всё. Об Алисе, о растущем с каждым днём чувстве к ней, о тех эмоциях, которые она у меня вызвала. Дима слушал и лишь редко что-то спрашивал. Я рассказал, о том, что испытываю, когда вижу её, поведал о сегодняшнем разговоре, о телефонной беседе, обо всём, что было...
Наша беседа прервалась лишь когда мы вошли в бар. Точнее, это был не бар, а ирландский паб с флагами, футбольными шарфами и футболками, с маленькой сценой и высокими столиками и стульями.
На столах - надписи «стол наказан» вместо привычного «стол заказан». Прикольно.
Мы купили билеты на концерт какой-то кавер-группы и взяли себе по пиву. Дима купил себе на пробу дорогого пива, а я взял самое обычное, дешевое. Лишь бы хоть немного расслабиться.
Когда мы уселись за столики, он произнёс:
- Ну, на твоём месте я бы её куда-нибудь позвал. Ты думаешь об этом?
- Думаю, - сказал я. - Да, я предложу ей встретится в конце недели, на выходных. Если мы не встретимся, не поговорим вживую, я, кажется, умру.
- Ну не преувеличивай, - усмехнулся Дима.
- Нет, правда, - сказал я. - Я столько всего напридумывал. Я построил образ, понимаешь? Он должен столкнуться с реальностью и растаять. Тогда всё будет нормально. Но если мы не встретимся наедине, не поговорим, то он так и будет расти в моей голове, он сведёт меня с ума.
- Почему он должен именно растаять? - спросил Дима. - Может, образ подтвердится?
- Тогда всё будет очень плохо, - произнёс я.
- Почему? - спросил Дима.
- Потому что мне будет больно, - ответил я.
- А если у тебя всё с ней получится?- допустил Дима. - Ты позовёшь её погулять, вы поговорите. Не так, как прежде, а нормально поговорите. Мне кажется, она открыта пред тобой.
- Да, открыта, - согласился я. - Просто я не знаю... В последние дни она отстранялась от меня. Сначала не брала трубку, потом сказала, что у неё тест, а наш сегодняшний разговор в коридоре был настолько нелепым, что мне за него стыдно. К тому же, этот Артур... Я не знаю, что у них происходит. Знаю только, что они провели вместе ночь, а потом... Может быть, они и не стали встречаться. Никаких фотографий ни у него, ни у неё я не видел.
- Так, может, ты во всём ошибаешься, - сказал Дима. - Они точно спали?
- Да, точно, - ответил я. - Она мне лично об этом рассказывала. Говорила, как он делал ей кунилингус. Но тогда мне было всё равно. Тогда я её не любил, я только влюблялся. Это сейчас... Боже, а ведь на его месте мог быть я, Дим. Во время нашей первой встречи, когда я уходил, она предложила поехать вместе на такси. Мне надо было согласится, а я отказался. Она почувствовала, что не нужна мне, понимаешь? Но это было не так. Я просто не хотел быть слабым. Я не хотел быть собой. Жалким, ни на что не способным человеком.
- Мне кажется, ты зря принижаешь себя, Федя, - сказал Дима. - Всё будет нормально. Мне кажется, у тебя есть шанс.
- Если бы ты слышал, что я наговорил ей тогда... Господи, такую хрень... Я рассуждал на какие-то идиотские темы, пытался втирать ей о Боге, поколении. Философ, блин. Я отпугнул её. Я всех отпугиваю. Она много раз намекала мне, что я несу всякую чушь. Но я игнорировал, вытрёпывался, делая вид, что мне наплевать... У меня это иногда хорошо получается. Делать вид, что мне на всё наплевать. Если я бы ещё внутри был таким, то всё было бы хорошо. Но нет. Я теперь виню себя за каждую фразу, сказанную ей. Я нёс такое... Про понос, про пустоту, про то, что она похожа на фигуристку из телевизора. Чёрт... Я даже её шлюхой назвал. Мне кажется, она обиделась. Ведь нельзя называть девочек шлюхами. Да и она не шлюха, совсем нет... Она ангел, спустившийся в ад по собственной воле, чтобы дать людям свет. А я обозвал её шлюхой. Меня за такое надо убить, Дим.
- Но ты же потом извинился? - спросил он.
- Нет, я не извинился, - со стыдом ответил я.
- Это ты зря... - разочарованно вздохнул Дима. - Но вы же продолжили говорить да и потом ещё попрощались нормально?
- Да, она сказала, что мы ещё встретимся.
- Значит, встретитесь, - обнадёжил меня Дима. - Ты же этого хочешь, вот и предложи ей встретиться. Может, ей уже надоело делать первые шаги навстречу тебе, и она просто ждёт, когда ты соберешься и окажешь ей хоть какое-то внимание. Может, она просто думает, что не очень интересна тебе, и поэтому отстраняется. Так что позови её куда-нибудь, сделай ей парочку комплиментов, покажи своё желание общаться. И извинись за те слова, что ты сказал ей раньше. Глядишь, вы сойдетесь. Потому что мне кажется, ты ей симпотичен. И не делай глупостей, не включай этого циничного, безразличного Федора. Покажи ей другую сторону. Покажи, что ты не тот человек, которого она в тебе увидела. Начни уже что-нибудь делать! Может, это заставит тебя выбраться из своего футляра, начать меняться. Попробуй приложить усилия. Тебе же этого хочется!
- Чего хочется? - спросил я.
- Чего-то нового, - ответил Дима.
- Да, конечно, - согласился я. - Но мне трудно меняться. Я не могу делать это на пустом месте. Пустота, знаешь... Она затягивает в себя всё. Любое желание, любую потребность. Может быть, любовь - исключение. Может быть, любовь сильнее пустоты, и она сможет её победить. Пустота не затягивает в себя любовь. Любовь словно не помещается в чёрную дыру, и дыра её отвергает.
- Мне кажется, ты всё усложняешь, - сказал Дима. - Только при встрече с ней не говори про эту пустоту. Ты кажешься психом, когда начинаешь трепаться о ней.
- Я знаю, - кивнул я. - И я правда пытаюсь никому о ней не рассказывать. Не засорять никому мозги, но она повсюду, и любой разговор обо мне сводится к пустоте. Может, это потому что я и есть - пустота? Мне уже почти двадцать лет, а в моей жизни ничего не происходит. Совсем. Я живу в атмосфере пустоты. И я совсем не знаю, почему всё так. Я не знаю, где я ошибаюсь, не понимаю, почему я всем неприятен, почему я совершенно никому, кроме собственных родителей, не нужен. Я хочу чего-то нового, я пытаюсь что-то делать для другой жизни, но все мои попытки подрубаются на корню. В итоге я всегда оказываюсь в ещё большей яме, чем был прежде. Это всё - такая бездна, из которой не выбраться. У всех них... У всех этих людей что-то происходит, они взрослеют, получают опыт. Им есть, что рассказать. У меня же нет ничего. Одни стены комнаты. Я ни с кем не знакомлюсь, я словно призрак, слоняющийся по пустым закоулкам пустого города, пустой страны. И мне кажется, что поэтому я и не могу поддерживать с людьми нормальный, обычный разговор. Ведь обычный разговор может быть лишь об обычных вещах, ситуациях, случаях, которые происходят в жизни. А как быть, если ничего не происходит? О чём говорить? О бессоннице или о безумных снах, которые я стал всё чаще видеть? О сумасшествии? Не знаю.
- А что у них происходит? - спросил Дима. - Ну, у людей.
- Они попадают в какие-то ситуации, они говорят друг с другом, пьют, знакомятся, целуются, любят друг друга. Они путешествуют, хорошо проводят время... Я не знаю. Мне кажется, что моя жизнь - это нелепая пародия на настоящую жизнь, а моя любовь, которая иногда бывает у меня, - это нелепая пародия на настоящую любовь. Я, может тоже люблю, но моя любовь - это, скорее, наивная мечта о любви, но не сама любовь, понимаешь?
- Понимаю, - ответил Дима.
- Просто я думаю вот о чём... - продолжал я. - Может, я не смог написать хороший роман как раз потому, что у меня ничего не происходит, а? Ведь я могу писать только о пустоте. Разве можно написать роман о пустоте? Разве роман о пустоте не должен содержать просто пустых страниц и ничего больше, как ты думаешь? Остаётся только воображать, описывать сны. Но сны - это же так приторно, так утомительно, согласись. Описывать одни только сны. Да и зачем описывать сны? Ведь они всегда забываются и оставляют после себя лишь пустоту.
- Ты слишком торопишься с выводами по поводу своего романа, - промолвил Дима. - Ещё не прошёл год с тех пор, как ты его отправил.
- Прошло восемь месяцев, чувак. Пора бы уже забыть. Да и он такой херовый. Не понимаю... Когда я его читал, мне казалось, что всё хорошо. Но где-то полтора месяца назад я сел и стал перечитывать... Чёрт, мне было так стыдно. Как я мог написать так плохо? Я не знаю. Словно писал не я, а какой-то мой двойник. Чёрт, мне так стыдно... За потраченное время, за всё... Мне кажется, что всё без толку, и мне страшно, потому что эта взрослая жизнь так близко, и от неё нигде не спрятаться. Она прёт на меня, словно огромный левиафан, а я смотрю и ничего не могу поделать.
- И я тоже, - признался Дима. - Ты планируешь поступать на магистратуру?
- Да. Только не спрашивай, куда. Я не знаю. Но бросать учиться я не планирую. Когда ты учишься, кажется, что основная жизнь только впереди. Я хочу сохранять эту иллюзию как можно дольше.
- Да, правильно, - согласился со мной Дима. - Пока ты учишься, у тебя хотя бы есть какой-то статус. Это важно - иметь какой-нибудь статус.
Я согласился, и наш разговор забуксовал, потому что музыканты закончили с саундчеком и начали играть. Они пели песни «Radiohead». Какой-то пацан с зелёными волосами пытался подражать Тому Йорку. Получалось у него не сказать, чтобы очень плохо, но и не хорошо. Как-то средне. Ну и ладно. Сейчас они пели знаменитый сингл «Creep», который я знал наизусть.
«But I'm a creep, I'm a weirdo,
What the hell am I doing here?
I don't belong here.
I don't belong here».
Как это знакомо.
Впервые я услышал «Radiohead» классе в седьмом. Тогда мне казалось, что они поют обо мне. И сейчас кажется. Неужели я совсем не меняюсь? Правда, сейчас я редко их слушаю. Почему? Потому что в них совсем нет злости. А самого себя мне и так хватает. Зачем мне видеть его в песнях... Там не к чему стремиться.
Другая песня. «Talk Show Host»
«I want to, I want to be someone else or I'll explode
Floating upon the surface for
The birds, the birds, the birds.
Снова знакомо. «I want to be someone else...» Всё-таки раньше это всё было куда ближе.
Концерт длился часа два. За это время я ходил в туалет раз пять. Пиву надо было куда-то вырваться. К тому же, от шаурмы у меня немного болел живот. Не так сильно, чтобы помешать мне слушать музыку, но всё же это не позволяло мне полностью расслабиться. Так что я сидел и думал, прыгал с одной мысли на другую, как во время очередной бессонницы.
Песня за песней, которые напоминали мне о школе, о тех чувствах, которые я испытывал, о тех двух девочках, которых я любил, о людях, которых почему-то считал друзьями. С«Radiohead» меня познакомил мой друг Юрий Денисов. О нём уже шла речь. Так что когда я слушаю Тома Йорка, то вспоминаю и о существовании Юры, о том, как мы говорили о девочках и об искусстве. Он сумел вырваться, уехать в Петербург, поступить в хороший вуз, смог собрать группу, начать делать хорошую музыку. Он видится с Полиной, дружит с ней, общается с какими-то людьми, играет в клубах, а я сижу здесь, в сибирской глуши, учусь чёрт знает где, разочарованный в собственных способностях, опустошённый, захваченный ленью, без цели в жизни.
You run to the back and you call on your knees,
But it's the loudest sound you've ever heard,
And are we trapped like dark cloud's people,
We are helpless to resist
In our darkest hour.
Ладно, фиг с ним, с Юрой. Мы уже почти не дружим. Иногда переписываемся. Там он рассказывает о том, что у него происходит. Ладно. О себе я ничего не рассказываю, да ему и не интересно. Ведь у меня НИЧЕГО не происходит. Одна пустота.
Музыканты доигрывали последние песни. Сидящая за соседним столиком парочка начала целоваться. Симпатичная девушка-блондинка и парень - бородатый, высокий, короткостриженный хипстер в клетчатой красно-чёрной рубашке. Типичный красавчик.
Концерт скоро закончился. Люди хлопали. Четыре пустых бокала пива было на столе. Мы приятно провели время. Мне даже выпивка понравилась. А Дима пожалел, что сперва взял бокал такого дорогого, но не самого вкусного пива, и поэтому во второй раз он купил то же, что и я. Дешево и сердито.
Мы вышли на улицу, вызвали такси и поехали по домам. В машине Дима сказал мне, чтобы я поменьше парился насчёт себя и всего остального. Он всегда так говорил. Ещё Дима напомнил мне о том, чтобы я позвал куда-нибудь Алису. Я пообещал, что позову, и пожал ему руку. Дима вышел из машины, а мы с таксистом поехали дальше - в тёмную зимнюю пустоту.