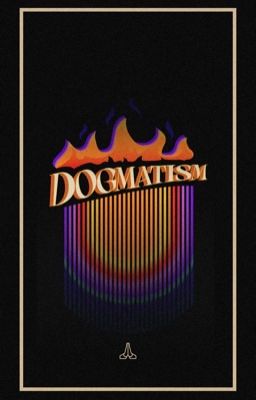11: Приют юных потрясений
Пс 26:5 В день беды Он даст мне приют в Своем жилище,
скроет меня под пологом Своего шатра,
вознесет меня на скалу.
Картинка дергается, зернится, едва волнуется, расходится плавными линиями, сдвигается затем куда-то вбок: Хосок нажимает на кнопочку, и изображение приближается. Лицо его заинтересованно скошено, пока он вглядывается в видоискатель увесистой камеры и видит в окошке лицо Йонг.
Девушка почти равнодушно листает очередной журнал, вчитываясь в маленькие буковки:
— Ты ведь знаешь, что запись не идет, верно? — она не смотрит на него, продолжая читать.
— Да, но мне... и так интересно, — он переводит камеру на комнату, проходится по ней взглядом, — чего только люди не придумают, да? Видеокамеры... и потом можно смотреть по телевизору все, что я наснимал?
— Ты восторжен почти как мой отец! — слабо улыбается, — он охотится за всеми этими новыми штуковинами, а я в них ни черта не понимаю... Это уже старенькая камера, сейчас уже столько моделей повыпускали, — пожимает плечиками, — он отдал ее мне зачем-то, а она мне и даром не нужна...
— Да разве ж это — не круто? — приподнимает бровки, убирает видеоискатель от себя, — можно заснять любой момент жизни и потом пересматривать его! Вспоминать! Это как живые фотографии, — плюхается рядом на кровать, продолжая рассматривать аппарат, — запечатлеть важный момент жизни... и...
— И... что? — она отодвигает от себя чтиво, переворачиваясь на спину, чуть ловя пальцы Хосока, — в этом не так много смысла... предаваться воспоминания и подкармливать свое чувство ностальгии... Странно это, когда можно жить здесь и сейчас.
— А что если здесь и сейчас уже нет того, что было в прошлом? — он улыбается, чуть покачивая головой, — не хотела бы ты посмотреть сейчас, как играешься со своей сестрой, когда была совсем малюткой? Или увидеть собаку, которая была у вас в детстве?
— Какая-то фантастика, — почти фыркает, — как путешествия во времени? Но... — пожимает плечами, — никакого в этом смысла, ведь зачастую... грустно становится, разве нет? Тоска по времени, которое не можешь вернуть, по вещам, которых больше нет. Что... что если... — она приподнимается на кровати, пересаживается на колени и пододвигается к Чону.
Совсем немного, но Хосок чувствует тепло ее тела, чувствует слабый запах цветочных духов и это почему-то так сильно поддевает его, заставляет выпрямиться и вдруг начать прислушиваться к собственному сердцебиению.
Возможно, он еще не вполне привык к... ней. Особенно, когда они наедине.
Особенно, когда она... так близко.
— Что, если скажем, — продолжает она, перехватывая камеру и забирая ее из рук хориста, — через много... много лет случится так, что мы будем порознь? Я захочу увидеть тебя, — она подносит камеру к лицу, наводит на Хосока, — поставлю кассету в видик и увижу тебя: молодого, веселого, с улыбкой на лице. А тебя рядом... не будет. Я же буду грустить? И ничего, кроме грусти не испытаю... Зачем мне эта тоска?
— Ну... не знаю, — мнется он, едва отодвигаясь от Йонг, но она продолжает напирать, — просто... здорово это, что у нас такие навороченные технологии и все такое...
— Наверное, — ухмыляется младшая Мун, откладывая камеру на кровать, — но я предпочитаю... жить здесь и сейчас без мыслей о прошлом или будущем.
Она застывает рядом с лицом Хосока, и он какое-то время смотрит на ее лицо, на губы, видит в глазах игривый, озорной огонек, который его почему-то пугает и скорее настораживает.И ему совсем не хочется приближаться — это как-то страшно, волнительно, настолько ново и необычно, что выбивает из кружка спокойствия, очерченного мелком уже привычных действий.
— Ну... чего ты? — дыхание девушки аккуратно ложится на его губы, и он робеет пуще прежнего: к поцелуям он привык, но сейчас Йонг... какая-то другая. — Поцелуй меня, Чон Хосок, — приближается еще чуть ближе, опуская брови, понижая голос.
Он застывает в нерешимости на пару секунд, потому что понимает, что не очень-то этого хочет, понимает, что... как-то в этот раз все по-другому. Ее хитрые глазки сверкают в лучах закатного солнца, но от них не становится теплее.
Только страшнее, потому что там... там, за поцелуями, за тем, что следует после них, он не был...
Но губы льнут к чужим губам, и их дыхание сцепляется вместе; тело как-будто сразу твердеет, онемевает, а руки, прижатые к ногам, бьет током — поднять их, дотронуться до Йонг — по-другому дотронуться до Йонг — не представляется возможным. Девушка начинает напирать, и он с удивлением обнаруживает то, как она прижимается к нему своей небольшой грудью — он чувствует ее на себе — потом обнаруживает, как она обхватывает его руками, обнимая, как медленно-медленно... наклоняется ниже к подушкам на кровати, укладывая его самого на спину.
И, наконец, Хосок отрывает кисти от своих же ног, но не для того, чтобы приобнять девушку — опереться о них сзади, чтобы окончательно не лечь, не дать себя уложить, потому что... потому что...
Так волнительно и тошно, что он почти перестает отвечать на сладкие влажные прикосновения губ, только лишь судорожно размышляет, как ему это все прекратить.
Да, он пообещал себе, что будет сильным, но... но когда дело касается девчонок...
— Да что ты? — она почти недовольно отрывается от него, кладет руку на плечо, надувает губки.
— Я...я... — сглатывает, а взгляд штырем приковывается к полу, чувствует, как горят щеки.
— Да все этим занимаются, — недовольно гримасничает, отодвигаясь, — я... я и сама не пробовала, но... мне рассказывали, что... — Йонг густо краснеет, сглатывая, — все мои знакомые уже... а я...
Хосоку отчего-то так невыносимо стыдно, что хочется вывернуть самого себя наизнанку и выбросить из себя все собравшиеся там буковки смущения, слова непонимания и нежелания: конечно, он думал об этом, он знает, откуда берутся дети и знает, чем взрослые занимаются по ночам...
Но то взрослые...
Да и никто и никогда ему не говорил, что и как делать, что вообще происходит...
Тошно, тошно, тошно!
— В этом ничего такого, — продолжает размышлять Мун Йонг, — все говорят, что это приятно... А вся эта девичья честь, до свадьбы ни-ни — прошлый век, — закатывает глаза, — только маме моей не говори... Убьет на месте! Но ведь, если всем это так нравится, значит есть, за что, да? — поднимает глаза, — Хонг и Чанвук... они...ведь...
Он сейчас потеряет сознание: парень с парнем... как же это? Как же это так?
— Даже Ёнджи...! Ну, конечно, Ёнджи...! — сереет, — они с Юнги раньше часто...
— Боже правый, это... это не мое дело, — тяжко-тяжко дышит, выдыхая, перебивая — сейчас ему вообще ничего не хочется, вообще... только поскорее уйти, потому что все это — слишком для него.
И представить Юнги с кем-то... Он пытается убедить себя, что это нормально для людей их возраста, он пытается доказать себе, что в этом правда ничего такого, но он совсем-совсем не может перенять это на себя, принять для себя, свыкнуться с этими мыслями и примерить на свою оболочку.
То, как люди это делают... нет, немыслимо, он не будет заниматься таким как можно дольше!
— Но ты ведь мой парень, — она берет Хосока за руку, — а я твоя девушка... мы должны таким заниматься. Разве ты... не чувствуешь... ничего? Ну... — отводит глаза, чуть-чуть жует губу, — ну, когда мы целуемся? — сплетает нервно пальчики, — когда я тебя... об...обнимаю... трогаю?
— Что? Что... что я должен чувствовать? — он теряется, но все же понимает, к чему она клонит.
Просто зачем-то делает вид, что... никогда-никогда не чувствовал жжение внизу, не чувствовал, как там все напрягается и наливается кровью, как будто ни разу не просыпался с настойчивым колючим чувством между ног, как будто ни разу... ни разу...
Не трогал себя.
Но все это так грязно, так порочно, так... нечисто, что он предпочитает не соотносить себя с этим.
— Ну... парням... обычно нравится, когда... — у Хосока внутри все закипает, потому что он чувствует руку Йонг на своей ляжке, — их... трогают.
Чувствует, как она медленно введет наверх, к его... к его...
— Йонг! — подрывается как ошпаренный, рыская по комнате взглядом в поисках своей куртки, — мне... мне уже пора! Я... мне пора, я ведь ненадолго заходил! — тараторит, быстро-быстро собираясь, — я ведь... переезжаю сегодня в приют школы, мне нужно побыстрее с этим закончить, понимаешь... совсем забыл, меня же ждут! — он слепляет слова меж собой так неотличимо смято, что сам не различает слова, которые произносит.
— Мы теперь только на выходных будем видеться? — грустнеет девушка, оставаясь сидеть на кровати.
— Ага... — быстро подходит к двери, — ну... я... пошел?
***
— Ну вот, — Сокджин открывает дверь перед Хосоком, пропуская его в небольшую спальню, которая когда-то была кельей монахов.
Низкие потолки, крохотное окно посередине каменной стены, две хлюпенькие низкие кровати у стен справа и слева: комната почти ничем не отличается от той, в которой Хосок распивал кровь Христа после выступления с леди Мун.
— Будешь жить с Тэхёном, — заходит внутрь парень, показывая комнатку, глядя на взволнованного хориста с казенным постельным бельем в руках.
— Он что, все это время жил один? Вот он, наверное, мне обрадовался, — кладет белье на свободную кровать — ту, что слева.
— Ох, а ты-то как обрадуешься, — хихикает Ким, прислоняясь к узкому деревянному столику, придвинутому к стене меж кроватей.
— В смысле? — парень быстро оглядывает свое новое местечко: уставшая перьевая подушка с пятнами на ней, захудалый грязный матрац, выцветшая стенка и скромное распятье у изголовья... что ж.
— Грянет ночь, и ты поймешь, почему он жил все время один, — смеется, — в общем, располагайся, скоро ужин, общий душ, ночная молитва, отбой...
— Общий... — заикается, — общий душ?
— Ага, раз в неделю, — буднично замечает он, разглядывая ногти, — ох, надеюсь, в этот раз горячую воду дадут, а то я себе чуть... ну, неважно, что я себе чуть не отморозил в прошлый раз, — он привстает, поправляя очки на носу, — если какие-то вопросы возникнут, моя комната дальше по коридору слева, но если честно, я тебя там не жду, свои дела есть, — ядовито хихикает.
— А... Юнги уже освободился? — быстро поднимает взволнованный взгляд, ведь почему-то... почему-то ему так не терпится увидеться с Юнги.
— Да хуй его знает, — пожимает плечами, — последнюю неделю Доебук к нему знатно приебался, постоянно задерживает после занятий.
— Но почему?
— Не ебу, честно, — Сокджин подходит к выходу из комнаты, — но знаешь, каким принципом мы тут руководствуемся? Если Доебук доебывается не до тебя — радуйся и не пытайся сделать так, чтоб он приебался к тебе, — смеется, — не взлюбил он почему-то нашего Мина.
— Правда?
Хосок задумывается... как же тогда Юнги удалось договориться с ним, чтобы все это устроить? Не связаны ли между собой визиты к пастору и его счастливая возможность съехать от отца подальше...? Все это так... странно.
Эхо мужских голосов воспоминанием запрыгивает в черепную коробку, прокручивает в голове картинки долгого-долгого ожидания перед закрытой темной дверью в холле школы; нейронные связи передают и воспроизводят длинный разговор, в котором он не услышал ровным счетом ничего — только тугой приглушенный бубнеж и изредка повышающийся голос отца.
Фантомно он ощущает сердцебиение того момента: взъерошенное, робкое, щекотное.
И вспоминает потом, как пастор и отец выходят вместе улыбаясь, видит кадр того, как Дондук похлопывает по плечу этого выродка, которому хотелось выбить все зубы, а потом вдруг... слышит, как отец говорит ему, что теперь он будет жить в школе.
И чувствует на себе пронзительный и почему-то тягучий взгляд Хён Дондука, что довольно складывает ручки в замок и ухмыляется...
— Правда-хуярда, — пшикает Сокджин, открывая дверь, — чет я запизделся с тобой, давай, малой, осваивайся, — хихикает, — приготовь свои самые красивые трусики для душевой.
Чон вздыхает: не день, а одна большая причина выблевать волнение и смущение.
***
Он, наверное, в самом деле никогда не сможет пошевелиться, убрать от груди полотенце и пройти внутрь, к душевым.
Они все... все здесь голые — и сам он до невозможности обнажен, в чем мать родила...
Нет, ну где это видано! Общие душевые нужно отменить раз и навсегда...! Совместные принятия душа — это все равно, что первородный грех, преступление против Человека...!
Нет, он и ноги не сдвинет ближе к душевым, где сейчас полно безобразно голых юношей; глаза некуда пристроить, и он лишь смиренно поднимает их к потолку, почти что читая молитву: «Господи, ну за что, почему ты обрекаешь меня на муки!»
Как же невозможно стыдно от своего же тела и от тел других... Даже на ум ничего из Библии не приходит: не к чему привязать свое сосущее чувство неуверенности и неловкости; решает только, что скорее всего, больше никогда в жизни не будет мыться...
Срам, срам, срам...
Его вдруг так больно колет по заду, что он почти подрывается с места, скользит по мокрому полу, едва ли не падая, расцепляя руки перед собой, которыми стыдливо прикрывался — Чонгук смеется позади, опять скручивая свое полотенце и целясь в его ягодицу:
— Чего стоишь истуканом? — смеется, — небось как Ной, который увидел Великий Потоп, — хихикает громче, — давай быстрее, пока вода горячая есть...!
Господи Боже... ну почему... почему он вынужден показывать свое тело кому-то другому, это же его тело, это же его нагота, его неприкосновенность...
Ладно... он же решил для себя, что будет сильным?
Парень бросает полотенце на скамью, быстро юркает под воду, которая идет здесь непрерывным потоком.
Душевая не слишком большая — лейки располагаются у стен вдоль зала: шесть кранов по правую руку шесть, шесть по левую... и совсем, совсем нет... стенок, перегородок, хоть чего-то, что могло бы скрыть, хотя бы какой-никакой занавески, ни-че-го.
Он принимается суматошно намыливать себя, решая, что чем быстрее это закончится, тем лучше для всех: смотреть ровно перед собой, никого не разглядывать, прикрываться так, как только позволяют обстоятельства, попытаться скрыть свое стыдное смущение, напавшее на него румянцем в плотном горячем паре небольшого помещения.
Эхом звенит мальчишеский смех и их возбужденные голоса, брызги капель, бьющиеся о старый кафель на полу, шлепанье босых ног и постоянно открывающиеся и закрывающиеся двери; Хосок переходит в режим полного игнорирования чужих звуков, случайных склизких прикосновений, он не замечает переговоров других и не замечает необычайной легкости чужого ощущения наготы. Не замечает, что для них — это так же нормально, как для него закрыться в ванной своего дома.
Сил хватает только на маленький, крохотный смешок про себя: опять эти чужие ботинки...
Зад снова трескается жгучей болью от кусачего полотенца, но звук шлепка меняется теперь его возбужденным криком:
— Чонгук, да иди ты...! — подбирает колкие слова, — На...фиг!
— О-о-о, ты с нами скоро материться начнешь! — хохочет сквозь звуки воды, и Чон нервно рыпается в его сторону, чтобы прогнать.
Чонгук совсем по-ребячески отбегает от него, размахивая полотенцем, и взгляд Хосока нервно следует за ним по пятам: не будь он слишком смущен, он, наверное, хотя бы шевельнулся, но тело только предприняло попытку шагнуть, осталось все же недвижимым, и взгляд... вскоре тоже.
Потому что взгляд вдруг... зацепился.
Зацепился за худощавое бледное тело чуть вдали. За чуть отвернутую голову. За быстрые повседневные движения вехоткой по телу.
Щелк, щелк, щелк...
Глаза беззастенчиво фотографируют Мин Юнги — даже нет, не фотографируют: снимают видео, как если бы у него в руках была сейчас настоящая большая камера с кассетой внутри; мозг зачем-то сразу же прячет это на подкорку сознания, прижимает куда-то очень глубоко, как будто бы эти кадры могут в любой момент отнять и стереть; мысли совершенно не считаются с мнением самого хориста, который даже не успевает подумать о том, чтобы воспротивиться. Только вдруг едва приоткрывает рот — не совсем удивленно, скорее... завороженно.
Щелк, щелк, щелк...
Глазки глядят, как капельки воды стекают по его волосам, по которым он проводит рукой несколько раз, точно причесывая; замечает как клацают они по острым аккуратно сложенным плечам Юнги, что, закрывая глаза, подставляет лицо под горячие потоки воды, совсем не видит Хосока рядом.
Щелк, щелк, щелк...
Хосок проходится взглядом по профилю пианиста, стоящего боком, видит плавный изгиб кадыка на шее, опускается ниже... Сглатывает, когда крадется к груди, которую тот намыливает; Чон почти перестает дышать, когда тянется еще ниже, огибает его очертания взглядом, падает к его впалому животу...и... и еще чуть ниже.
Щелк, щелк, щелк...
...И вдруг чувствует.
Внизу живота.
То самое чувство, то самое чувство, которое он не может принять и понять, то самое ощущение, от которого стыдно. Хосок вдруг чувствует, как нервный узелок внизу живота затягивается, подтягивая нервные ниточки, как... как он начинает приподнимать...
С загоревшимися от позора щеками, с глазами, обоженными стыдом, Хосок вдруг выпрыгивает из-под потоков воды и несется к скамьям — нужно поскорее, поскорее... поскорее прикрыться полотенцем.
***
Чон плюхается на кровать со всей усталостью дня, с тяжелыми горячими веками, с жужжащими мыслями-потрясениями; в носу запах затхлости и сырости комнаты, но Чон вдруг понимает, что начавшийся вдруг период...
...Обязательно будет лучше.
Он пообещал быть себе сильным, несмотря ни на что — и он будет. Возможно, этому нужно учиться, как и любой другой науке и... наверное, только трудности и взращивают настоящих силачей.
Чон обязательно привыкнет — не сегодня, так завтра. Не пройдет и месяца, как все это станет привычным, совсем скоро... Мысль-молния коптит подкорку: как там мать? Сестра? Он же... не будет их трогать? Он же...
Пытается вырвать это из черепной коробки, которая еще не вполне восстановилась после сотрясения: все будет хорошо, все обязательно будет хорошо... Лучше верить в то, что все будет хорошо, чем жить с мыслями о том, что сейчас все плохо, лучше верить...
Мантры из мыслей прерываются с закрытием двери за спиной: упершийся головой в подушку Чон почти не в состоянии поднять глаза, чтобы поздороваться.
— Спишь? — низкий голос Тэхёна звучит в комнате, слышится шорох его одежды, — лучше тебе и правда взять в привычку начать засыпать до меня, — хохочет, — ну, привет, сосед. Обустроился?
— А...ага, — поворачивается с живота на спину, потирая красноватые от утомления глазки, — засыпать до тебя?
— Ты думаешь, почему я все это время один жил? — садится на кровать напротив, снимая футболку, и Чон едва заметно переводит взгляд от него, — я та-а-ак страшно храплю, — смеется, — с этим ничего не поделаешь, но спать в одной комнате со мной невозможно, — он чуть стучит по стенке за собой, — даже те придурки за стеной иногда не высыпаются.
— Ну... ничего, — сглатывает.
«Уж, наверное, перетерпеть храп легче, чем удары головой о стену».
— Ты, наверное, не особо рад мне, — приподнимается на локтях, смущенно улыбаясь, — столько времени жить одному, а теперь...
— Одной части меня похуй, — Ким встает, чтобы расстегнуть штаны, — правда, похуй, — выделяет, — а другая часть меня... немного радуется.
— Радуется?
— Уж, наверное, мы все понимаем, почему школа разрешила тебе жить в общежитии с сиротами и беспризорниками, — он почему-то говорит это с улыбкой, — может, я и одна из бесчувственных мразей, но я рад, что... тебя не убьют как-нибудь случайно, — Тэхён подходит на шаг ближе, — мой меня тоже колотил до тех пор, пока его печень не отказала, и он не откинулся, — шикает, — подонок... может и твой там скоро окажется?
— Желать смерти другому человеку — плохо, — Хосок чуть чернеет, задумываясь.
И вспоминая, что не только... не только желал смерти отца — хотел убить его сам, своими руками.
Но теперь, когда злость и гнев отошли куда-то далеко, желание дачи второго шанса, желание прощения снова вышли вперед... Так глупо.
Неужели он никогда не научится на уроках боли?
Неужели он всегда будет таким... отходчивым?
Почему-то ему от этого становится тяжело: по грудной клетке ударяет молоточком собственного негодования, который постукивает возмущенными вопросами самому к себе.
Разум не желает прощать отца.
Душа почему-то идет в разрез.
Повисает небольшое молчание, которое нарушается вдруг открывающейся дверью сзади: когда Хосок видит за ней несколько лиц, почти раздраженно выдыхает — он, в конце концов, уже просто хочет спать...!
— Думал, мы тебя сегодня без внимания оставим? — хихикает Чимин, заходя первым — за ним цепочкой виднеются лица Чонгука, Сокджина и... Юнги.
Конечно, Юнги.
Хосок вдруг смотрит только на него, не понимая, что игнорирует прочих: они еще не успели сегодня поговорить, провести время вместе, они еще не успели... побыть друг с другом.
Огонек тепла загорается, и Хосок, в которого будто укололи иглой бодрости, вдруг подскакивает на кровати, поправляется и... игнорируетигнорируетигнорирует записанную мозгом видеосъемку сегодня в душевой.
Ничего не было, ничего не было, ничего не было...
— В конце концов, у тебя новоселье, — Чонгук подсаживается рядом, вынимая из-под старенькой кофты стеклянную бутылку с красненькой жидкостью, — обычно, мы обливаем новеньких водой, заставляем бегать по коридору и громко кукарекать, но, видит Бог, тебя уберег твой рыбный пирог... так что мы к тебе сегодня с кровью Христа.
— Заебись! — довольно ухмыляется Тэ, натягивая на себя пижамные штаны, — только у нас еды нет...
— Быстрее накидает, значит, — Чонгук откупоривает бутылку, и Чон сразу же чувствует спертый терпкий запах красного вина — он не любит выпивку, вкус алкоголя, а после того вечера у Хонга... но в такой день... в такой день, пожалуй, может позволить себе.
Чуть-чуть.
— Вас что, не шугают, не проверяют? — Хосок аккуратно оглядывает парней — Юнги запирает дверь стулом, Чимин располагается на кровати напротив, — я думал, с этим здесь строго.
— Смотритель заболел, а эти старые пердуны ночью, как младенцы спят, — Чимин достает стаканы, — спят и ссутся под себя, зуб даю... Я это про учителей, которые ночуют в школе. Если вести себя тихо и не давать повода, они дают немного воздуха. А Дондуку похуй, — протягивает стакан под выпивку, — наверняка, надрачивает себе, потому не рыпается из своей вонючей комнаты по вечерам.
В комнате ничего не меняется, все остается прежним; никто не меняет своих мест, никто не пересаживается, но в одну секунду Хосок будто чувствует... будто видит, как будто ощущает нисхождение от того, что что-то все-таки происходит...
...внутри опечаленных глаз Юнги, которые тот опускает в пол.
В комнате ничего не меняется, все остается прежним. Но Хосок чувствует это... чувствует будто бы взволнованное движение чужой души, которая прячется под начинающим улыбаться лицом.
Юнги, сидящий на кровати с Чимином и Тэхёном, старается не встречаться взглядом с Хосоком и потому Хосок смотрит перед собой, крепче обхватывает стакан с дешевым вином и... начинает пить.
***
Они прыскают сдавленным смехом с умелым мастерством тихушников, привыкших вот так собираться по ночам и не попадаться старшим: Хосоку это удается труднее, и он сильно сжимает свой рот, пытаясь не сорваться на хохот — а он у него насыщенно звучащий, звонкий, громкий...
— Не знаю, с какого хуя мой пьяный мозг решил, что это гениальная идея, — хохочет Чимин, продолжая, — но факт остается фактом: он решил, что это гениальная идея... Блять! Намджун блевал дальше, чем видел, и я подумал, что пакет для блевания — конструкция достаточно хуеватая и ненадежная, поэтому... блять? — он почти задыхается в смехе, — я... додумался! Стащить! На нашей кухне... кастрюлю, блять...!
— Это был пиздец, — мелко прыскает смехом Юнги рядом, — мы ведем эту никакущую дылду в его комнату, пока он выблевывает все, что налакал, в эту ебучую кастрюлю...
Пьяненькому Хосоку хорошо — вино развезло его, и он... в эту самую минуту он понимает, что не пропадет. Нетрезвые мысли почти всегда неоправданно смелы, но Чон правда понимает, что теперь... теперь ему многое под силу.
Особенно, когда рядом вдруг... те, кто могут понять тебя.
Тот, кто может понять тебя.
Когда Хосок смеется, он смотрит на Юнги.
Когда Хосок смеется, он думает о том, как бы ему хотелось сейчас с ним поговорить.
Только с ним, без остальных.
— И что вы думаете, блять? — блондин подергивает бровками, глядя на Юнги, потом ухмыляется улыбкой, — никто другой, но этот шизик Вон Бин появляется в эту самую минуту в коридоре! — комната опять взрывается тихим спрыснутым, но неудержимым смехом, — мы, три пьянющие в сопли морды, среди которых этот Намджун, который воо-о-о-обще не в себе, но каким-то образом держащий в руках эту ебанутую кастрюлю...
— Я уже знаю, что этот долбоящер вам сказал, — Сокджин почти вытирает слезы от смеха, — он...он...!
— «Не отольете ль супчику»? БЛЯТЬ! — Чимин срывается почти на истеричный смех, закрывая раскрасневшееся лицо, пока Юнги рядом почти сгибается вдвое, неслышно хихикая, — су-у-у-ука! И Юнги-и-и, — прыщет, не может собраться, — и Юн...гхи-хи-хи
— «Тут ровно на три порции, учитель Вон Бин», — цитирует самого себя пианист, сглатывая, — меня самого чуть не вырвало, хотя я вообще не чувствительный к этому дерьму, пиздец...!
Они снова дружно смеются, держатся за животы, пьют вино.
Только вот Чимин... на мгновение вдруг как-будто отключается от веселья, на пару мгновений задерживая взгляд на Юнги.
Будто что-то вспоминая...
— Пацаны, покурим? — Пак продожает не сразу, после небольшой паузы, затем начиная елозить по штанам, нащупывая пачку в карманах.
— Ой, нет, без меня, — усталый Хосок отодвигается к стене, выставляя руку вперед, — я и так... уже напился...
— Тогда курим и расходимся, — Пак встает вместе с остальными.
Но Юнги остается сидеть, на что сразу получает вопросительный взгляд друга.
— Я пас, — объясняет пианист, чуть приподнимая подбородок, — развезет больше, чем нужно, — скрещивает руки, — еще пару минут и... спать.
Хосок почти трепещет, понимая, что они остаются вдвоем: ему нравится разговаривать с Юнги наедине — он заставляет его думать и копаться в природе вещей, в себе... а еще, а еще...
— Я же говорил! — пьяненько улыбается Хо, когда все уходят.
Чон почти ложится на подушку, но потом, будто что-то вспоминая, начинает вяло тянуться к своей сумке у стола, заползая рукой внутрь:
— Я... говорил, что вы с Чимином нужны друг другу, — он улыбается Юнги, тот смущенно отводит взгляд: не хочет затрагивать ту тему, ведь тот вечер... до сих пор кажется ему черным месивом из боли, куда красно-кровавыми гроздьями вмешалось еще и унижение.
— Как ты... после больницы? — становится чуть более серьезным, — как твое сотрясение?
— Лучше... — шерудит рукой внутри сумки, — иногда, конечно... но неважно... Юнгиии-о! — довольно поджимает губки, застывая, наконец, находя то, что искал, — иди-ка сюда!
— Чего, чего ты? — быстро мелькает взглядом, потом плотнее скрещивает руки на груди, а пальчики на ногах вдруг сами собой подгибаются, но пока не шевелится: смотрит на хориста в этой странной кривой позе, в которой тот завис на кровати с одной рукой, засунутой в сумку.
— Сядь на кровать, — хитро юлит глазами, видя, как тот, выдыхая и недовольно закатывая глаза, пересаживается к нему.
...Недовольно закатывая глаза, но улыбаясь... не сдерживая улыбку.
— Теперь зажмурься!
— Чего ты...!
— Зажмурься, говорю! — почти приказывает.
И Мин Юнги начинает таять весенней сосулькой, апрельским снегом, мороженым на солнце.
Мин Юнги, наконец-то... с самого начала этого вечера... он наконец-то сидит рядом с Хосоком.
Парень закрывает глаза руками и, пользуясь этим, там... под ладошками... улыбается так широко, что сам не понимает, от чего вдруг. Улыбается так, как наверное, никогда не улыбался: даже не знает, почему так выходит, ведь причин для улыбки не так уж и много; не так уж много причин чувствовать легкость и просвет, не так много причин ненавидеть себя и свою жизнь меньше.
Но, возможно, много причин и не нужно — будет достаточно одной.
— Все... открывай, — неуверенный голос Чона ложится на ладошки Юнги, окутывает его пальчики и плавно убирает их от лица, — я... я не уверен, возможно, ты уже и знаешь это...
Сердечко медленно-медленно замедляет свой ход, пока глаза аккуратно крадутся на небольшую дряхленькую нотную партитуру, которую в своих руках, вытягивая, держит Хосок:
— Но, когда я увидел, подумал, что...
«Подумал о тебе»
— ...Подумал, что так и не сказал тебе спасибо за то, что ты... помог мне... устроиться здесь... да и за все вообще, — сглатывает, — знаю, партитура не новая, совсем никакусенькая, разваливающаяся, но... — он все бубнит и бубнит, совсем почти не замечая, что...
...на лице пианиста вдруг разукрасилась эмоция, прежде которую он почти никогда и не испытывал, не ощущал, не переживал своими маленькими складочками в душе, своими метающимися импульсами в теле; это ощущается бело-золотым теплым светом, ощущается мягким одеялом, это ощущается сладким-сладким горячим чаем.
Благодарность.
— Тебя уже наверняка тошнит от церковной музыки, а Шуберт он... я не знаю, любишь ли ты Шуберта...
— ...Обожаю Шуберта.
Он ни разу не играл и не слышал Шуберта.
Ему достаточно того, что он видит: глазки быстро бегут по нотному стану и проигрывают нотки и сочетания в голове: это музыка с характером чопорной строгости, на которую надели нарядную кружевную вуаль, которая танцует, легко разлетаясь, в аккордах левой руки...
— Правда? — выдыхает струйкой, приподнимая воздухом волосы, что лезут в глаза, — а я думал... Шуберт или Шопен, Шуберт или Шопен? — смеется, — но выбрал все-таки эту партитуру, потому что...
Чон слабо перехватывает странички, которые перелистывает Юнги, едва-едва касаясь длинных сухих пальчиков пианиста:
— Просто тут в конце, — показывает он, — пустые нотные станы, — он поднимает голову, зарываясь своим взглядом во взгляд Юнги.
Они как-будто уже оба совершенно трезвы.
Но оба слегка притворяются пьяными, чтобы... Потому что так легче.
— Чтобы написать что-то свое, — Хосок поджимает губы, убирая руки к себе.
— Написать что-то свое? — удивляется, приглядываясь к пустому месту.
— У тебя получится какой-нибудь шедевр, который потом будут изучать в консерваториях, — ухмыляется, — но у меня условие...
— Да? — посмеивается, отрывает голову от партитуры, — Какое же?
— Я... я должен буду услышать твой шедевр первым, — приподнимает бровки, — такое вот условие...! — ухмыляется, почти уже хочет перевести все это в шутку и рассмеяться, потому что не планировал ставить никаких условий — оно как-то появилось само-собой минуту назад, да только вот пианист... опережает его:
— Хорошо, — он отвечает кратко, сухо, лаконично, но так уверенно и легко, что это почти удивляет Чона, — будешь первым... и... — отчего-то он почти вдруг смущается, в глаза теперь трудно смотреть, смотрит он теперь вниз, натыкаясь на аккуратно сложенные пальцы хориста, — и... Шуберта... сыграю тебе, — с трудом сглатывает, напяливая на губы слова, которые как будто на размер меньше его языка, — ...хочешь? И...
Улыбка разбивает намерение говорить дальше — улыбка эта смущенная, кислая, крепко-накрепко привязанная к якорьку появившейся благодарности внутри; трос этого якоря вдруг волнуется от течения легкой растерянности и... слишком мягкого, пушистого чувства, от которого в этом океане чувств вдруг расплывается по сторонам вся полугнилая рыбешка и другие чудовищные обитатели глубин...
— С...спасибо, Хо, — он съедает окончание «Сок», проглатывает своими губами, оставляет звуки его имени себе одному
Это все — как-то... слишком.
Юнги с трудом жмет губы: ему... ему лично никогда... никогда ничего не дарили.
***
Как-то туго, как-то тесно, так невозможно жмет...
Он почти не спит уже, но не может открыть глаза, вырваться из своего сна, не может поднять самого себя...
Так неудобно, так напряжено, так... горячо?
Как будто бы очень хочется в туалет...
Он щурится во сне, глубоко дышит, и в этой прослойке между бодрствованием и сновидением мешается в чувствах: где те зыбкие пески сознания, эфемерные парящие картинки, испаряющиеся ежесекундно? Где земля-твердыня, на которой можно устойчиво стоять, где события действительности?
Во сне он слышит голос, к которому тянется, он видит человека, которому он принадлежит, ему... приятно его видеть — очень приятно.
Невыносимо трет, надувается большим шариком, который так сильно хочется лопнуть...
И в реальности он слышит один-единственный голос — отрезвляющий, пробуждающий его:
— С днем стояка, — хихикает Тэхён, стоящий прямо над ним.
Хосок какое-то время не понимает, что происходит, чувствует только, что там... внизу...
Его обливает с ног до головы сразу всеми красными красками, его закидывает мягкими томатами с головы до ног, его примагничивает к кровати, бросает и в жар, и в холод, обдает потом... Начинает тошнить от конфуза всей ситуации, ему хочется никогда-никогда не просыпаться, ведь...
Ведь там, между его ног, ощущается такой жгучий, такой горячий, такой возбужденный и уже почти изнемогающий влажный член.
— Минут десять есть, чтобы передернуть, — Ким хитро скалится, отходя, — но не опаздывай на перекличку, я прикрывать не буду, — стреляет взглядом и ухмылкой, — потом расскажешь, что Йонг делала во сне.
Тэхён выходит, громко хлопая дверьми, не оборачиваясь, не видя, как стыдливо Хосок закрывает красное лицо, как прячет глаза под ладошками, как еле заметно стонет, от смущения, которое его невероятно плющит...
Позор позор позор позор!
Господь, за что...
Но сознание не перестает над ним насмехаться, бросает в голову отрывки сна...
...Бросает сохраненную видеокассету, на которой в памяти записаны... изгибы голого тела Мин Юнги, стоящего в школьной душевой, подставляющего лицо под воду, проводящего рукой по волосам.
Отрывки сна, в котором Мин Юнги... в котором...
Тело изнывает — такое быстро не проходит, он... он знает. Такое случалось раньше нечасто, но когда вдруг происходило...
Он стонет болезненно, все еще чувствуя острое жжение внизу; он ругает самого себя, тягуче тянет укоризненные буковки сквозь губы и... и тянет руку вниз.
И пока сердце его быстро и гулко бьется в груди, пока внизу все так невозможно давит, ему становится вдруг так сильно плохо и тошно, ему вдруг страшно, неприятно, противно, мезко от самого себя и от того, что...
Он тянет руку вниз, все еще держа в голове обрывки сна с Мин Юнги.