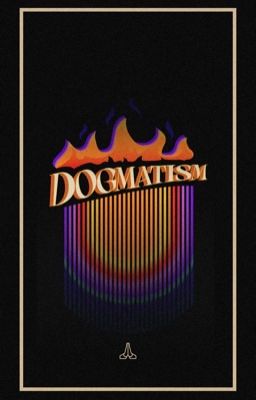12: Жаворонок у небесных врат
(Притч. 24:16) ... семь раз упадет праведник,
и встанет.
А нечестивые впадут в погибель.
Пальцы касаются клавиш нежно, они не кораблем, но лодочкой вальсируют на черно-белых волнах, то быстро проскакивая через высокий вал аккордов, то задерживаясь и играясь с водными переливами ноток, блестящих, преломляющихся в тональности си-мажор.
Поначалу Юнги почти непривычно находиться в руках такой музыки — она, как серьезная незнакомка, глядит на него свысока, давая только кончиком пальца прикоснуться к себе. Музыкант понимает — с такими дамами... сложно. Даже ухмыляется своей серой, потерянной улыбкой, которую видит только гладкое черное отражение пианино, да потрепанные нотки на пюпитре — влюбленные глаза следуют по нотному стану, предвкушают дальнейшее течение звуков.
Влюбленные глаза... в музыку.
Течение музыки попадает в горный порог, закручивается в стремительную бурлящую воронку — Мин и сам купается в этом необыкновенном ощущении чего-то нового; почти впервые музыка, которую он играет... приглашает пойти за собой. Нет, церковные хоралы и гимны никогда не приглашают — берут за руку и уводят, а эта незнакомка будто играется, будто кокетливо посмеивается, думая, прыгнет ли за ней Юнги в холодную речку, лишь игриво вытягивая ручку за собой.
А он прыгает.
Прыгает, потому что всегда доверяет музыке.
Потому что с музыкой у него, в отличие от всего остального мира, все взаимно.
Парень прикрывает глаза, игнорируя на всех уровнях приближающиеся шаги из-за спины: сейчас он слишком занят, чтобы отвлекаться на что-то настолько приземленное, как... другие люди.
Шуберт под его пальцами поет голосом женщины, чей голосок вьется отнюдь не прочь за стены этой покосившейся каменой церквушки; музыка эта никуда не уходит, не пробивает потолок, она стройной фигуркой зависает у инструмента, наблюдая за движениями; Мин готов поклясться, она даже игриво поправляет шляпку, глядя сверху вниз, а потом вдруг...
...Целует его...
Просачивается через губки, запрыгивает внутрь, потоком затекает во внутренние органы; не дает чувства удушения, но наполняет собой. Юнги переходит ко второму порогу смешивающихся ноток, кривит спину, пряча голову меж плеч, только чтобы задержать эту даму в себе, но она... находит свой конец... Хотя, нет. Не конец. Приют.
Неожиданно, но... но в Юнги.
Так, как будто так и должно быть, будто Юнги был создан Богом для того, чтобы хранить в себе музыку и в нужный момент давать ей выход.
Парень сглатывает, когда чувствует, что Хосок совсем рядом...
...Конечно, Хосок рядом.
Он играл для него.
Юнги выдыхает, все еще задерживая руку на клавиатуре потерявшем голос пианино, не торопясь открывать глаза: если откроет, то опять окажется в мире беспорядочно-шумных людей, а не гармонично-стройной музыки.
Парень чувствует, как Чон садится рядом на длинную исхудалую банкетку по левую руку... это жжется.
Мин чуть отдаляется от хориста, пододвигаясь вбок — он... слишком близко; вместе с его вытянутым худым телом на сидение рядом садится еще и самое обычное человеческое тепло — чуждое ему человеческое тепло.
— Какой бы это был кощунственный скандал, — медленно начинает Хосок, вглядываясь в ноты, но... не не глядя на Юнги, — чтобы в церкви... да светская музыка!
Хосок хотел бы сейчас молиться Всевышнему, чтобы внутренний стыд не было видно. Тот самый стыд, с тех пор, как...
— Уверен, услышь это богохульство, Бабах припизднул бы мне, — глухо хохочет, обрывая мысли хориста, — про Чхенвона вообще молчу...
Пальчики правой легко проходятся по клавишам третьей октавы, выдавая случайное гармоничное звучание тоненьких ми и соль, которое сразу же будто улетучивается — мимолетно, легко: это совсем не статная дама, не бурная река, скорее юркий зверек, почти едва пойманный в силки, вновь убегающий в дикие неизведанные заросли леса...
— Так кто... — робко начинает парень, тщательно избегая взгляда музыканта, — научил тебя... так играть?
— Пак Ванхо, — быстро цокает словами, не задумываясь, — пастор Пак Ванхо, что был здесь до...
Слова внутри него горят огнем, каждая... каждая буковка трещит от пожарища: «До этого ублюдка, которого я хочу убить голыми руками»
— ...Раньше, — заканчивает.
— Где он сейчас? — кладет свои пальцы на клавиатуру, нерешительно нажимая на клавишу в большой октаве — пианино звучит насыщенно, но бессмысленно.
— На городском кладбище, — подыгрывает Хосоку правой, украшая его неприкаянный, беспризорный звук, глядит лишь вниз, — единственный, кого здесь можно было не ненавидеть...
Юнги мельком вспоминает старого настоятеля: запах уже изношенной, но всегда чистой одежды, его костлявые пальцы с опухшими сухожилиями и ногтями, подстриженными почти под самый корень... его приглушенный смех, в котором можно было услышать голос его скорой кончины. Он был старым и больным, но... но только Пак Ванхо смотрел на него, как на человека, только он... пытался воспитать, а не исправить.
— ...Оу... — сглатывает хорист, чуть поворачивая лицо, но не глядя на пианиста — на его руки разве что, — прости...
— За что? — пожимает плечами, — дело давнишнее. Я был еще ребенком, когда он умер, так что...
Чон Хосок выдыхает, чуть прикусывая губу изнутри, а под кожей все... нет, не кипит, но находится в секунде от того, чтобы забурлить, всего лишь в шаге от полной готовности и подаче на стол — кухонный хронометр тикает, приближаясь к отметке со звоночком. Пузырьки на поверхности этой жижи щекочут, покалывают, заставляют нервно сжимать пальчики, будто от недостачи крови там; через эти лопающиеся пузырьки едва ли могут просачиваться пылинки прежнего холодного здравомыслия, что уж говорить об обычном воздухе — дышать почти тоже трудно.
А что до того, чтобы посмотреть... на Мин Юнги.
После того, как... после того, как он...
...Трогал себя...
Там...
И думал... о... нем...
— Не знаю, — быстро прочищает он горло и выдохом избавляется от этих плохих воспоминаний: нет, нет... ничего не было, это... — так обычно говорят, чтобы, видимо... — чуть сбивается, — обозначить свое небезразличие? — зажимает аккордик, высвобождая полутемный звук, — пережить смерть того, кто был твоим наставником...я могу понять, каково это... как это может быть трудно, — пожимает плечом, темнея в тон музыке под его неумелыми пальцами, — а я напомнил об этом...
— Хо, — Мин жмет улыбку, подыгрывая, — ты же знаешь, что такое риторические вопросы...? — почти смеется, — тебе не обязательно было отвечать...
— Но я хотел, чтобы ты... — слова Хосока выливаются быстрее, чем вырываются звуки из-под его пальцев, когда он насильно прикусывает язык, опять чувствует, как надуваются маленькие пузырики и избивают его изнутри, — ну, знаешь, чтобы ты понял, что...
Губам тоже щекотно... губам горячо.
— Ну... понял, что... ну... мне не хочется напоминать тебе о плохом? — губы пересыхают, сам он хочет прополоскать рот святой водой, а потом приложиться к кресту — желательно лбом, да посильнее... да что ж он несет? Может, после сотрясения еще не в порядке?
Отворачивает голову налево, к каменной стене с небольшим оконцем почти у потолка, из которого льется холодный утренний свет, серостью ложится на его продолговатое лицо. Он гвоздями приколачивает туда свой взгляд, переживая: Юнги, наверное, подумает, что он совсем свихнулся — нести такую сбивчивую околесицу, совсем потерял рассудок...!
Когда Хосок отворачивается, пианист чуть заметно выдыхает, понимая, что у него есть всего пара секунд, чтобы...
...Позволить своему лицу так глупо расплыться в улыбке, щекам покрыться розовой, почти младенческой корочкой смятения, а сердцу чуть-чуть ускориться в своем биении.
«...Обозначить свое небезразличие...»
Мысли начинают вдруг парить эфемерным потоком уже не только внутри черепушки Мина — они выскакивают и начинают кольцами Сатурна вращаться вокруг его головы, но они не привносят какие-то идеи и догадки, наоборот: рушат все напрочь — не стальными ударами, но легким кружащим потоком, задевая при этом руку...
Руку, которая сама собой начинает наигрывать Шуберта — он уже даже не глядит на нотный стан, чтобы пальчики по памяти отыгрывали размеренное произведение... он раз за разом высвобождает первые четыре такта правой рукой, ходит по кругу, не торопясь, не планируя идти дальше, как вдруг...
...Неожиданно, но Хосок зажимает первый аккорд: ре большой и малой октавы изящно поют под пальчиками хориста, потом сменяются ля диезами и соскакивают на соль. Это нетрудно, но почему-то это все равно удивляет Юнги — он не сдерживается, вдруг поворачивая голову на Чона: тот смотрит перед собой, продолжая играть. Без нот.
— Красивая музыка, — он молит, чтобы Юнги поскорее перестал на него глядеть, молит, чтобы он как можно скорее отвернулся, ведь...
Отчего-то он горит под его взглядом, как горел в детстве от взгляда священников в церкви: тогда почему-то на службах было страшно, но страх этот был не обыденный, не приземленный, совсем-совсем не такой, какой он испытывал от ругани пьяного отца или лающих на него собак по пути домой...
...А страх этот был от чего-то неизвестного, нового, будто стоит протянуть руку, и он дотянется до какой-то безграничной тайны, смахнет вуаль с прикрытого лица самого Бога или хотя бы одного из его АпостоловСкорее всего, в детстве Хосок пережил религиозный опыт... страх от ощущения того, что он в шаге перед пропастью неизвестности, внутри которой нет ничего, к чему он привык, что он может контролировать... или хотя бы понять.
— Да, — тихо соглашается Юнги, возвращая взгляд в излюбленную точку перед собой, — она совсем... совсем не такая, какую я играл раньше... знаешь... — он продолжает играть те скупые аккорды из первых четырех тактов, потому что...
...Потому что если решит играть произведение дальше, Хосоку придется убрать руку.
— Она... — вздыхает, размышляя, сомневаясь в своих мыслях, ведь Хосок он... такой умный. Вдруг Чон подумает, что он смешно и наивно думает? Вдруг мысли его глупы и смехотворны? Вдруг Хосок решит, что он примитивно размышляет... или...? — Ну... знаешь, — все же продолжает, — музыка для церкви — равнодушная, почти отреченная...м... — вспоминает слово, — аскетичная?
— Да, — с интересом соглашается, — мне в прошлой школе рассказывали, что музыка для храмов специально такой и делалась — чтобы не отвлекаться на страсти, а быть ближе к Богу, думать только о Нем в храме.
— С Шубертом такого точно не получится, — посмеивается, — эта музыка, она...
Соглашается сам с собой, что говорить нотами у него получается лучше, чем словами, оставляет эти мысли себе: возможно, когда-нибудь у него получится рассказать ему, что эта музыка...
Отчего-то вызывает у него надежду о том, что когда-нибудь он будет играть ее не на школьном стареньком пианино в холодном храме, когда за стенами пухнут тучи и шоркают подошвами полусонные ученики, когда от престарелых настоятелей пахнет затхлостью угасающей жизни... Он почти начинает верить в то, что когда-нибудь песня Шуберта запоет в его пальцах, когда он будет... свободен?
— Ты умеешь играть? — чуть кивает в сторону пальцев, не прекращающих нажимать три аккорда по очереди; меняет тему быстро, не давая Чону зацепиться за начало предложения.
— О, умоляю, ты называешь это игрой? — хохочет, — нет, конечно. Мое дело — петь, — парень убирает руку с клавиш, расчищая пространство, — у меня здесь никакой власти, — Хосок жестом приглашает Юнги продолжить песнь, и он... принимает это приглашение.
Левая рука растягивается совсем рядом с Чон Хосоком, локоток даже чувствует тепло от него... если бы на нем не было кофты, он бы почувствовал на своей коже размеренное дыхание хориста...
Эти странные мысли будоражат воображение, неудобно дергают, но отнюдь не сбивают с толку: на черно-белом поле он, действительно, всегда чувствует себя уверенно — даже не смотря на то, что Хосок продолжает сидеть с ним рядом на одной скамье, лишь едва двинувшись вбок, чтобы ему было удобнее играть...
Почти ревностно Мин подбирает под левую руку большую и малую октавы, и «Серенада» Шуберта сразу находит свое продолжение, выходит дальше первых четырех тактов; левая рука танцует на первой октаве, лишь изредка забегая в гости к малой, но она хочет быть там чаще — ведь она ближе к Хосоку...
— Ты уже выучил ноты? — парень удивляется легкости движений пианиста, замечает его почти усмешку, спрятанную в губах, упирающуюся в щечки... замечает, что Мин не глядит на нотный стан, только мягко прикрывает глаза, будто видя музыку в голове: не ноты на бумаге, а... саму музыку.
Хосок раньше не замечал, что у Юнги длинные ресницы.
Не замечал... как опадают темные волосы на бледное лицо.
Не замечал, какие длинные у него пальцы.
Какие красивые у него пальцы...
— Я уже... слышу мелодию, — выдыхает, — в своей голове. Полностью. Она... легкая. Запомнил почти сразу. В музыке всегда есть логичное продолжение, поэтому даже если забуду, я... я пойму, где она продолжается. Здесь все проще простого.
— То есть эта «Серенада» для тебя что-то типа песни для утренника в детском саду? — смеется, качая головой: в это сложно поверить, когда он даже взглядом не поспевает за быстрыми пальчиками парня.
— Ну да, — пожимает плечом, открывая глаза, переводя взгляд на Чон Хосока: глядеть в глаза ему страшно, и он смотрит на переносицу, но не отворачивается: ему хочется, чтобы Хосок понял, что он... что он хороший пианист, что он — стоит чего-то, что... что у него есть что-то особенное, будто это умение играть музыку заслоняет собой то, что он, по сути, никто.
Несколькими минутами ранее серый свет уже окатывал Хосока: то было пухлое хмурое небо, но сейчас у скучной серости появился насыщенный цвет — цвет глаз Мин Юнги.
Этого он тоже раньше... не замечал.
Он готов поклясться, что не было раньше в этих глазах этого необыкновенного блеска... искорки? Не было в этих глазах... желания.
— Так значит, — сглатывает, а сердце отдает свой удар в такт новому аккорду, — видимо... плохой я тебе подарок выбрал? Слишком легко?
Если бы Мин Юнги сейчас нес на себе тяжелый груз, взбираясь на гору, если бы он топал в дырявой неудобной обуви, если бы выбирал выступы потверже да понадежнее, то все равно бы тут же упал лицом в грязь вниз — он и падает: движущиеся до этого руки вдруг сбиваются, теряются меж нот, скользят вокруг аккордов, но не находят опоры — звуки неприятно режутся, обрываются, фальшиво стонут, тут же быстро угасая, точно от быстрого ветерка, тушащего мелкий костер.
Юнги вдруг поднимает пальцы, рассеянно смотрит на них, не понимая вдруг, отчего это произошло...
— Нет, нет... — быстро лепечет он, качая головой, — не плохой... — вторит смазано, покрываясь новым румянцем, — это... я... не...
— А говорил — легко! — смеется, пытаясь заглушить неловкость, но она все равно звенит громче, — сфальшивил!
— Я не... я не сфальшивил! — хмурится — чтобы он... и сфальшивить?!
— А что же тогда? — чуть приподнимает брови, подначивая, чуть отклоняясь назад от инструмента.
— Я... я...
Юнги мечется в мыслях: растерялся? Запутался? Замялся...? Или просто испугался, что... что обидел этим Хосока?
Губы поджимаются сами собой, мысли ныряют в голову тоже без приглашения, начиная тянуть за любимые ниточки: «ты не умеешь общаться с людьми, ты не умеешь дружить, не умеешь не обижать, лучше бы вообще молчал, что теперь Хосок подумает? Ты... ты...»
— Нет, нет... не плохой, — он пытается исправиться, но не знает, что еще добавить, какие сказать слова... да и нужно ли? Какие слова обычно говорят нормальные люди? — ведь легко — не значит плохо?
— Но интересно ли? — продолжает улыбаться, — я... я шучу Юнги, — он быстро хлопает по плечу парня — видит, что тот вдруг зарделся, растерялся, — просто в следующий раз подарю тебе... хм? «Полет шмеля» Римского-Корсакова? — смеется, — или «Ла Кампанеллу» Листа?
Юнги не помнит, слышал ли когда-либо «Полет шмеля» или «Ла Кампанеллу» — в церквях не играют такую музыку, это коробит разве что на жалкую сотую процента, мысли крючком цепляются за якорек, упавший с губ Хосока.
«Подарю в следующий раз».
— Знаешь, эту мелодию и правда уже немного... скучновато играть, — Юнги воспаляется.
— А? — глазки сверкают.
— Ну... это же песня? — кивает в сторону нот, — ее нужно не только играть, но и... петь, — улыбается, — неожиданно, правда?
— Чего? — он глядит в партитуру, удивляется, — я даже не знал, что у «Серенады» есть слова...!
— Раз уж в этом доме Божием уже прозвучала кощунственная светская музыка, то предлагаю камня на камне не оставить в этом храме, — парень протягивает книжку хористу, — сможешь спеть? — поддевает.
— Смогу ли я спеть? — хорист принимает ноты, закатывая глаза, — не я ли спел «Аве Марию» а капелла? — поднимается с банкетки, и Юнги с удивлением замечает, насколько холоднее становится у инструмента, — не я ли спел двадцать третий псалм Мендельсона с трещиной в ребре? — парень встает у инструмента вытягиваясь, прочищая горло, — хотя, я не уверен, что это была трещина, но по ощущениям что-то рядом со страданиями Христа на кресте.
— Насколько помню, ребра у Христа сломаны не были, так что не твой случай.
— Получается, что не мой, — Хосок быстро глядит на ноты, проигрывая песнь в голове, начиная едва распеваться и готовить связки: произведение, действительно, несложное, но есть некоторые моменты, в которых он... может оплошать. Но вот права не имеет.
Не перед Юнги, нет.
— Готов? — Мин краем глаза смотрит на хориста, вытягивающего макушку, выпрямляющего спину — тот после небольшой распевки кивает головой.
Первые четыре такта Юнги проводит в одиночестве с музыкой — Хорист присоединяется с пятого, мягко забираясь на первые нотки произведения, как по накатанной горке.
Его голос... Юнги уже успел привыкнуть к его голосу.
Слушай, слушай
Жаворонок
У небесных врат
Песнь поет свою
О том, как Он
Поднимает взгляд,
Поит лошадей
Из цветочных чаш.
Проснись, проснись,
Мари,
Золото в глазах
Расцветает солнцем
В голубых мечтахВольный авторский перевод оригинального текста песни «Серенады» / Музыка Шуберта, текст Шекспира.
Жаворонок вдруг оживает в воображении Хосока — Чон ведет его по вершинкам ноток, показывая ему путь к небесным вратам, почти что держа его за руку — за крохотное крылышко, в этом случае; голос его то нежно соскальзывает к краю среднего регистра, то, порхая, взмывает до ля, затем приостанавливаясь, но...
...Но вот жаворонок продолжает порхать, будто завершая начатую Хосоком фразу — это не забег на опережение, но гармоничное продолжение, логичное завершение такта; Чон чуть отрывает взгляд от нот в паузе, глядит на жаворонка из-за ветхих страничек партитуры: Юнги аккуратно продолжает мелодию, и на мгновение хорист почти заслушивается им.
То, как этот парень играет... действительно, ощущается как-то иначе.
Чон внутри почти что заикается: интересно, Юнги играет так, потому что у него... больше и нет ничего?
Следующий такт начинается с более мощной ноты, с более насыщенной — уголки губ Чона едва тянутся вниз на концах предложения, удлиняют окончания слов, и он почти слышит себя со стороны: голосок вьется в стенах школьной часовенки, но направляет он звуки лишь вперед... туда, где сидит Мин Юнги.
Он надеется, что его песнь задерживается у Юнги. Он надеется, что Юнги не просто слышит его голос, но слушает его.
Слушай, слушай
Жаворонок
У небесных врат
Песнь поет свою
И когда хорист с придыханием переходит к третьему куплету серенады, Юнги осознает, что не слышит собственной игры, не слышит своих мыслей, не слышит даже своего дыхания — слышит лишь песнь... жаворонка.
Жаворонка, на которого теперь почти осязаемой вуалью опадает серый свет, пробивающийся сквозь тусклые оконца — видно, как искрится старая пыль в этом свету, как она кружит вокруг них; Чон вьет гнездо песни не из буковок или слов — вьет из звуков, выпускает их через вытянутые трубочкой губы, летит, то отталкиваясь от его фортепианных вершинок, то входя в небольшой вираж вниз, к самой нижней точке произведения: ре первой октавы звучит приземленно, но естественно, в ней ничего особенного, но она вдруг удилом цепляет взгляд Юнги и приковывает к хористу.
Беззастенчиво, быстро, открыто, так, что Хосок чувствует это в ту же секунду.
Если бы он сейчас шел по скользкому льду на самой тонкой подошве, если бы пытался ступать аккуратно и мягко, все равно бы поскользнулся и упал — он и падает, прямо так, лицом в колючий шершавый лед, разбивает нос, губу: соль второй октавы разбивается в его соскочившем голосе, сошедшем с рельс, режется о почти непристойную хрипотцу, холодным скальпелем покореженных нот проходится по уху, аж ушки краснеют...
Чон Хосок хватается за горло машинально, опухая от кусачего позора, сдвигает брови, будто в вопросе к самому себе: как он мог... ошибиться?
Но нечто другое терзает даже больше.
Взгляд Юнги. Вдруг до безумия смущенный, спрятанный промеж клавиш, тонущий... в его вдруг румяных щеках.
***
В трапезной по выходным всегда как-то приятнее находиться, как будто бы эта часть школы перестает быть составляющим элементом места, которое вилами царапает на груди Юнги кровавые больные отметины; но ребята часто собираются здесь после обеда не потому что настоятели позволяют это — потому что идти больше некуда.
Здесь можно услышать очередную тупую историю Чонгука о его веселых выходных в городе, обсудить приближающуюся тихую пьянку в комнате Намджуна и Чимина, перемыть косточки старым учителям и просто... сделать уже, наконец, эту ебучую домашку.
Юнги снова зачеркивает строчку, тихо чертыхаясь — эти гребаные логарифмы, тангенсы, котангенсы... на кой хуй оно ему все надо? Дует губы, почти в ненависти отодвигая от себя тетрадь — почти хочет свернуть ее трубочкой, а потом разорвать, но взгляд упирается в потрепанный учебник, в котором он читает не очередное дурацкое задание, а... буквально выведенные красными чернилами слова пастора Хён Дондука.
«Ты опять не ведешь себя прилежно? Ты опять плохо учишься? Разве плохие мальчики попадают в музыкальные академии?»
Живот скручивает от затхлого волнения, от которого несет стухшими яйцами и сжиженным страхом, пальцы упорно хватаются за ручку, снова переписывая задание — раз в пятый уже.
— Что-о-о это у тебя? — проходящий мимо Хосок с яблоком в руке вдруг задерживается, лишь на мгновение сомневаясь.
...Все еще как-то неловко после утренней встречи в часовне, но пройти мимо оказывается... почти невозможно.
Ему хочется задержаться.
— Домашка? — приглядывается к записям, видя фатальное поражение Юнги с наукой — не тетрадь, а поле боя, где все оборонительные позиции смятены наступлением дробей...
— Ты уже сделал? — поднимает взгляд из-за плеча, но смотрит будто вскользь.
— Конечно! — улыбается, — легкотня!
— Дашь списать? — кривится, — нихуя не понимаю.
— Медвежьей услугой агитируешь заниматься? — хитро щурится, думая, делая вид, что уходит, — грехоподобно это!
— Бля, Чон! — шикает, останавливая взглядом, — говорю ж, мой мозг не работает так...! — беспомощно глядит в тетрадь, упирая ладонь в лоб, — он, кажется, вообще не работает!
— Ну... — сдается, останавливаясь у длинной скамьи, за которой сидит Мин, — я... вроде как, обещал помочь тебе разобраться, да?
Юнги на мгновение столбенеет, опешивает.
— Да нахуй тебе оно надо? Я безнадежен, я сдаюсь, — фыркает, — дай списать?
— Но ведь ты тогда ничего не поймешь? — хорист располагается за широким столом трапезной, видит, как Юнги рядом едва выпрямляется и... чуть отсаживается дальше, — и какой тогда смысл?
— Может быть, смысл есть не везде? Может быть, будет больше проку, если ты просто... — жмет губы в тонкую линию, неловко шутливо сутулясь, соединяя указательные пальчики вместе, — ...дашь мне списать?
— Я тогда объясню все это тебе просто из принципа! — закатывает глаза, притягивая к себе учебник, — делов-то! Меньше, чем на час!
— Ну вот и зачем тебе оно надо? — пораженчески вздыхает, негласно соглашаясь.
— Ты еще не понял, зачем? — глядит в учебник, читая задание, — человек я такой. Горбатого могила исправит, Юнги.
— Но ты...
Мысли запинаются, и он громко падает в них:
«Ты совсем не горбатый, горбатый здесь только разве что я, и меня, видимо, и правда ничего уж не исправит, так уж вышло, Хосок, что я и правда испорченный, стухший, как старый залежавшийся огурец на дне выгребной ямы, во мне нет ничего хорошего и светлого, во мне нет ничего, чего у тебя полным-полно, Хосок»
— Так, все! — перебивает, строго глядя в ответ, — забываем про человеческие страсти и отдаем себя на алтарь сухой науки!
***
Чонгук плюхается на противоположную скамью громко, суматошно, но эти двое почти не замечают его: мозги у них бурлят — у одного от осознания того, что эти логарифмические задания, действительно, не так уж и сложны и, кажется, теперь он и правда может решать их сам, у второго от открытия того, сколько в нем, оказывается, терпения и усидчивости: математика и правда с трудом дается Юнги...
— Я! Понял! — с победой замечает Юнги, переписывая пример, — у-у-у...! — ругается, — тупые углы! Тупые градусы! Формулы! Я вас захуярю!
— Так их! — подбадривает Хосок, краем глаза замечая, что Чонгук напротив начинает что-то черкать в блокноте, — заху...! То есть, — сбивается, — я хотел сказать...! Да...! Реши все полностью! Сам!
— Решу! — сжимает кулачок в ответ, — вот прям щас! Решу! — утыкается в тетрадь буквально на секунду, а потом вдруг быстро выныривает, — хотя, бля, нет, это еще что за хуйня? — чешет затылок, чуть поворачивая корпус к Чону, — мы таких заданий еще не решали! — от бессилия Мин падает на стол, хнычет, — ну наху-у-уя оно мне все надо?
— Мы уже минут двадцать назад решили, зачем оно тебе все надо! — Чон хмурится, хватает того за плечи, намереваясь поднять парня со стола, но тот решительно упирается.
— Ну вы и фрики! — смеется Гуки напротив, продолжая вырисовывать что-то в блокноте, тщательно скрывая рисунок ладошкой, — Чон, как тебе спится, кстати? — смеется, подковыривая, — сладкие сны снятся?
— Не хочу это обсуждать, — трет нос, дуя губы, убирает руки от Мина, — скажу только то, что, оказывается, если очень надо, то можно высыпаться за два часа. Но это все равно лучше, чем...
»...Чем бояться, что в любую минуту может зайти отец и поколотить до предсмертного состояния. Потерпеть храп соседа уж намного лучше, чем слышать хруст собственных ребер и плач сестры...»
— Чем... — быстро проглатывает первую часть предложения, но понимает, что уже все равно выдал себя, — ...чем вы, кстати, на выходных занимаетесь? — смотрит на Юнги.
— Учимся, — отвечает серо.
— А помимо учебы?
— Ну...? Пытаемся учиться.
— И это все равно нихуя не помогает, — хихикает Чонгук под звук открывающейся двери из коридора — Чон оборачивается, видит через плечо, как приближаются остальные ребята: Чимин, Тэхён и Намджун, плетущийся позади них; они устраиваются рядом, здороваясь, спугивая то блаженное спокойствие, которое тут было до их прихода.
В трапезной становится еще громче, когда вдруг приходят и другие ученики, даже заходят учителя, вместе с настоятелем Чхенвоном и пастором Хён Дондуком — Хосок даже улавливает сильный запах одеколона и ладана, шлейфом вяжущийся за пастором.
Живот Юнги скручивает. Почти сразу начинает тошнить.
Это уже... так нормально.
— Че, трубу прорвало? — дует губы Чонгук, глядя вокруг, — че все приперлись? — слегка бьет себя по лбу, — а-а-а-а! Полдничек? Сейчас кефирчиком поить будут? Совсем забыл про эту срань.
— А ты чего не в городе, а? — Чимин садится рядом с опустившим голову Юнги, — ты ж всегда при первом удобном случае даешь дёру отсюда?
— Да, блин, — чуть опускает плечи, не переставая рисовать, — к тёте приехал старший сын, а у неё и так квартирка... ну и чего я... объедать ее буду? Так что... — говорит все тише, склоняясь к блокноту, — на следующих, может... или позже... она там и переезжать как раз собралась, может, хоть помогу чем... ну, короче... не до меня ей, так что пошел я нахуй пока что, — эй, Чон, — быстро шикает, вырывая страничку блокнота, — это... ну...
Сердечко едва копошится, когда он принимает вырванный листочек Чонгука, и потом вдруг гулко бухает: Хосок видит на рисунке сгорбленные фигурки, что упорно корпят над учебой; нарисованные человечки склоняются над этими дурацкими логарифмами, утыкаются носами в тетрадь, сидя плечом к плечу... рисунок не детализированный, почти что набросок силуэтов, в которых он явно узнает себя... и Юнги тоже.
Это щелчком шлепает по щекам — незаметным совсем, но все же ощутимым.
— Ого, Чонгук! — восхищенно удивляется, — ты, оказывается, так здорово рисуешь?
— Эта срань? — закатывает глаза, но все же почти давится от смущенной улыбки, которую прячет под замочками серьезного взгляда.
— И правда срань! — хохочет Тэхён, выглядывающий из-за плеча Хосока.
— Ой, иди нахуй, не ценитель! — скрещивает руки.
— Я тут мало похож на срань, — хихикает Хосок, показывая рисунок пианисту, который почему-то вдруг перестал поднимать голову, — да и Юнги тоже.
Мин лишь слабо проходится взглядом по листочку, почти и не отображает, что там нарисовано: все мысли собрались в холодном отсеке затылка, в морозильнике почти; сосет под ложечкой, он и впрямь чувствует чужой взгляд на себе.
Мерзкий, ужасный взгляд... он теперь почти всегда его ощущает, носит за собой тяжелым плащом, чувствует, как он тенью преследует по следам и укладывает свои иссушенные трупно-холодные руки ему на плечи, он...
Он чувствует себя не отвратительно, но отвратительным.
Не тошнотворно, но тошнотворным.
Он грязный, испорченный... его... его испортили, его... он... этот... запах... Дондук всегда незримо присутствует рядом, все равно что этот ебучий Бог, который все видит и все знает; он... он выше него. Юнги под ним.
— Аа-у-у! — тормошит его Хосок за плечо, окликая, — нравится, говорю? — снова обращается к Чонгуку, — эй, да ведь у тебя талант! Ты это минут за пять нарисовал! — снова смотрит на рисунок, — так здорово!
— Все, хватит, — младший уж совсем смущается, — это тебе за пирог рыбный, понял? Не по доброте душевной, — Чонгук колется специально, выеживается диким зверьком, почти не подозревая, что выдает себя с потрохами: взять слегка нервное покачивание из стороны в сторону, прикушенную губу, розовые щечки.
Хосок улыбается: Чонгук хороший.
Он уверен, все они тут... не такие плохие, как они сами думают.
Им только нужно... показать это.
— Спасибо, — улыбается благодарно в ответ, чуть прижимая рисунок, — я его сохраню.
— Бля, закончили голубиные любезности? — Чимин выдыхает, чуть закатывая глаза, — значит, Гук, присоединишься к нам с Намджуном?
— Да без б. А че, есть выпить?
— Обижаешь, малой, — гремит Ким, — нужно успевать, пока злоебучий Сун Бин не вернулся.
Юнги кусает губы изнутри, желает отмолчаться, желает, чтобы его не заметили, пропустили разговор через него, желает стать самым серым пятнышком, желает слиться со стенами и тусклым светом, но вот... его снова утыкают в плечо.
— Юнги, — тормошит Чимин, вглядываясь в почти позеленевшее лицо Мина, — ты же придешь?
— Я...я... — качает головой, — нет, — отворачивается, — Доебук, ты же знаешь.
— Какого хуя он так взъелся на тебя? — чуть наклоняется ближе, — ты же ничего не сделал?
— Ну... — шикает, понимает, что ему больше некуда девать взгляд — если посмотрит налево, то обязательно столкнется с Хосоком, а видеть его сейчас... он не может.
Потому что вспоминает, почему Чон Хосок имеет возможность жить в школе. Потому что вспоминает, какая цена была заплачена.
И платится до сих пор.
Нет, он ни о чем не жалеет... только вот вдруг это оказывается слишком непосильным испытанием, и он начинает сомневаться в том, что справится.
— Сам у него и спроси, — угрюмо буркает, закрывается, — я, бля, знаю?
— Наверняка запал на тебя, — ехидно хихикает Намджун, выглядывая из-за плеча блондина, — наслаждается наказаниями, а потом дрочит на тебя, он ж ебнутый извращенец, разве не видно?
Комок подкатывается к горлу, Юнги с трудом сглатывает, бледнея... чувствуя его фантомные прикосновения на себе, чувствуя его... и запах... Юнги скручивает в грязную тряпку, которую выжимают — разницы не так уж и много.
— Я знаю таких, — продолжает Ким, — такие в своих сладких влажных фантазиях представляют, как насаживают на свой крохотный стручок таких, как мы, пидрилы ебучие, — шикает злобно, почти плюется слюной, — ненавижу этих гомиков, — краснеет, — всем бы пальцы переломал да черепа бы вскрыл, извращенцы. А Доебук просто импотент, ага?
Ох, уж он-то... точно не импотент, блять.
Намджун буквально кромсает его уши ножницами, где вместо наточенных лезвий слова.
Как же, сука, больно.
И хочется, чтобы было еще больнее — но не внутри.
Снаружи.
Запястья жгутся под кофтой.
Хочется закурить.
Легкие требуют привычную шершавость.
Хосок видит все это, видит, как вдруг изменился Юнги, но сделать ничего... не может. Даже сказать...
Ему хочется его успокоить, но... как это сделать?
Сердце с трусцы переходит на небыстрый бег, но Чон запинается и... и падает на руку Юнги.
Рука хориста почти неосязаемо, едва зримо кладется на локоть пианиста, но тот не обращает никакого внимания — возможно, он и не замечает даже... но Хосоку вдруг почему-то кажется, что он должен обозначить то, что он рядом.
Друзья же для этого нужны?
Взгляд хориста вдруг почти случайно перекрещивается со взглядом блондина по другую руку пианиста. Чон понимает, что Чимин отчего-то взволнован... о чем-то напряженно думает.
— Ким, нахуй иди, — Юнги берет себя в руки, закатывает глаза: не должен он сейчас выдать себя с потрохами, хотя все ведет к этому.
И Хосок... его... пальцы... обжигают. Конечно... конечно, он почувствовал.
Нет, невыносимо, он не может выдержать прикосновений — сейчас любые прикосновения ошпаривают, истязают, напоминают о чужих грязных прикосновениях, о том, что его тело... что оно...что его испортили. Что Дондук его испортил.
Все это сильно толкает парня в спину, он не удерживает равновесие, летит вперед и, наконец... отдаляет руку. Перемещает ее естественно, плавно, так, будто и правда даже не заметил этого.
— Опять собираешь всякую дичь, — продолжает, устремляя тучный взгляд на старшего, — хоть Чонгука пожалей, он же у тебя учится!
— Просто говорю, что думаю, — хмурится, вздергивая широкими плечами в исхудалом свитере с заплатками, — отвечаю, у него стоит от издевательств над другими. Ебнутый!
— Говорить, что у тебя на уме — хуевая затея, за это можно и в зубы получить, — ковыряет заусенцы, шипит через зубы, — но он правда ебнутый, это у него не отнять.
Мин Юнги выдыхает... и почти крошится в пыль прямо на скамье, потому что в ту же секунду ощущает, что собственные плечи начинают гореть племенем от прикосновений тех самых рук. Их хочется сбросить немедленно, сейчас же! Тут же убежать в ванную и скинуть с себя грязную одежду, побыстрее принять душ и под кипятком смыть его следы и его запах. Смывать это с кожи до тех пор, пока она не покроется больными вспухшими волдырями и не начнет слезать с него, обнажая мясо.
— Не кажется ли вам, что вы слишком громко разговариваете, молодые люди? — Дондук зависает у Юнги, — в трапезной на выходных мы всегда говорим вполголоса, — строго осматривает собравшуюся компанию, — все уроки выучили? Вам нужно тщательнее относиться к учебе, юноши. Берите пример с Юнги, — хлопает того по плечу, почти выбивая из него воздух — не потому что это было сильное похлопывание... потому что это было похлопывание в принципе, потому что это было его прикосновение, — он почти каждый вечер ходит ко мне на дополнительные занятия, ведь он хочет для себя лучшего будущего! — пастор улыбается, — поступить в музыкальную академию — не так-то просто, но... но это возможно, если упорно заниматься, — смотрит на пианиста под собой, — правда же, Юнги?
Хосок даже приоткрывает рот от удивления: Юнги даже не сказал... не сказал, что готовится к поступлению... разве мог он не сказать ему? Зачем это держать в секрете?
Юнги быстро кивает, чувствуя, как подкатывает теперь не только тошнотворный ком, но и пучок истерического смеха, искупанного в панике и страхе, посыпанного сверху отвращением к себе, как на тех красивых пирожных в дорогих кондитерских, которые он видел в городе.
Ведь по сути... так все оно и есть.
По сути, пастор Хён Дондук не соврал.
***
Чимин никогда не был любопытным свыше меры, не совал свой нос, куда не следует, оставался с виду равнодушным ко многой хуйне, происходящей не только в школе, но и в жизни.
Так, вроде как, было легче — если не брать себе чувства, неприкаянно валяющиеся там и тут, то потом проще жить, когда вдруг обнаруживается, что за них все же надо платить.
Временем. Усилиями. Упорством. Деньгами.
Если не радоваться походу в зоопарк, не придется потом расстраиваться от того, что ты не можешь посмотреть на тех забавных медведей, когда тебе вздумается. Если не распробовать как следует вкус мороженого, то никогда не захочется грустить от того, что ты не можешь есть его каждый день.
Если не верить, что потом станет лучше, проще мириться с тем, что ты ничего не упускаешь сейчас.
Но этот... новенький.
Почему-то воспалил его с самого начала, с самой первой минуты, с первого взгляда на него. Поджег всем своим видом, своей идиотской добротой и желанием всем понравиться...
Все в Чон Хосоке было чуждым Чимину, и от того он горел больше.
Ненамеренно, не специально, но скорлупка вдруг треснула, внутрь заглянул свет... так, может... стоило все-таки смаковать мороженое, а не быстро слопать его? Улыбнуться при виде медвежат в клетке? Так, может... и правда, там, дальше... может быть лучше? Если... приложить усилия, если бороться?
Может, поэтому он сейчас не в своей комнате, поэтому он не рядом с остальными ребятами, поэтому он сейчас не пьет дешевое пиво, а... пригибаясь, смотрит на толстую деревянную дверь перед собой?
Может, из-за дурацкого взгляда Чон Хосока, в глазах которого он увидел испуганное волнение за Юнги в трапезной, он стоит с холодном темном коридоре, чуть подгибаясь, едва-едва подкрадываясь ближе?
Может, потому что он вдруг вспомнил, что вечно закрывать глаза на хуйню не получится? Ведь Юнги... его друг.
Единственный настоящий друг, не просто приятель.
Он уже позволил себе сдружиться с ним и не готов опять платить его отсутствием, вдруг что случись.
Чимин шагает по каменному полу неслышно, робко, сам почти трясется — не от страха даже, а, возможно... возможно, от того, что его догадки подтвердятся.
Над массивной дверью пастора Хён Дондука висит скромный деревянный крестик; его комната находится в угловом помещении рядом с учебными классами, так что в выходные здесь почти никого не бывает.
Никто не слышит, что тут происходит.
Чимин лишь вскользь кладет взгляд на распятие, крадется ближе, пригибается, на кончике языка почти слышимо проступают мысли: «Пожалуйста, я хочу ошибиться. Господь, пусть я ошибаюсь, пусть я ошибаюсь!»
Замок у входа плотный — в отверстие не подглядеть; дверь крепко сидит на петлях, тесно прилегает к стенам, лишь у пола небольшая темная щелочка, упирающаяся во внутренний порожек: непреступно.
Чимин задерживает дыхание, приближая голову, умоляет свои мысли замолчать на самое мгновение — от них так много ненужного шума, от них так много никчемных мыслей: что он может там услышать? В конце концов, они, действительно, там просто занимаются... просто учатся... Доебук готовит его к поступлению, Юнги бы не позволил...
Пак опускается еще ниже, почти садится на колени, пальцами проходя по щелке меж дверью и полом, чувствует, как наружу тянется воздух. Значит, и звук должен проходить?
Почти чертыхается, припадает ухом к полу и перестает дышать — в комнате, вроде как, тихо... Ну, конечно. Юнги... наверняка, пишет конспекты или читает под надзором пастора...?
Он почти уже отдаляется, решая, что окончательно ебнулся, но... но его хлестает по щекам появившийся звук.
«Нет, нет, нет, это невозможно! Этого не может быть...!»
Это был стон. Приглушенный, нечаянный, тут же схваченный обратно, будто это ошейник у взбешенной псины.
Пак чувствует, как горят его уши. Как сам он ныряет в подожженный им же самим пожар.
Чимин припадает к полу еще больше, почти вжимаясь к никчемному промежутку промеж двери, сам трясется: не может быть, не может быть, этого просто не может быть, это невозможно, это не может происходить, это... это...
Следующий звук хлещет его еще больше.
Чимин слышит, как голос пастора тихо выскуливает имя Юнги.
Называет его хорошим мальчиком.
Пак Чимин беззвучно вскакивает на обе ноги, отходит спиной, неотрывно глядя на эту дверь, врезаясь взглядом теперь в висящий крест — так до абсурдного смешно, что в детстве он думал, что крестики перед входом обозначают святые, сакральные места, знаменуют собой почти что небесные врата, за которыми дивные райские луга и блаженство... врата, за которыми покой и разыскиваемое веками спокойствие...
Боже, да сжечь бы это место!
Нижняя губа дрожит, мельтешащие чувства внутри переворачивают его, но он совершенно... совершенно не знает, что теперь делать, знает только то, что... худшая его догадка подтвердилась.
Такие звуки... не спутать ни с чем.
Дверь остается запертой.
Он остается тихим — только крест над ней колет глаза.