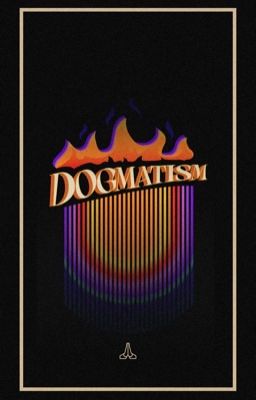10: Акт самосожжения
«... Это не чувства, это жертвенность,
а жертвенность — это есть решение.»
Промозгло.
Все утро идет мелкий дождь, крапинками скребущийся в тонкие холодные окна, из-под которых задувает стуженый воздух приближающейся зимы; Сегодня Юнги удалось хорошо поспать впервые за долгое время: ему давно не было почему-то... так спокойно. И почему-то... он еще никогда так сильно не ждал Хосока в школе. Своего... друга.
Это осознание опадает на него мягкой невидимой улыбкой и странным колыханием внутри. Кажется, в детстве он чувствовал примерно то же, когда их группой вывозили в город на экскурсию в зоопарк или цирк: это не новое чувство... но определенно чувство чего-то нового.
Похожее чувство возникает у него сейчас, когда он берет в руки ноты произведений, с которыми он еще никогда не разговаривал; момент, когда он еще ни разу не пробовал на вкус новую музыку, но уже воспроизводит и слышит ее в голове, момент, когда его пальцы уже стреляются невидимыми звуками в воздухе, когда он только-только знакомится с ней, уважительно изучая каждый стежок чернил вышитый на бумаге, выстраивая в голове свою первую встречу уже вместе с инструментом.
Это редкое и очень сладкое чувство осознания, что он рядом с чем-то, что гораздо больше него самого: рядом с тем, что он не в состоянии постичь своим разумом, только отдать себя на растерзание чувствам. Только музыке он покорно сдается, безвольно поднимает руки над головой, чуть опуская голову...
Но теперь, кажется...
Он смотрит в мутное окошко своей комнаты — видит только застилающий все вокруг густой туман, что стелется по влажной промозглой земле; внутри капельками вниз опадают мысли и чувства: не холодно ли идти? Не слишком ли грязно? Не попадет ли он в дождь? Не простудится от такой длинной ежедневной дороги?
Когда Мин Юнги проходит по открытому коридору первого этажа школы и взглядом крадется за каменный забор, ему почти кажется, что он слышит его легкие быстрые шаги, он почти видит, как главные скрипучие ворота школы открываются, и там показывается его продолговатое лицо — с улыбкой как всегда: он мысленно улыбается ему в ответ, чуть кивая головой. Но его там... почему-то нет.
Когда Юнги и остальные выстраиваются для утренней переклички, и Юнги все еще не видит его лохматую макушку, не слышит его звонкий голос, уже начинает переживать.
Ведь... ведь могло произойти все, что угодно после его возвращения домой. Его отец... мог сделать с ним все, что угодно. Отругать — это меньшее. Поколотить. Избить. Взять тот ремень, о котором он говорил. Посадить на домашний арест... он мог... Неприятно крутит живот, волнение хватает за горло, перекрывая каналы воздуха, заставляя голову немного начать кружиться: вдруг этот Чонгу посчитает, что эта школа плохо действует на Хосока?
Вдруг он посчитает, что лучше сменить школу...? И тогда они уже не смогут..
Юнги с кем-то здоровается, переговаривается шепотом, пока идет небольшая заминка — глаза все рыскают по небольшой темной комнате; тут по-утреннему суетливо, и шум чужих бессвязных слов белым шумом крутит мысли, сердце от этого шума тоже слегка корежится.
Глядит на часы: Хосок уже должен быть в школе...? Если он опять опоздает? Вызовут его отца? Опять...неприятности?
— Ты чего бледный такой? — Сокджин появляется рядом, едва прикасаясь к его плечу, — нездоровится?
— Что? — он не слышит начала фразы, глаза все еще не на месте — никак не могут найти Хосока, — тут душно как-то... разве нет?
— Как обычно? — удивляется старший, становясь рядом, — ты сегодня так хорошо спал. — улыбается парень, — уже не помню, когда ты не вертелся всю ночь...
Дурацкое чувство — Юнги знает, что испытывает какие-то иррациональные эмоции, но... но никак не может взять их под узду: все внутри скачет резвыми конями куда-то к пропасти, пока мысли панически возвращают его к моменту прощания с Хосоком — его нетрезвые глаза, неуверенная походка, его страх перед собственным отцом и осознание, что он ничего... совершенно ничего не сможет сделать.
Юнги даже не замечает вошедшего пастора Хён Дондука, что въедается в него взглядом, не замечает, как называет свое имя на перекличке... замечает только то, что почти перестает дышать, когда слышит имя своего друга.
— Чон Хосок... — буднично сверяется со списком пастор.
У Юнги все внутри колется: опять этот парень попадает в неприятности, опять этот парень наживает себе беду, опять с ним случилась какая-то чертовщина — Юнги поверит, что он вполне мог попасть под машину во время пути в школу: с его-то везением и не такое возможно...
— ...Здесь, — тихий голос хориста слышится на другом конце зала — Мин почти с удивлением юркает туда взглядом, но не видит его лица, головы: Чон будто прячется за другими, не показывает себя.
Почему.
Почему.
Почему.
Кусает свои губы изнутри, еще раз пытаясь приглядеться и разыскать знакомый силуэт, но... но почему-то Хосок позволяет лишь услышать себя — не увидеть.
***
— ...Он заблевал весь толчок! — Чонгук плюхается за стол на скамью рядом, жует черствую корочку хлеба, — я всегда говорю, бля, что нужно знать свою меру, а эта дылда двухметровая сожрала бутылки три какой-то пали... но было весело, — Чон стреляет взглядом в Юнги напротив, — Мин, тебе, говорят, тоже весело было.
— Ох, Чонгук, — надувается недовольной рыбой-тетраодоном, выставляет свои слова-колючки, опускает взгляд в стол... взгляд, который опять рыскал повсюду, чтобы отыскать Хосока, — не начинай.
— Я не начинаю, — поднимает руки, смеясь, — это сестренки Мун на тебя уже зубы точат, кажется...
— Уже обе? — смеется Тэхён, сидящий по правое от Юнги плечо, — даже та, вторая... страшненькая.?
— Она не... — пытается вставить Мин, но Чонгук тут же перебивает:
— Кстати! — загорается он, — а наш-то новенький... уже за ней приударил?
— Пиздишь!
— Бля буду, — смеется почти озорливо, — весь вечер не могли друг от друга отлипнуть, даже противно... — кривит лицо, — Юнги, ты хоть бы сказал ему, что таким обычно занимаются в комнатах за закрытыми дверьми, — хихикает, — а-а-а, — тянет, — уже вами с Ёнджи было занято? Ну так они ж родные сестренки, потеснились бы.
— Чонгук, завали пиздеть, — отрывает Мин, чувствуя, как закипает внутри, — опять ты своим ебнутым языком направо-налево трещишь, когда-нибудь тебе его за это отрежут, мелкий пиздюк.
— Бля, да че такого-то? — тускнеет, оборачиваясь, — он даже рад будет, что о нем будут говорить это, а не то, что его отец его колотит...
Чонгук не знает меры в словах: Юнги пронзительно смотрит на парня напротив, одним взглядом пытаясь вбить младшему, что когда-нибудь ему, действительно, от кого-то прилетит — и это будет очень больно и очень обидно.
Возможно, это будет он сам, Мин Юнги.
И пусть он все равно, что младший брат, но младших нужно воспитывать, верно?
— А, вот и герой-любовник собственной персоной, — Чонгук не замечает недоброго взгляда Юнги, не понимает, что опять наговорил ерунды: он, как и Мин, видит только...
...Бледное потливое лицо Чон Хосока, его стеклянные глаза и обескровленные губы. Они видят его слегка заторможенные движения и затуманенный взгляд... Юнги вдруг встает со скамьи, глядит только на хориста, поджимая губы — сам не отдает себе отчета в этом, не замечает, что этим жестом обращает на себя внимание других, собирает странные взгляды, но... но не взгляд Хосока: тот лишь быстро сморит на него, затем снова глядя на Чонгука.
— Привет, ребята, — слабо говорит он хриплым голосом, медленно растягивает слога, — доброе утро, — улыбается, — Юнги... привет.
Мин медленно садится назад, чувствуя себя полным придурком: наверное, даже щечки чуть покраснели... идиот, идиот...
— Чонгук, — Хосок протягивает младшему сверток, — это... тебе.
— А? — не понимает парень, принимая.
— Я заметил, что ты постоянно голодный, — медленно ухмыляется, едва-едва поднимая подбородок, — подумал, что, наверное, тебе понравится пирог моей мамы, вчера испекла... — с трудом выдыхает, фокусируя взгляд, — можешь съесть все, но лучше будет, если поделишься с Юнги и Тэхёном, — он замечает удивленный взгляд ребят рядом.
— А сам.? — Чонгук все еще переваривает информацию, с недоверием глядя на внушительный завернутый в салфетку пирог, — ты же не завтракал? Садись... вместе...
— Я наелся, — показательно хлопает себя по животу, — встретимся в классе, хорошо? — он быстро, почти с боязнью смотрит на Юнги, сразу же отводя от него глаза, — мне нужно кое-что дописать перед началом уроков... Приятного аппетита, — улыбается, — мама старалась.
Чон Хосок уходит, ненамеренно привязывая к себе вопросительный взгляд Мин Юнги, который провожает его до самого выхода из столовой, пока ребята рядом набрасываются на пирог с рыбой.
Дождь продолжает тяжело стучать по небольшим окнам помещения — тяжело почти так же, как озадаченное сердце пианиста.
***
Кто-то берет острые ножи и систематически проводит им по внутренностям черепной коробки: ковыряет лобную кость изнутри самым кончиком, потом больно щелкает всей поверхностью по вискам.
Невидимому мяснику вскоре это наскучивает, и незримая рука обхватывает нож покрепче, проходясь по мозгам, мелкими кубиками кромсая нейронные клетки, потом скидывая их в бурлящую кипящую воду, почти что обжигающую лаву.
Хосок почти чувствует, как вздымаются вены внутри, как они напрягаются, набухают, пульсируют.
Он слышит шум в ушах — незнакомый прежде, смешанный с шуршанием и помехами, со звоном и вполне различимым писком, как от телевизионной помехи на канале, где внезапно оборвалось вещание.
Тошно. Желудок сжимается со всех сторон, судорожно скукоживается, почти подходит к горлу — Чон сжимает рот, сглатывает, выдыхает.
Все пройдет. Все обязательно скоро пройдет, нужно только подождать. С тобой все в порядке. Ты здоров.
Класс вдруг раздваивается, кружится, и он опадает на собственную руку на парте, едва придерживая тяжеленную голову: окно едва приоткрыто, промозглый мокрый воздух помогает держаться в сознании — он медленно втягивает свежие порывы, почти не слышит, как класс наполняется шумными однокласниками.
Чон концентрируется на себе, пытается выровнять мир и приказать ему прекратить шататься из стороны в сторону, заново собраться воедино: сжимает собственные виски с двух сторон, подгоняя мир в привычные рамки, укладывая его в рамки черепной коробки. Чернота собственных закрытых глаз успокаивает, слегка утихомиривает трезвон в ушах...
...Теплое... едва заметное... легкое, неосязаемое, но такое... нежное прикосновение вытаскивает его назад — заставляет открыть глаза.
— Хосок? — Юнги хмурится, убирая руку от его плеча, — ты в порядке?
— В полном, — губы дрожью изгибаются в улыбке, — просто плохо спал.
— Как... как все прошло? — он понижает голос, — ну... с...
— Мне повезло, — глаза блестят, — он напился вусмерть и уснул еще до моего прихода, представляешь? — выдыхает, — хоть когда-то пове... — прочищает горло, — повезло.
— Я рад, — Юнги отходит к своей парте, — Чонгук попросил сказать спасибо за пирог...
— Ты сам-то пробовал?
— Разве можно у голодного щенка забрать миску с кормом? — смеется, — я и так был сыт, — едва привирает: конечно... конечно, ему хотелось попробовать, но... пусть уж Чонгук наестся досыта.
— В следующий раз принесу тебе, — улыбается, глядя, как тот усаживается за парту впереди, — только тебе, — кукожит носик, — только никому... а то прозовут каким-нибудь... мамочкиным пекарем.
Становится лучше. Совсем ненадолго, совсем на самое мгновение, на каплю существования: на тот самый момент, пока он смотрит на своего спокойного друга и... вспоминает — это было даже не полноценное прикосновение к плечу — всего лишь едва ощутимое раздражение воздуха рядом с его телом, всего лишь его пальцы на одежде, всего лишь, но... такие теплые, все еще ощущаемые...
Но когда звенит звонок, и старый учитель математики Вон Бин начинает новую тему, боль возвращается обратно, будто троекратно усиливаясь, давя на голову со всех сторон — ручку почти невозможно держать: она дрожит в руках, коряво что-то отпечатывая на тетради; он почти и не слышит учителя, почти уже не понимает, где находится и для чего это все — опять тошнит, мутит, бросает в жар, судорогами сводит конечности.
Он приходит вдруг в себя, когда замечает, что в классе тишина, а у доски стоит уже не учитель — пастор Дондук. Парень концентрирует взгляд, прислушивается...
—...Так как наш смотритель заболел, а мы все с вами продолжаем питаться в столовой, где наши добрые повара готовят нам пищу, посланную Господом Богом... — звуки шуршат, на мгновение улетучиваются из сознания Хосока, что жмет глаза, — ...сходить до фермы... — помехами шуршит Дондук, — труд — это такая же тяжелая наука, как, например, и математика — этому нужно учиться... — тошнота опять накатывает: Хосок закрывает рот рукой, — нужны... желающие...
Жмет глаза, выдыхая. Слух возвращается в одно мгновение, стоит пастору произнести его имя.
— Чон Хосок, — говорит он строго, и хорист чувствует, что взгляды устремлены на него, — вижу, тебе так скучно слушать меня, потому что ты, наверное, уже решил помочь школе, правда? — он подходит ближе, глядя на него сверху вниз.
Чон чуть отодвигается на спинку стула, чувствует, что все под его рубашкой взмокло от собственного пота: иссиня-черные глаза мужчины продырявливают в нем дыру: он удивлен, как из него еще не выпали все органы...
— Это похвально, — кивает он головой, — тем более, что ты обязан нашей школе в связи с... недавними событиями, — специально кусается, повышая голос, — значит, труд тебе пойдет на пользу.
— Но он... не знает, где... где ферма старика Чонина, — замечает Юнги, старательно избегая взгляда мужчины, который задерживается рядом с его партой:
— Значит, ты ему и покажешь, — ухмыляется, чуть похлопывая пианиста по плечу, — третьего человека доверяю выбрать нашему выдающемуся хористу, — пастор бросает взгляд на бледного ученика, — вдвоем все не унести.
Чон Хосок снова понимает, что на него смотрит весь класс, как и понимает то, что выбирать ему нужно с умом: что-то подсказывает ему, что никто из одноклассников не скажет ему спасибо за потрясающую прогулку куда-то к черту на куличики под дождем в такую промозглую мерзкую погоду... да еще и тащить что-то...
Хосок закусывает губу, аккуратно смотрит на Юнги — тот не смотрит на него, только на тетрадь перед собой, чуть ковыряя уголок.
— ...Я бы хотел... — слабо говорит Чон, — чтобы с нами пошел... если он хочет этого, конечно, — сглатывает, мелькая взглядом куда-то в дальнюю часть класса: понимает, что несет, какую-то дурость... — Пак Чимин.
Блондин недовольно выдыхает, но не смотрит на Хосока: он с самого начала знал, что Чон назовет его имя.
***
— Серьезно... ведете себя, как две ворчливые бабки, — Хосок глядит назад, рассматривая надутое недовольное лицо Чимина со скрещенными руками, — как малые дети, ей-Богу?
На свежем воздухе становится лучше: голова почти как будто бы больше не болит... как будто больше не тошнит и нет слабости, как будто все прошло: внутри он немного радуется — говорил же себе, что стоит лишь чуть чуть подождать, чтобы все прошло.
— Я не хочу с ним разговаривать, — фыркает Юнги, упрямо шагая вперед по просёлочной грязной дороге, почти не удосуживаясь обходить особенно мокрые места — так и топает: гордо-гордо, поднимая маленький нос почти до самого неба.
— Вы же лучшие друзья, — не успокаивается Чон, пытаясь замедлить шаг, — а поссорились из-за ерунды какой-то, — закатывает глаза: это вдруг отдает болью в затылке, который он вдруг начинает массировать, — нельзя же так...
— Он сказал, что со мной невозможно дружить и что я не создан для дружбы, — ворчливо фыркает пианист, пиная камушки на ходу, — вот пусть и не дружит. Пошел он нахуй, ясно? — вздыхает.
— Но как же всепрощение и все-такое? — улыбается, — я знаю-знаю... где-то глубоко... в самой глубине твой души, которую ты накрыл черствой корочкой... — хитро по-ребячески улыбается, — сидит желание помириться с Чимином, — ведет головой, — он же хороший...
— Он — говн... — Юнги почти прерывает себя, закусывая губу, вспоминая, как Пак... Пак, действительно, заступился за Хосока, когда те идиоты почти решили поднять Чона на смех из-за его отца, — он...
— ...твой друг... — завершает фразу, — я сделаю все, чтобы вы помирились, слышишь?
— Зачем это тебе, Хосок? — не понимает Мин, не сворачивая головы с горизонта.
Лысые поля, обдуваемые холодным уже почти зимним ветром, низкое серое небо с набухающими каплями дождя в облаках; где-то далеко... очень далеко клонятся в бок макушки сосен — они стоят у небольшой речушки, воды в которой необычно много из-за постоянных дождей.
До фермы старика Чонина почти уже рукой подать... Покосившийся черный домик стоит на опушке, уже пахнет коровами и козами. Юнги скукоживает плечики, пряча шею в воротник легкой поношенной и измученной временем курточки; Хосок держит руки в холодных карманах рядом — пальчик как-то взволнованно ковыряет дырку во внутреннем кармане.
— Потому что... — он пожимает плечами, — так будет правильно.
— Опять ты устанавливаешь рамки морали и нравственности, — фыркает, поднимая глаза к небу, — кто сказал, что так будет правильно? Почему ты это решил?
— Это плохо.? — Хосок чуть отстает, задумываясь: резкость Юнги колет его иголочками, заставляет задуматься... а, действительно... кто он такой, чтобы решать за других, вмешиваться? Для чего он все время хочет быть хорошим, правильным, удобным для всех?
— Это плохо, что я хочу этого? — продолжает хорист, почти останавливаясь: голова трещит; Юнги этого почти не замечает, шагает вперед, — это плохо, что я хочу, чтобы... у моего друга был еще один человек, вместе с которым можно... провести время, когда совсем уж невозможно быть одному в этой школе? Разве это правильно... быть всегда одному?
В груди все жмет.
— Хосок...
— Наверное, я и правда беру на себя слишком много, — он видит, как Юнги впереди останавливается, разворачиваясь, — прости, что вмешался...
— Хо, я не... — Юнги теряется: теперь он совсем запутался, теперь совсем не понимает, что чувствует и почему вдруг внутри расцвела какая-то незнакомая на вкус ягода... вины? — только ты на меня не обижайся. Я...
Мысли страшно пискливо верещат:
«Я знаю, что я колючий, и я правда не умею дружить, и я правда, наверное, не создан для дружбы, мне самому так тошно, что я не могу нормально разговаривать с людьми и не ранить их, я сам чувствую, что из меня растут колючки, о которые все укалываются, но я не могу ничего поделать, Хосок, только не обижайся на меня, ведь тогда я совсем, тогда я совсем-совсем потеряюсь в себе...»
— Я не обижаюсь, — он мягко улыбается, отступая на несколько шагов назад, — но сейчас я хочу... пройтись с Чимином.
Юнги топает с глухой обидой, резко разворачивается, продолжая шагать вперед к ферме: Хосок сглатывает, глядя ему в спину — неприятно так сильно, что хочется поскорее помыть руки с мылом и поменять одежду. Почему-то ему кажется, что он поступил плохо, почему-то ему кажется, что не должен был быть таким с Юнги, ему кажется, что как будто все испортил, а ведь он всего лишь... поступил неудобно для него.
А еще он понимает, что... что ему страшно, если Юнги тоже с легкостью отвернется от него, как и от Чимина. Замкнется еще больше, закроется ракушкой — хочется прямо сейчас к нему подбежать и наговорить всякой ерунды, только бы отвлечь, перевести в шутку, стереть все то, что только что сейчас было и...
Сердце клокочет.
— Забей, — Чимин нагоняет, чуть похлопывая его по плечу, — он всегда такой. Иногда настолько невозможный, что придушить хочется. Юнги почти что самый сложный из всех, кого я знаю, — выдыхает, — иногда хочется открутить его бошку и посмотреть на всех тараканов, что там бегают.
— Нет, нет, — не верит, качая головой, устремляясь за Паком, — он не такой...
— Да ну? И долго ты его знаешь? — Чимин выбрасывает докуренную сигарету на дорогу, шагая с гордо распрямленной спиной, — а я с ним вырос.
— Но ведь вы все-таки... были лучшими друзьями... все это время, — он фыркает, — значит, не такой уж он и не выносимый...
Чимин молчаливо соглашается: если быть точнее... он тот, с кем Чимин хочет общаться больше всего — именно потому что он такой, какой есть.
— Какая кошка между вами пробежала? — не понимает Хосок, — какого черта вы вообще поссорились?
— Ну... скажем так, на кошку ты не особо похож, — усмехается.
— Чего? — удар удивления хлопает по макушке, опять вызывая головную боль, — вы поссорились... из-за... меня?
— Ты не понравился мне сначала, Чон, — грубо говорит парень, бодро шагая, — мне не понравилось то, что ты можешь быть лучше меня... У нас в школе это так работает: если кто-то кому-то не нравится, то можно поднасрать, — он усмехается, — вот я и... а он не захотел слушать... слово за слово и...
— Какие же вы придурки! — поднимает глаза к небу, выдыхает, — невероятные! Дети совсем!
— Да тебе то какая разница общаемся мы или нет?
Фитилек зажигается — он слишком короткий; почти сразу доходит до взрывоопасного ядра — Чон Хосок вдруг лопается извержением вулкана:
— Ну, конечно — какая мне разница! — подрывается тихая бомба внутри, которая тикала все это время, — я же бесчувственный, мне должно быть все равно, так? — он больно укалывает, ускоряя шаг, — почему вы все так стараетесь подогнать меня под вас самих, неужели, это так плохо, что я просто... чувствую что-то... помимо ненависти к этому миру? — кусает дрожащую нижнюю губу, — помимо злости и... равнодушия? Несмотря на все то, через что мне пришлось пройти? Почему это вас так удивляет?
Юнги слышит это позади себя. Останавливается. Остро внутри — но не как-будто от специй или перца, который повар по случайности пересыпал в миску — так, будто от наточенных кухарських ножей, которые этот самый повар развесил внутри и теперь они все там трезвонят, ударяясь острой сталью друг о друга.
Хосок напротив ускоряет шаг — голова трещит от обиды и злобы, все гудит еще и болью: голова кружится, опять подташнивает... во рту металлический привкус крови: он чувствует, она вот-вот пойдет из носа.
Он уже почти не разбирает дороги: в глазах нет слез, но зрение почему-то все равно смазано так, если бы на лист с акварельной краской вылили воду.
Хосок порывается пройти вперед, резвее пройти мимо Юнги, но тот резко хватает за локоть, останавливая — Чон вырывает локоть, отходит на пару шагов назад, останавливается. Смотрит на пианиста и блондина по очереди и впрямь задумывается... зачем ему это все.
Для чего он тратит себя на тех, которым это и... и не нужно.
Инициатива всегда наказуема — приходится расплачиваться своим спокойствием.
— Уж извините какую-то идиотскую кошку, которая прошмыгнула между вами — я опять все испортил...! — он дрожит изнутри, губы застывают в измученном стоне: «Наверное, всем бы было лучше, если бы меня просто не было».
«Я опять во всем виноват, из-за меня опять одни проблемы, я опять белая ворона, я опять такой... ужасный. Ненавижуненавижуненавижу.»
— Хосок, — Юнги спокойно выставляет руку вперед, — дело не в тебе...
— Конечно, — подтверждает Чимин, — дело в тебе, придурок, — обращается к Юнги.
— Ты серьезно сейчас? — скрипит словами Мин, делая шаг вперед.
— Более чем, — фыркает, — будешь продолжать вести себя так, и Хосок скоро от тебя сбежит — он просто еще не понял, какая ты задница!
— Не ахуел-ка ли ты часом, обмудок? — скалится пианист, — не ты ли сначала обсирал Хосока за его спиной, а потом подставил его при Бабахе?
— Если говорить обо мне, то я понял, что обосрался: вспомни-ка, как я встал на его сторону после того, как... после того утра, — сглатывает, — а ты не меняешься.
— Ну и в чем же я такой хуевый, скажи? — прыскает, — чем я так ужасен?
— Ты... ты... — Чимин почти выходит из себя, приближаясь на шаг: лицо его становится напряженным, натянутым, брови хмурятся... но губы дрожат, — почему-то дружба для тебя всегда была тем, что нужно тянуть... выносить, — прыскает, — так, как будто я навязываюсь к тебе, как будто... тебе я совершенно был не нужен! Будто ты хочешь избавиться от меня! Избавился, молодец! — кусается, срываясь, — ты привык закрываться внутри себя и считать, что ты — самый несчастный во всем мире и все должны тебя жалеть, а сам ты для других не делаешь ничего! — Чимин шмыгает носом, только сейчас понимая, что готов расплакаться, — все мы время от времени жрем дерьмо, Юнги.
Он вдруг понимает. Понимает, что слишком соскучился по Мину.
— Ты... ты не хочешь научиться принимать, ты только... ненавидишь всех. И отталкиваешь. И... какой сюрприз: люди отталкиваются.
Юнги горит изнутри пламенем, почти не замечает, что теперь идет дождь: наверное, если поднять голову, он и впрямь увидит исходящий от него пар злобы и чистой ненависти, виляющий меж холодных капель дождя.
Чимин прав во всем. Кроме одного: он не ненавидит всех — есть исключение.
И больше всего он ненавидит... себя.
— Чимин... я... — слова скалятся, соскальзывают с губ с болью, содроганием...
Он и не знает, что хочет сказать, только чувствует теперь, что... что вдруг готов учиться и исправляться, если это возможно. Если ему позволят. Дадут шанс...
— Чимин, — продолжает вновь, делая полушаг вперед, — я...
— Блять! — ругается Чимин мгновенно срываясь с места, устремляясь к Мину: лицо его перекошено, разукрашено... испугом, тревогой.
Юнги в страхе оборачивается: Чон Хосок стоит почти скрючившись пополам, прижимая тонкую ладонь к носу... тонкую, разукрашенную его алой кровью ладонь к носу.
Белый Чон Хосок вдруг слабеет на глазах: ноги его ломаются пополам, и хрупкое тело летит прямиком в грязь — Юнги подскакивает тут же: даже земля под ногами вырывается клочками... все вдруг замедляется троекратно; вялые ватные ноги соскользают с земли, руки едва тянутся вперед, к бесчувственному хористу, глаза которого открыты, но... ничего не видят.
Юнги падает на землю, но в последний момент успевает подставить руки под голову Хосока.
Тот, бесчувственный, гремит костями о землю.
***
— Только не говорите отцу... не говорите ему, — мямлит в бреду хорист, пока парни тащут его обратно в школу, в медпункт... — он убьет меня... в этот раз по-настоящему, он убьет меня...
Скорее всего, он даже не отображает, где он и что произошло.
Юнги и Чимин лишь в страхе глядят друг на друга, поджимая губы, продолжая придерживать его за плечи и тащить к школе...
Резкий запах фенола — тут все вокруг им пахнет.
Ветхая стеклянная скрипящая дверь с застиранными занавесками закрывается с той стороны; бородатый врач появляется в коридоре с бумажками, что-то бубня себе под нос; выпачканные Пак и Мин тут же вскакивают с мест — пастор Дондук, хормейстер Бан Хон тоже здесь.
— Ну...? — не терпится Юнги: сердце его стучит в самом горле, звенит в ушах.
— Не стоит беспокоиться так сильно, — старый доктор в халате хлопает себя по бедру бумажками, — сотрясение мозга, судя по всему. Наиболее вероятно. Он ударялся в недавнее время головой? Может жаловался на головную боль?
Юнги молчит, слышит треск огня в себя в груди: это Чонгу. Это его отец. Это... Он не уснул тогда — дождался, наверняка. Понял, что Хосок выпивал и курил. Да еще и опоздал.
Пальцы заворачиваются в кулаки, костяшки хрустят — поэтому Хосок так странно вел себя утром... и ничего не сказал. Горло щекочет от обиды, там же надувается комок протяжного возмущения, которому некуда выйти — он так и остается висеть внутри.
— Ага... — отвечает доктор самому себе на общее молчание, — все симптомы подходящие, так что... да, с уверенностью могу сказать, что это сотрясение головного мозга. Пока будем наблюдать за ним, чтобы не было страшных последствий... Там ведь и до летального исхода... — говорит зачем-то, быстро съедая последние слова, — ...А что до крови — у мальчика просто слабые сосуды. Теперь ему нужен крепкий сон, покой, питательная еда... я дал ему совсем немного обезболивающего... проспит до вечера.
— В любом случае, нужно будет предупредить родителей, — Дондук подает голос, который сразу же выкручивает Юнги наизнанку, оседаяет на его коже мурашками.
— Сегодня его точно никуда не дергайте! — ворчит мужчина, жестикулируя, — пусть спит, бедняга, я его точно никуда не отпущу, пущай его родители делают с этим, что хотят.!
Только не говорите отцу... не говорите... он точно меня убьет...
— Он точно... будет в порядке? — Юнги сглатывает.
— Ну, если исключить дальнейшие ударения головой о твердую поверхность, то да, — он смеется, — расходитесь, расходитесь... — он прогоняет собравшихся бумажками, —никакой драмы и трагедии не произошло! Не жужжите у меня и у него под ухом, ступайте по своим делам.
Чимин делает несколько шагов к выходу, чуть замедляя шаг, чтобы подожидать Юнги; тот едва медлит... мысли его мрачные, кусачие... больные.
Он поднимает голову.
И видит черные настырные глаза, видит глаза хищника и мерзавца, видит глаза прогнившего Дондука, который выжидающе смотрит на студента, ухмыляясь.
Юнги прячет руки в рукава — трясущиеся руки в рукава.
— Бедный, бедный мальчик... — с сочувствием замечает он, вздыхая, — за ним... и правда какая-то несчастливая метка, — лицо его грустнеет, качается в сожалении из стороны в сторону, — что же скажут его родители, как я буду смотреть им в глаза, что допустил такое? — он кладет тяжелую ладонь на плечо Юнги, что отворачивает голову, чуть жмуря глаза, — вы молодцы, мальчики, — Дондук смотрит и на Чимина, — вы молодцы, что не оставили товарища в беде, — мужчина убирает руку, отдаляясь, — ступайте. Можете отдохнуть.
***
— Думаешь... думаешь, это его батя так долбанул? — Чимин стоит рядом, почти дрожит, докуривая сигарету, — пиздец.
Дождь барабанит по прогнившей крыше сарая, под которой они притаились — вечер синеет, и сумерки быстро кусают пространство здесь, на заднем дворе, окутывая все вокруг своими холодными красками и проворными колючими ручищами заморозков.
— Пиздец. — подтверждает Мин, все еще слыша жалобный сдавленный голос Хосока... который умолял не говорить отцу.
Внутри все стрекочет, щелкает, бьет, подбивает, изматывает...
В голове страшные мысли.
Еще страшнее то, что он не может их оставить.
Самое страшное, что он готов воплотить их в жизнь.
— Чимин... — Юнги поворачивает голову к блондину, чувствует, как губы почти сводит от того, что он собирается сказать, — Чимин... прости меня за то, что я такой идиот... Я...
— Я тоже идиот, Юнги, — парень сглатывает, протягивая руку в знак примирения, — я просто не знал, как... как по-другому помириться.
— Нужно было обосрать друг друга с ног до головы и заставить Хосока потерять сознание, — он грустно улыбается, чуть отходя от стенки сарая, принимая рукопожатие.
Чимин ловит взгляд пианиста: он еще никогда не видел, чтобы Мин смотрел так... Он еще никогда не видел, чтобы хоть кто-то смотрел так: решимость, смешанная с сожалением... желание расплакаться с уверенно сжатыми губами... вздернутые жалобные брови и решительные кулаки.
Что это значит...? Что Юнги задумал?
А Юнги... ничего не задумал — он просто в какой-то момент загорелся: сам не заметил, в какой.
И уже не может потушить это пламя.
***
Все тело немного побаливает, когда он переворачивается на левый бок, затем вдруг просыпается с едва слышным стоном; еще не открывает глаз, но чувствует, что в крохотной палате на четыре койки зажжена настольная лампа; из приоткрытого окна в другом конце комнаты доносится звон затихающего дождя...
Кто-то шмыгает носом. Совсем рядом.
Он принюхивается, улавливает запах... Очень слабый запах сигаретного дыма смешанный с резким ароматом церковного масляного ладана. Глаза открываются медленно, и Чон чувствует, что голова его горячая и тяжелая, как будто бы она совсем не шевелится: ее точно загипсовали...
Он, крохотный, сидит на полу, прижимает колени к груди, почти что забивается в угол между прикроватной тумбой и свободной кушеткой напротив, что придвинута к стене.
Взгляд и перед собой... и в пустоте... и внутри себя.
— Юнги? — слабо клацает словом, привлекая внимание, — ты... чего тут?
Хосок хочет потереть глаза и вглядеться в лицо пианиста: ему кажется... или его глаза действительно... суженные, красноватые...? Лицо чуть чуть припухшее?
Мин Юнги что... плакал?
— Ты как? — голос хрустит в тишине.
Юнги звучит как-то иначе... его голос... будто сломленный, охрипший.
— Что... произошло? — он потирает затылок, ложась обратно на подушку, вспоминая последние мгновения перед тем, как отключился, — Боже правый... — он пугается, видя в голове последние картинки перед отключкой, — мы же не принесли запасы картошки от старика Чонина?! Как теперь...?!
Юнги слабо смеется, потряхиваясь всем телом: смех беззвучный, спокойный, размеренный...
— Это действительно... первое, о чем ты подумал? — Юнги улыбается, чуть ведя головой.
— Но мы же должны были... мы... — волнуется он, потирая висок, — а я... сейчас...
Чон Хосок почти что вскакивает с кровати, округляет узенькие заспанные глаза: если бы его голова не казалась размером с Луну, которую вылили из чугунного сплава, а тело не неприятно бы стягивало, он бы уже начал одеваться и собираться домой:
— Я...! Юнги... мой...
— Не беспокойся о нем, — спокойно заверяет Юнги чуть выпрямляя спину; он пододвигается к кровати Хосока чуть ближе, начиная опираться о его тумбу уже всей поверхностью спины, — он... не знает.
— Не знает? — удивляется парень, хмуря бровки, — как же так? Отец уже давно должен был потерять меня...
— Говорю же — не беспокойся. Пастор Дондук... обо всем договорился, — кусает щеку изнутри.
— Пастор Дондук? Решил мне помочь...? Он же ненавидит меня! — Чон совершенно путается.
— Почему ты так думаешь?
— Ты разве сам не замечаешь? — он тяжело вздыхает, — в любом случае... это не играет роли. Значит, отец прибьет меня чуть попозже... — Хосок уже будто принял свою неминуемую участь.
— Хосок... — голос Юнги становится уж совсем тихим: пианист переводит взгляд на хориста, и Чон вдруг видит, что глаза его... действительно красные, — что... что произошло, когда ты вернулся домой? — он шмыгает носом, — он же... он же дождался тебя... Расскажи мне все, — парень переводит взгляд перед собой — потом медленно закрывает уставшие веки; сцепляет свои ручки перед собой в замок.
— Конечно...ну... ну, конечно, он не спал, — Хосок подается чуть вперед — находит твердую металлическую перекладину кровати и устраивает свое лицо на ней, пока остальное тело тонет в непривычно мягких скрипучих пружинах кушетки, — конечно, он...
Он не может не спать, конечно, он не будет спать.
Но сына встречает все равно не Чон Чонгу, а то, что сидит внутри: мерзкое, склизкое животное, на колючий скелет котрого нанизана мерзкая жидкая субстанция. Монстр.
Мысли Хосока трезвы, но тело непослушное, неуклюжее, глупое, вонючее от алкоголя и сигаретного дыма, мышцы на лице до неловкого расслаблены, глаза бегают по гостинной, пока не упираются в его угрюмое тело, сидящее в кресле.
Он почти сразу слышит, как звенит воспитательный ремень в его толстых волосатых пальцах. Он почти сразу слышит в собственных ушах его будущий сдавленный вой... может, когда пьяный, боль не так ощущается?
Чон не особо помнит, говорили ли они: кажется, он начал избивать с порога, обзывая самыми грязными ругательствами, плюясь своей ядовитой слюной, сжигая его своим ястребиным взглядом. Спина горит красными полосами воспитания, кожу немного сдирает от металлических праведных вставок для лучшего усвоения советов отца.
Хосок в какой-то момент чувствует то, как сильно Чонгу его действительно ненавидит — по-настоящему, без шуток. Ненавидит настолько сильно, что хрустит собственной челюстью, настолько, что не жалеет ни сил, ни времени на то, чтобы прибить его к стенке; в какой-то момент они уже оба не вспоминают причину, по которой все это началось.
В какой-то момент Чонгу действительно начал... начал просто вбивать его голову в стену, заламывая тонкие руку за спину. В какой-то момент вместо слов и воспитания осталось только шипение и сводящая с ума злость, которая будоражит его так, что стирает все здравые мысли — если таковы еще остались в его пропитой голове.
Хосок шипит и извивается, он кидается словами и брыкается, но он все равно что крохотная галька против огромного валуна, о который разбиваются волны.
Хосок шипит.
И бросает то, что он не хочет, чтобы этот монстр был его отцом.
Бросает то, что не хочет знать его.
Что хочет поскорее увидеть, как он сдохнет в мучениях — и пока он будет смотреть, он будет наслаждаться этим зрелищем.
Чон Чонгу слышит все это явно, хватает эти звуки и усаживает в самый дальний уголок сердечка, в самый темный угол... сжимает Хосока со всей силы и финальным ударом отправляет его голову в стену.
Он теряет сознание.
Еще раз.
— Он... он... — Юнги сдавленно дышит — пальцы царапают колени; Хосок видит, как лицо парня вдруг краснеет, — не человек... он...
— Знаю...
— Но... зачем ты соврал мне, Хосок? — он поворачивает голову, — разве... мы не друзья? Ты не можешь мне довериться?
— Я... Юнги... это... сложно, — он чуть поднимает голову вверх по перекладине кровати, глаза оказываются почти на уровне Юнги, — ты... ты первый, кому я... вообще...рассказал все... — голос вдруг исчезает; появляется шепот, — я... не хотел, чтобы кто-то беспокоился. И я не хотел... — выдыхает, — да стыдно мне просто. Тяжело и стыдно. И не говори, что не понимаешь меня.
Хосок аккуратно кладет свою руку на перекладину, устраивает ее почти рядом с лицом, пальчики аккуратно сжимают матрац; лицо Юнги всего в паре сантиметров...
— О... о чем ты...? — Юнги отчего-то теперь тоже шепчет: аккуратно опирает макушку о дверцу тумбочки. В глаза смотреть страшно, но он... он смотрит.
— Ты о чем-то молчишь мне, Мин Юнги, — он шмыгает носом, всматриваясь в лицо, — но я не прошу говорить... только тогда, когда захочешь. И если захочешь.
Надеюсь, Хосок, ты... ты никогда этого не узнаешь.
— Так... что там с моим отцом? — он перемещает голову обратно на подушку, чуть закрывая тяжелые веки, чувствуя, что вот-вот опять уснет из-за лекарств, — почему... мне не стоит беспокоиться о нем?
— Потому что... я... — тихо-тихо шепчет, кладя голову на ту же перекладину, где только что было лицо Хосока, — обо всем... договорился...
— Не... не нужно, — Юнги вытягивает руку перед собой, сбрасывая набранный номер на проводном телефоне на столе пастора.
Влажный после дождя, он быстро дышит — входная дверь в кабинет за спиной еще не успела до конца раскрыться: Юнги понимает, что успел в последнее мгновение; он почти влетел сюда.
— С какой это стати? — пастор отодвигает трубку от лица, улыбается, — его родители... наверняка переживают. Я должен сообщить, Юнги.
Пианист спиной подходит к двери, закрывает ее, запирает замок.
Дондук довольно откладывает трубку, чуть опирается о свой стол, внимательно глядя на Юнги перед собой: тот боязливо прячет взгляд, быстро дышит... глаза мужчины блестят — он проходится ими по его влажным волосам, по мокрой одежде, по грязным после падения брюкам.
Он видит, как ученик дрожит, как боязливо делает шаги вперед, как ковыряет собственные пальцы:
— Придумайте что-нибудь, — подходит, шмыгая носом, — соврите. Скажите, что угодно, чтобы его отец поверил в то, что... Хосок не сделал ничего дурного.
Голова Юнги кружится, но на этот раз он не убежит и не уйдет — он все для себя решил, он...
Не позволит Чонгу еще раз тронуть Хосока. Он сделает все, чтобы хоть как-то помочь ему.
Почему?
— Для чего мне это делать, почему? — пастор будто не понимает, игриво скрещивает руки, вонзает собственный клык в нижнюю губу, закусывая.
— Потому что я прошу вас, — Юнги застывает перед его высокой фигурой, стыдливо прячет взгляд в пол, — потому что я сделаю... то...
Комок подкатывает к горлу.
— То... то вы любите.
Холодная рука боязливо ложится на торс мужчины, угловатые пальчики сжимают талию пастора с двух сторон... чуть ведут вниз, к бедрам.
— Я и правда стану самым послушными, — его язык жжет, его голос трясется, но он опускается на колени, сдерживая округляющиеся слезы на глазах, — я буду прилежным...
Дондук запускает свои пальцы тому в волосы, неприятно сжимая, притягивает его голову к паху, — Юнги тянет руки к ширинке... трясясь, расстегивает ремень, пуговку...
— Я... — Юнги и сам не верит в то, что говорит, но...
...Но тот живительный пожар, который разжег в нем Хосок, отчего-то сильнее холодного пламени, которым уничтожает пастор Хён Дондук.
— Я буду приходить к вам чаще... — член этого извращенца встает за считанные мгновения — Юнги видит это, сдерживая хныч, из последних сил удерживая слезы, хотя знает: это только больше возбуждает пастора, раззадоривает его.
Он снова сглатывает, но слезы со стыдом начинают катиться по щекам: горячие, обжигающие, как будто оставляющие шрамы... Юнги чувствует, как пастор притягивает его к паху, но он едва сопротивляется, сначала кладя руку на член, массируя его через нижнее белье, отводя лицо вбок, чуть дальше...
— Я не буду припираться, — он шмыгает, усиливая свои нажатия, облизывая нижнюю губу, вытирая слезы другой рукой, слыша, как эта мразь начинает довольно кряхтеть, сгибая спину, — но сделайте так, чтобы Хосок не возвращался домой, — теперь он плачет по настоящему, чувствует, как на подбородке собираются слезы и сопли, — сделайте так, чтобы Хосок остался в школе, сделайте так, чтобы его идиотский отец был как можно дальше от него... Вы же сможете...
— Смогу, мой мальчик... смогу, — он обхватывает его голову уже с двух сторон: Дондук говорит почти в исступлении, в сладостном предвкушении, он как-будто не в этой комнате — в другом измерении: скулеж и плач для него — неземное наслаждение.
Он облизывается, дожидается, когда пальцы Юни заползут под резинку трусов, потом приспустят их на бедрах.
Член почти что упирается Мину в лицо. Он содрогается всем телом, чувствует, как пастор выпячивает к его лицу свои бедра, подставляется, начиная упираться ему в щеку.
Хён берет свой пенис в руку, приближая к губам младшего, за волосы поднимая его голову, почти что целясь в рот...
— Поклянитесь, — он плотно сжимает губы, закрывая глаза: лучше это не видеть, лучше это не видеть... закрыть глаза, выйти из собственный головы, представить, что это не твое тело, представить, что ты где-то очень далеко, что все это... страшный сон, — поклянитесь Господом Богом, что сделаете так, что Хосок останется в школе...
— Клянусь... клянусь, мой мальчик, — нетерпеливо сглатывает, надавливая пальцем на красную головку, — я когда-нибудь тебя обманывал? — ехидно улыбается, нетерпеливый голос срывается, — открывай... открывай уже свой рот... возьми его.
Юнги... открывает рот. Покорно.
Чувствует... чувствует себя самым ужасным человеком, самым грязным, самым отвратительным... Он принимает пульсирующий член пастора. Сжимает губы... начинает двигать головой, пока мужчина над ним возбужденно пыхтит, двигает бедрами, сильнее сжимает пальцы в волосах.
Юнги еще потом долго плачет.
И его, как всегда, выворачивает наизнанку, тошнит до тех пор, пока не начинает выходить желчь.
Как и всегда он потом берет слегка туповатый нож и...
Но в этот раз есть кое-что иное. Кое-кто иной.
Он идет в медпункт.
— Ты вообще больше ни о чем можешь не беспокоиться, Хосок, — Юнги наклоняет колени к перекладине кровати Чона, упирает их на нее, кладет сверху свои пальцы — они... все расцарапаны. В заусенцах... с обгрызанными ногтями.
Пальцы Хосока в считанных сантиметрах — он почти физически ощущает, как от них веет теплым пожаром... который Юнги хочет потрогать, погреться о него.
— Пастор сказал мне, что сможет устроить тебя в наше... общежитие, — шмыгает носом, — есть одно свободное место, — ты сможешь жить прямо в школе... подальше от отца...
Хосок уже почти сопит, кажется, совсем не слышит его: рот чуть приоткрыт, пальчики едва дергаются — наверное... наверное и правда уснул.
Юнги приближает свои руки еще ближе... тянется... ближе, пока не прикасается к согнутым пальцам, пока расстояния между ними нет вообще, пока спящий крохотный огонек Хосока не начинает греть израненные ледышки Юнги...
Чон едва вздрагивает, просыпается, но не открывает глаз...
— Юнги... — он сглатывает, устраивая голову поудобнее на подушке, — Юнги... я решил. Я больше... я больше никогда не буду слабым... мне надоело... это все... я буду си... сильным.
Мин бы и хотел что-то сказать в ответ, да только Хосок сразу же засыпает — почти мгновенно. Парень тихо сопит совсем над ухом пианиста...
Да и все его слова как-то все потерялись, когда пальцы Хосока крепче обхватили его собственные... крючками зацепились за них...
Юнги обхватывает их, закрывает глаза.
Конечно, ты будешь сильным, Хосок.
Ты уже.