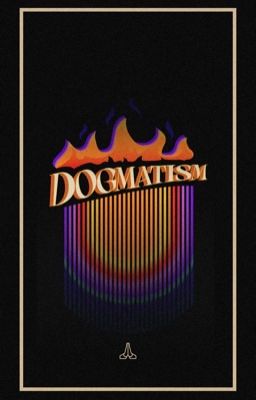9: Даруй ему Мир
«Милостиво даруй нам мир
Господи Боже, в наше время,
нет никого другого,
кто мог бы сражаться за нас
кроме Тебя, нашего Бога, одного»
В этом доме почему-то всегда тихо и спокойно: возможно, потому что он бывает здесь только днем, когда взрослых в доме нет? Интересно, в доме Мунов вообще бывают звуки ссор, крики, споры? Такое возможно, чтобы в семье... друг друга понимали?
Хосок прерывается от чтения книги на самое мгновение, задерживая взгляд перед собой. Поясница и задница немного побаливают от долгого сидения на полу, от того, что он сидит так уже который час, опираясь о тумбу. Подминает ноги, сгибая их в коленях, пока взгляд неосознанно останавливается на Йонг Мун, что лежит на животе здесь же, на ковролине перед ним, листает какой-то девчачий журнал, наматывая прядь волос на палец, покачивая скрещенными в воздухе ногами.
Медленно взглядом он ползет по ее фигуре: от прядей волос к шее, напряженным лопаткам и локтям, о которые она опирается, падает ниже, к изящному прогибу поясницы, потом еще дальше... к... к ее...
Он внезапно одергивает себя, прочищает горло, снова утыкаясь в книжку, чувствует, как чуть загораются щечки: хоть бы она не заметила, хоть бы не заметила... она же не заметила?
— Он читал уйму книг, — продолжает читать Хосок вслух, прочищая горло, — и они лишь обостряли его беспокойство. Каждая страница каждой книги была щелкой, позволяющей заглянуть в царство знаний. Чтение разжигало аппетит, и голод усиливался. Притом Мартин...
— Ах, я сейчас усну, — прерывает девушка, откладывая журнал, переворачиваясь на спину.
Хосок пытается не смотреть на нее. Совсем-совсем, но... но взгляд сам ложится на нее аккуратным веером через желтые страницы книжки, опять проходится по длинной шее ниже... к ее небольшой груди. Йонг зевает и, разводя и приподнимая руки перед собой, потягивается, чуть прикрывая глаза. Чон почти что подглядывает, еще больше прячется за книжкой, пожевывая нижнюю губу. Что это еще за глупости он удумал?
— Что тебе эти книжки? — она тянется рукой к книге, лениво приподнимаясь, — скоро сам станешь, как этот Марвин...
— Мартин, — усмехается, поправляя, — это же классика..?
— Знаю, читала, — улыбается, — знаешь, чем он кончил?
Он лишь молчаливо мотает головой: он читал не шибко много книг за свою жизнь, отчего даже стыдно — обычно, отец заставляет читать церковные текста и Библию, а не светскую литературу «дураков-вольнодумцев».
— Он прочитал много книг, понял всю жизнь и... — Йонг улыбается, окончательно забирая книгу из рук парня, — и жил долго и счастливо.
— Что-то мне слабо верится, — лукаво щурит глаза.
— А ты поверь, — девушка пересаживается на колени, придвигаясь ближе к Чону, — доверься мне, Чон Хосок.
Неловко как-то, ужасно неловко, до головокружения в голове, до пересохшего горла, до желания выбежать из этого дома. Он ведь... никогда ничего не делал с девчонками... и... а что... а как?.. А надо...? Чего она хочет? Так странно ведет себя... и почему он пялится на нее...?
Чон вжимается в тумбу за собой еще больше, притягивает к себе длинные ноги, сгибая их и приближая к груди, пока сердце церковным колоколом трезвонит его тревогу и испуг: ну, дурак... всего лишь девчонка же, что такого?.. Интересно, это сильно заметно..? Сильно заметно, что он дурак?
Йонг расслабленно присаживается рядом, опираясь о кровать, чуть улыбается, тоже сгибает колени:
— Я рада, что мы теперь друзья, Хосок, — она улыбается, глядя перед собой, кладет свои руки на колени, — мне кажется, что с тобой я могу не притворяться... могу рассказать тебе все, и ты поймешь.
Чон едва подергивает плечом: они, и правда, быстро сдружились — не думал он, что после той внезапной ночевки у Йонг, он будет завсегдатаем дома Мун.
— Поймешь все, что не дает мне покоя и... бесит, — прыскает, — и не станешь осуждать.
— И что же тебя бесит? — пытается расслабиться, выдыхая, — моя привычка читать вслух?
Она только бросает в него колкий «Ты издеваешься?» взгляд, потом снова поворачивает голову перед собой, чуть поджимая губы:
— Я ужасна, я знаю, — вздыхает, — но меня бесит моя сестра Ёнджи... — сглатывает, отворачивая голову от Хосока еще больше, будто боясь его укоряющего взгляда, хотя знает, что его не будет, — но она... она во всем лучше меня. Мама любит ее больше, папа гордится ей... умница, красавица, а я...? — начинает ковырять пальцы, — гадкий утенок. Когда у нас эти дурацкие званные ужины, меня как будто даже не существует, только везде эта Ёнджи... а когда мы у вас в школе... все мальчики смеются надо мной, потому я... ну никакая... глупая... некрасивая...
— Ты... — пытается вставить Чон, но Йонг прерывает:
— Я не преувеличиваю, это правда! — повышает голос, — Я сама не раз слышала, так что... Самое обидное, что она крутит мальчишками только так, а они даже не понимают этого... — обнимает себя руками, — взять хоть этого вашего пианиста... Юнги? — вздыхает, — я как-то раз видела его здесь, когда... когда дома никого не было. Они были... Ладно, это я так, к слову...
«Это я так, к слову» укалывает Хосока куда-то под ребро. Почему-то... мысли распыляются, но боятся заходить далеко, но ведь... это ведь, в конце концов... нормально? То, что Юнги и Ёнджи, что они... ну...
— В общем, я ей завидую, — признается, опуская голову, — и это меня бесит... и... вообще все это... но иногда... я так по ней скучаю... раньше мы были дружны, но потом что-то произошло, и теперь... — вздыхает, — я как будто разрываюсь, Хосок.
Наверное, он может понять ее. Он может представить, как ей плохо. Наверное, он хотел бы ее утешить, сказать правильные слова... они же, в конце концов, друзья..?
Руку поднять почему-то неожиданно трудно, приходится приложить усилия. Она, почти дрожащая, похолодевшая, вдруг опускается на ее напряженную ладонь, что лежит на колене — Чону слишком не по себе, слишком неловко, ведь... ведь...
— Ты самая потрясающая девчонка из всех, что я знаю, — тихо говорит он, не смея поворачивать голову, пытаясь держать голос под контролем, — храбрая, добрая... безумно добрая... тогда, когда ты пустила меня переночевать к себе... разве это не круче какой-то там красоты.? Ведь твое сердце... — он прерывает себя, прочищая горло, чувствуя, как большой палец Йонг вдруг начинает переползать на его ладонь: ой, мамочки, что же это... — И ты... красивая... очень. Те, что болтают про тебя что-то — полные дураки, но их нужно только пожалеть, что они не знают, какая на самом деле Йонг Мун классная...
Йонг Мун пересаживается на свои колени, чуть приближаясь к Чону: лицо ее бледно, лишено эмоций, но вот глаза... глаза полны благодарности и... и чего-то еще, что Хосок не в состоянии понять; он только чувствует, как она сильнее сжимает его руки, чувствует, как она приближается к нему, чувствует, как сердце стучит в самой глотке — он совсем не дышит, только чуть выпрямляет спину, тоже приближаясь. Голова кружится, ведь сейчас они... сейчас они...
Поцелуются.
— Йонг...я... я... не... — сорвано щебечет он шепотом, понимая, что девушка вот уже совсем близко...
— Все в порядке... — улыбается, притягиваясь.
Время останавливается на самую секунду, когда Йонг задерживается прямо перед его губами, чуть прикасается к его носу своим, продолжая цепляться за его пальцы. Мысли стираются ластиком, в голове больше ничего нет, кроме биения собственного сердца — когда он чувствует ее дыхание на своих губах, не слышно теперь даже его.
«Она уже точно целовалась с кем-то, точно» — панически проносятся в мыслях хориста, — «она поймет, что я неумеха, и пустит на смех... подумает, что я неудачник. Ужасно, ужасно...!»
Почему-то, но Чон сам приподнимает голову, тянется навстречу, и когда их губы, наконец, соприкасаются, он выдыхает... Он не расслабляется, следит за собственными ощущениями и тем, что делает Йонг... Это оказывается приятно... Очень приятно.
Девушка чуть наклоняет голову, и мягкие ее губы лепестками цветов проходятся по его: то льнут, то отдаляются — мягко-мягко; он столбенеет на какое-то мгновение, чуть прикрывая глаза, замирая, пока она медленно шевелит губами, чуть изменяя положение головы, приближаясь. Чон держит ее за руки, которые лежат у них на коленях, почти не дышит, снова вытягивая голову, подставляя губы.
Что-то трескается в груди, расплывается сладким вяжущим нектаром, стекает к низу живота, греет — он приоткрывает губы почти неосознанно, интуитивно, чувствует самый кончик ее языка, пока все тело покалывает иглами — какими-то очень маленькими, крохотными, взъерошенными, что он и сам трясется на каком-то микро уровне.
Йонг разрывает поцелуй, улыбается, прислоняясь к его лбу, чуть опускается на коленях вниз. Его рука все еще в ее руке, но теперь она горячая, хоть все такая же бессильно слабая, как будто кости растворились, утекли куда-то вниз, к полу.
Хосок глупо улыбается, краснея, поджимая губы, облизывая их собственным языком, а Йонг лишь глупо хихикает, крепче переплетая пальцы:
— Это ведь было не слишком плохо? — щеки рдеют, и он, стесняясь, вжимает свою шею, опять прикусывая нижнюю губу — посмотреть на нее опять кажется невозможным, взгляд избегает ее, но отчего-то так сильно опять хочется поцеловать ее, почувствовать ее ближе...
— Это было очень хорошо, — она выдыхает, чуть склоняя голову, — неужели ты ни разу не целовался...? — сбивчиво Чон качает головой, — это ничего, — успокаивает девушка, поглаживая большим пальцем по ладони, — это очень мило... ты — милый, — прикусывает губы, чуть приближаясь, — я научу тебя, — шепчет, замирая перед лицом, — но... но скоро родители придут. Хонг и Чанвук сегодня позвали на небольшую тусовку. Ты знаешь, они уже почти как взрослые. Зайдем к ним ненадолго?
***
Так странно держать девчонку за руку — теперь, кажется, свою девчонку за руку. Они теперь... встречаются? Они теперь парочка..? Хосок так до конца это и не понял — не особо много было времени на разговоры, когда губы оказываются заняты другими губами. У них была... практика.
Целоваться, оказывается, не так сложно. Немного мокро и слюняво, но... но как же это приятно — да и Йонг вся сама целиком какая-то... приятная? Он аккуратно смотрит на нее из-за плеча, смотрит на ее опадающие на лицо волосы, на укромную улыбку алых губ, спускается к их сцепленным рукам, глупо хихикает про себя. Да, кажется, у него теперь и правда есть девчонка... а что делать дальше? Как себя вести? Нужно как-то ухаживать за ней..? Что-то... что-то делать еще?
«Боже, какой же я неловкий, я же ничегошеньки не знаю, а у кого мне спросить, а что мне делать? Ох, дурень. Дурень, дурень, дурень...»
— Ты чего? — она глухо хихикает, замечая его напряженное лицо, — задумался?
— Нет, все хорошо, — ведет плечом, улыбаясь, глядя перед собой: просто ему нужно немного привыкнуть... но сказать он ей этого почему-то не может.
Сгусток вечера ляпает все вокруг; промозгло, влажно. В окнах домов рядом горит свет, и Чон неосознанно вздыхает с содроганием, тут же вспоминая про свой дом и что скоро ему нужно возвращаться назад. Все это время отец его не трогал, даже избегал. Все удивительным образом... идет хорошо.
Но он, запуганный, всегда оставляет место страху и опасениям — нельзя забывать, откуда он и где находится его дом. Когда-то все это может закончиться — должно закончиться. Монстр не может так внезапно стать человеком, и когда-то он вновь проснется. Но когда? И будет ли он в этот момент рядом? Может ли он вновь стать причиной пробуждения? Мурашками по нему пробегается волнение, и он краем глаза глядит на часы: есть еще целых два часа до возвращения... еще полно времени для того, чтобы чувствовать себя обычным подростком, а не грушей для битья.
Йонг, усмехаясь, чуть ускоряет шаг, опережая, начиная тянуть Хосока за собой, и парень видит впереди небольшой двухэтажный домик перед собой; смеется в ответ тоже, но так глупо, сухо, тихо: он ведь никогда не ходил на вечеринки, ничем таким не занимался, он ведь... хороший, прилежный мальчик.
Внутри шумно, из магнитофона играют какие-то безобразные матерные песни, и так много людей, что поначалу Хосок теряется, едва прикусывая язык. Сначала их почти не замечают, и Чон аккуратно проходится взглядом по гостиной: много парней, девушек и все так намного старше — да здесь одни студенты, а, может, и вообще выпускники...! Но Йонг чувствует здесь себя почему-то так комфортно, так легко, всех знает. Это коробит, не успокаивает...
«Расслабься, расслабься, расслабься... Хорошо, давай уйдем минут через 20? Никто не заметит все равно... Даже лучше, если ты вернешься домой раньше...»
Много выпивки, громких разговоров, смеха. Чон понимает, что он здесь — чужой, словно бельмо в глазу, словно пришелец из другого мира, выходец из другого измерения, где мирно сосуществует прилежная тишина храма, собственный спокойный голос, ведущий к Богу и священным писаниям; он оттуда, где пахнет ладаном, а не сигаретами; оттуда, где на скромном столе хлеб и рис, а не бутылки с алкоголем. Все это... слишком грязно — хочется вымыть руки.
Он видит знакомые лица Хонга и Чанвука, что всегда держатся друг рядом с другом: Чон быстро обводит их взглядом, молча здоровается одним кивком головы, видит довольную усмешку на лице высоко.
«Я же говорил, что мы еще увидимся» — стреляет тот взглядом, и Чон смущенно отводит взгляд.
— Они все хорошие, правда, — Йонг подает Хосоку стакан с выпивкой, — когда ты познакомишься с ними поближе... ты поймешь.
Но Чон не отвечает, что не хочет знакомиться с ними ближе — от таких людей всегда одни неприятности: так мама говорит...
Рука его принимает стакан с дешевым портвейном, и он, принюхиваясь, чуть кривит носом: алкоголь — это плохо. А если отец узнает? Он чуток на такие вещи, он обязательно узнает... И тогда, тогда...
«Но отца тут нет, правда? Ни его самого, ни даже его тени. Он не узнает, если ты сделаешь маленький глоток, если ты совсем немного попробуешь... Все пьют — даже Йонг...»
Он аккуратно смотрит на девушку, все еще сомневаясь, но рука сама притягивает стаканчик с жидкостью к губам, сама прислоняет его к ним, сама поднимает, и он смиренно проглатывает, чуть скукоживая лицо — крупные мурашки бьют по телу, а уши, кажется, моментально краснеют: и что люди находят в выпивке? Зачем пьют, если на вкус она такая гадкая.? Для чего...? Это же... невкусно.
Кто-то вдруг почти падает на него из-за спины, опаляя градом похлопываний и каким-то почти смазанным восторженным криком приветствия — Хосок почти что давится, почти выплевывает все изо рта, встревоженно оборачиваясь: кто это может быть... Он же никого не знает здесь?
Но лицо человека оказывается для него вдруг тоже странным приветом из его мира — из его тихого блаженного мира...
— Чонгук? — он удивляется, хмурясь, — ты... чего тут?
— Я же на выходных могу выходить в город, забыл? — он усмехается, продолжая хлопать того по плечу, — это тебя тут странно видеть! Ты... ты как тут?
— Я... ну... — взволнованно он кивает в сторону Йонг, почти краснея, только сейчас замечая, что они все еще держатся за руки — теперь вся школа узнает...
— А, — понимающе усмехается, делая шаг назад, — привет... Йонг, — поджимает губы, — значит, сестры Мун сегодня в полном комплекте?
— Что? — опускает она плечи, — Ёнджи тоже здесь? Она же... она же ненавидит такие сборища, каждый раз меня ругает, что я хожу на них! Врушка...
— Ну, конечно, где ей еще быть, я же... — он посмеивается, потом чуть прикусывая губу, — я просто в этот раз здесь не один... — он распрямляет спину, почесывая затылок, — Юнги... Доебук отпустил вместе со мной... — мнется, — чтобы типа присматривал за мной и все такое, хотя, кажется, это за ним нужно присматривать.
Юнги тоже здесь. Тоже тут.
Как-то очень странно это действует на Хосока... сначала он радуется, почти улыбаясь, но потом сглатывает. Наверное... наверное, сейчас он очень занят.
Ёнджи ведь тоже тут...
— Поднимались с Ёнджи на второй этаж, — шепчет на самое ухо так, чтобы слышал только Чон, лукаво хихикает, — вы с Йонг следующими пойдете?
Чонгук шутит — Хосок знает это, но так неприятно становится. Все это так грязно, так ужасно, так... неправильно. Он смеется в ответ так, будто это не задевает его, да и почему это должно задевать, почему? Люди их возраста... так и общаются.
Он тянет стаканчик с выпивкой к губам, делает большие глотки: поскорее бы этот вечер закончился. Поскорее бы домой, хотя он почти никогда этого не желает.
Почему-то ему совсем-совсем не хотелось знать, что Юнги сейчас с Ёнджи на втором этаже.
***
Интересно, каково это иметь собственный дом? Собственную постель с собственным постельным бельем, отдельную ванную, которую можно закрыть на замок и не бояться, что может войти кто-то посторонний и отпустить какую-нибудь сальную туалетную шутку про дерьмо или дрочку?
Юнги часто думает об этом, часто представляет, каково это.
Наверное, это чувство — лучшее из всех существующих: просто знать, что где-то на Земле у тебя есть свое место, в которое ты можешь вернуться... Свое место.
Наверное, это чувство — лучшее из всех существующих. Наверное. Юнги не знает этого, потому что никогда не испытывал ничего подобного. Он пытается представить, что может чувствовать Чонгук, который на выходных возвращается к своей тете, который проводит свое время с двоюродными братьями... Каково это — быть... не одиноким? Быть частью чего-то? Разговаривать о самом себе, потому что ты можешь быть кому-то важным, потому что кому-то не все равно на твое существование?
Он буравит взглядом белый потолок над собой, окрашенный синей дымкой темноты, ощупывает пальцами сухую ванную, в которую уселся, свесив ноги за бортик, и так до смешного глупо, но он представляет себе, что у кого-то есть возможность принять ее почти в любое время суток: просто дверь открой и воду набери...
Мин выпускает сигаретный дым из легких — он увиливает в открытое настежь окно, но без толку: тут еще долго будет пахнуть куревом, но родителям Хонга почему-то все равно — наверное, потому что Хонг уже взрослый, поэтому на таких вечеринках все курят там, где захочется.
Будь это его дом, он ни за что не позволил бы...
Когда-нибудь, когда у него будет свой дом и своя семья, он обязательно...
Почему-то хочется удавиться: на душе тяжело и совсем не становится лучше — наоборот, с каждым днем все хуже и хуже. Темнее. Холоднее.
Дверь в ванную открывается, наверное, уже раз пятый подряд, но он лишь протяжно и тяжело вздыхает, сжимая сигарету меж пальцев:
— Свалите, — плюхает он, — занято.
Хосок замирает в нерешительности, потому что узнает голос Юнги с первого звука, с самого первого «С» в его неприветливом пожелании закрыть дверь с той стороны. Он может уйти, и Юнги даже не узнает, что он был здесь.
Ему надо уйти, потому что очевидно, что Мин сейчас никого не хочет видеть и не хочет ни с кем разговаривать.
Но Хосок... не хочет уходить.
— Мы теперь всегда будем встречаться с тобой в туалете? — звонкий голос Хосока усмехается в темноте, и Юнги почти что прикусывает губу, удивленно поворачивая голову.
Чон закрывает дверь, проходя потом в ванную глубже, а Юнги лишь бессильно опадает на стенку ванной, снова затягиваясь.
Хосок останавливается прямо перед ним так по-глупому улыбаясь и кивая головой, что Юнги безвольно качает головой в ответ, пытаясь спрятать улыбку: возможно, Чон Хосок — единственный сейчас человек, которого он не хотел бы прогонять. Почему-то.
— Ты пьяный? — улыбается Юнги, чуть склоняя голову.
— Возможно, — он подергивает плечами, — не особо в этом уверен, потому что, вроде как, весь мир как будто бы прежний... — смеется, — ладно, возможно... самую-самую малость я выпил... чуть-чуть, — он отмеряет пальцами длину, которая, судя по всему, обозначала количество выпитого алкоголя, — на первом этаже туалет занят уже миллион часов, так что...
— Мне выйти?
— Я хотел просто помыть руки... — он проходит к раковине, открывая краны, — мне кажется, я весь пропах сигаретами, ужас... А ты чего здесь? Все веселье внизу. Какие-то парни на спор пьют по целой бутылке... хм... не знаю, что это. Виски?
— Мне там не весело.
— Наверное, здесь, в темноте, в туалете, веселее в разы, — он усмехается, отряхивая мокрые руки, — могу присоединиться к твоей безудержной вечеринке?
Он не ждет приглашения или согласия — почти что плюхается в эту же ванную рядом, посмеиваясь: тогда Юнги понимает, что Чон все же достаточно пьян, что даже... забавляет?
— Что ты тут вообще делаешь, Хосок? — тихо удивляется, глядя перед собой, — я думал, такие места — не для тебя.
— Ну... — посмеивается, переплетая собственные пальцы, кладя свою голову на бортик в ванной, — вроде как... меня сюда... позвала... моя... девушка, — он так глупо смеется, совсем не замечая, что эти слова вдруг заставляют Юнги повернуть к нему голову и нахмуриться.
Его... его кто?
— Йонг Мун, — объясняет, поворачивая голову.
— Боже...
— Она хорошая.!
— Не сомневаюсь, — Юнги затягивается, неаккуратно добираясь мыслями до воспоминаний, в которых тоже участвует Мун — другая Мун... но мысли он эти прогоняет, не позволяет им завладеть им. Ничего не было. — И как же так вышло, ловелас?
— Лове... — смеется, — ловекто? Как-то... как-то само собой... естественно. Это хорошо, потому что я всегда и думал, что так и должно произойти... ну... легко? Понимаешь?
Корежится внутри: не понимает.
— Ага, — бросает на воздух, — ну... поздравляю...
Почему-то воздух в легких почти скрипит и слова так натянуто вылетают, почти выпадают с языка: сказал, потому что так, вроде бы, принято говорить...
Хосок какое-то время молчит, тоже поднимая голову к потолку, думая о чем-то; Мин кладет голову рядом, спокойно выдыхает. Здесь, в ванной с открытым оком он почти продрог, а от Хосока веет теплом: почти хочется придвинуться ближе, погреться о него... Можно даже не говорить — и так хорошо. В темноте. В молчании. Когда рядом есть еще одна живая душа.
— Юнги, мне так неловко, — вдруг подает голос младший, надеясь, что в комнате темно настолько, что его загоревшиеся щечки нельзя будет разглядеть, — но я такой дурень, я ведь... я... это моя первая... девчонка... я вообще... не знаю, что делать.
Хосок говорит это Юнги, потому что почему-то знает, что Юнги никому не разболтает и ни за что не посмеется над ним. Он говорит это Юнги, потому что в какой-то момент — сам не знает какой — этот пианист стал ему вдруг близок. Стал вдруг тем, с кем хочется разговаривать и с кем можно поделиться тем, что... что лежит глубоко в душе и тем, что порой сам с собой обсудить не можешь.
— С поцелуями я уже разобрался, — он смеется сам над собой, продолжая, — с языком и всяким таким, вроде, тоже уже понятно, а...
— Чон, — Юнги тихо посмеивается, — ты спрашиваешь любовного совета у меня? Я ведь и сам... никудышный. Вроде как, опять расстался с Ёнджи...
Расстался...?
— Ну, а если не в плане чувств — это, понятное дело, само собой, — ему отчего-то не хочется задевать тему со второй сестрой Мун, — а в плане техники... — он поворачивает голову, сглатывая, — ну...
— Ты о сексе?
— Господь с тобой! — он моментально багровеет, обхватывая собственные пальцы, моментально начиная теребить их; отворачивает затем голову, чем вызывает новый непроизвольный смешок Юнги — добрый смешок Юнги, — я...я... ну... Всевышний!
Они оба вдруг начинают смеяться — тихо, спокойно... естественно.
— Я... о... прикосновениях, — он приподнимает свою руку перед собой, шевеля пальцами, — Об объятиях... Что им обычно нравится? — сглатывает, — я же должен как-то ухаживать за ней теперь? Цветы? Свидания, прости Господи?! Откуда у меня деньги, чтобы ей мороженое покупать? А я должен покупать мороженое? — он поворачивает голову к Юнги, замечая вдруг, что Юнги смотрит на него почти неотрывно, забыв о своей сигарете, — не смейся надо мной...
— Я и не думал, Хосок, — спокойно отвечает, выдыхая, перемещая взгляд перед собой, — наверное, ты должен сам получше ее узнать, чтобы понять, что ей нравится... и как ей нравится.
Вот теперь Хосок и правда хочет провалиться сквозь землю: зачем он только затеял этот разговор..? Но с другой стороны, вряд ли еще представится возможность быть храбрым (пьяным) настолько, чтобы иметь мужество заговорить об этом с Юнги.
— И не притворяйся, не старайся слишком, — Юнги подергивает плечом, — просто будь собой и... этого, я думаю, будет достаточно. Как ты сказал? Чтобы все было естественно.
— Да... ты, наверное, прав, — он глубоко задумывается, — сложно это все — человеческие отношения и всякое такое...
Ты даже не представляешь, насколько, Чон Хосок.
— Ладно... — шмыгает носом, — что мы все обо мне да обо мне? Как ты тут оказался? Я думал, из школы не выпускают просто так, — улыбаясь, он тыкает Мина в бок локтем, — хорошие отношения с пастором Дондуком?
Мин моментально сереет, не отвечает, опять тянется за пачкой сигарет в карман, и Хосок вдруг понимает, что сказал что-то не то — даже не понимает, как исправиться, за что извиниться... и что теперь, ему уйти? Но он не хочет.
Как, видимо, Юнги теперь не хочет продолжать разговор.
«Что такое, Юнги? Что не так?» — мечется на языке, но он не осмеливается выпустить слова в полет, озвучить их.
Юнги видит, как тревожится Хосок, но не может заставить себя сказать, что его вины тут нет. Чон же, блять, не знает ни про то, что он ходит к пастору по вечерам, как не знает и то, чем он там занимается. Он не знает, чего ему стоят такие вылазки в город, не знает, через что ему приходится проходить только чтобы посидеть в чьей-то чужой ванне и фантазировать, что у него когда-то будет такая же; нет — не такая, а в тысячу раз лучше!
Чон Хосок не знает, что Мин Юнги стоит на коленях перед пастором Дондуком и отсасывает ему.
И, Боже, блять, правый, пусть никогда и не узнает. Никогда. Ни одна живая душа. Особенно Чон Хосок.
— Договорился, — буркает он, прерывая напряженную тишину. Подаёт голос, чтобы... чтобы Хосок не уходил.
— А, — быстро качает головой, судорожно думая над тем, что сейчас жизненно важно сменить тему, — опять ты куришь, — поворачивает голову, не придумывая ничего лучше, — это вредно для здоровья, Юнги.
— В том-то и смысл, — улыбается, протягивая пачку, — будешь?
— Все шутишь? — мнёт губы, борясь с желанием прикрыть нос рукой от въедливого сигаретного запаха, — мне нужно связки беречь! Я же... вроде как солист в хоре?
— Что-то я давно не слышал, как ты поешь, солист, — ухмыляется, — небось весь голос уже тайком прокурил?
— Никто не аккомпанирует мне, вот и не пою... — он чуть склоняет голову, будто от только что пойманной идеи, — Сыграй-ка, маэстро!
— На чем? — он оглядывается, — на сортире? Смывать воду в унитазе по нотам? Какую вам тональность подобрать, с-э-эр? — тянет специально, посмеиваясь.
— Музыканту не нужен инструмент, чтобы появилась музыка! — он смеётся, вытягивая руки перед собой, имитируя положение пальцев на раскладке пианино, — на третий такт и...!
— Прости, руки заняты, — он раскрывает ладошки — в правой дымится сигарета, в левой открытая пачка.
Чон Хосок чуть поджимает губы, оборачиваясь полубоком, смотрит теперь серьезно, хоть линия улыбки едва заметно разрезает спокойное лицо; он аккуратно потягивает свои пальцы к пальцам Юнги, беззвучно вынимая сигарету, на самое мгновение задерживая ее в своих руках, будто играясь.
Юнги наблюдает за ним тихо, без эмоций и лишних звуков, не сопротивляется — это почему-то очень сложно.
Хосок осторожно берет пачку и тушит сигарету о нее — дым невкусно расплющивается, подпаливая картонную коробочку, искорками потом погасая, чуть шипя, шурша. Парень закрывает упаковку, откладывает на другой конец ванной, затем выпрямляя спину — Юнги глядит на него неотрывно, поджимая свои сухие губы.
И вдруг слышит... впервые за долгое, долгое время, как... как бьется собственное сердце. Не особо быстро, но так громко, что даже удивляется: он совсем забыл, что оно у него есть.
— Сыграй мне, — Чон мягко улыбается, цепляясь взглядом за пианиста, не открывается до тех пор, пока Юнги и правда не вытягивает руки перед собой, представляя в голове невидимое пианино.
Перед собой даже не нужно смотреть, чтобы видеть инструмент: вот малая октава, вот чёрные ладьи, разрезающие белое море клавиш, вот отполированная поверхность и деревянная панель, за которой натянуты струны; натренированные пальцы располагаются на позициях, зажимают ре-бемоль мажор правой уже по привычке, аккуратно пристраиваясь рядом левой. Мин закрывает глаза, слыша дыхание хориста рядом — он знает, что Чон смотрит на его руки, пальцы от этого... почти что горят, краснеют.
— Начинай, — тихо произносит подготовившийся Юнги, — я подстроюсь.
— Мендельсон, — говорит Хосок, слыша в ответ согласное угуканье, — Verleih uns Frieden?
— Почему именно это? — усмехается, перемещая свои пальцы в исходную позицию: это не вполне типичная мелодия для... церковного пения: почти что рок-н-ролл среди хоровой музыки.
— Не знаю, захотелось, — пожимает плечами, — попробую сегодня себя в качестве контртенора... еще и на немецком. Чувствую, получится ужас.
— Ужаса не получится, — прерывает, — тогда с «соль»? — пальцы зажимают невидимую ноту, — тональность ми-бемоль мажор?
— Тогда с «соль», — подтверждает, вдыхая, — ми-бемоль мажор, пожалуйста.
Голос Хосока начинает звучать с высокой ноты, но ему не нужно карабкаться на неё, прикладывать усилия, будто один лёгкий шаг, и он уже на вершине «соль» — и вся ванная комната будто звенит, тут же насыщается в ритме три четверти... раз-два-три, раз--два-три... пустота становится оживленной звуком голоса — громкого голоса. Юнги быстро перемещает свои пальцы, в голове проигрывая четкую нотную последовательность: произведение быстрое, ступенчатое, с юрко перескакивающими нотами, несложными аккордами — длинные сухие пальцы не пропускают ни одну нотку, ни одно сочетание; и Хосок плавно следует вместе ними, не отрывает своего взгляда от них, таких плавных, движущихся в темноте.
Ми-бемоль и ля-бемоль быстро сменяют друг друга — Юнги никогда бы не мог подумать, что ноты могут звучать... так.
Verleih uns frieden gnädiglich,
Herr Gott! zu unsern zeiten
Es ist doch ja kein ander nicht,
Der für uns könnte streiten,
Denn du unser Gott alleine.
Юнги и Хосок идут наравне, идут вместе — голос вместе с неслышимой музыкой пальцев, звенящие ноты тишины вместе с высоким голосом Чона.
Четвертый такт — как крохотный апофеоз: две ми двух разных октав даются так легко и непринужденно — все равно, что размазать горячее масло на хлеб; Чон мастерски перепрыгивает на целую октаву, как будто не замечая это, продолжая размеренно петь, время от времени выдыхая.
Хорист затем отпускает свой голос, который на мгновение еще звучит вокруг, бродит брошенным эхом, растворяясь в пространстве, отскакивает от кафельных стен — Юнги переходит к наизусть заученному соло, от которого дыхание хориста даже закручивает: он и впрямь слышит перезвоны инструмента, его голос, выскакивающий из-под крышки фортепиано, повторяющиеся нежные звуки клавиш, которые поют под пальцами музыканта. Юнги почти что поглаживает воздух, затем усиливая нажатия, вновь возвращая меццо-форте в законные угодья; сильно надавливая, подаваясь скрюченной спиной вперед так, если бы он и впрямь сейчас играл на инструменте...
Завороженный, Хосок вступает во второй куплет вместе с ним. Голос гармонично и идеально ложится на невидимую музыку, что играет в голове Юнги: он вдруг ловит себя на странной мысли, что готов вот так играть для него целую вечность, для него одного.
Gib unserm Land und aller Obrigkeit
Fried' und gut Regiment, daß wir unter
Ihnen ein christlich, ehrbar, geruhig
Leben führen mögen, in aller
Gottseligkeit und Wahrheit. Amen.
Голос тянется выше, почти что серебрится в своем звучании, подвижно переливается, вновь повтором отскакивая от одной октавы до следующей, плавно трепещет, точно перья птички на солнечном свету, мягко ложась на тонкий слух пианиста, ложась на самое ушко, заползая внутрь: Хосок как будто везде, повсюду... Вместе с ним.
Они ведут к завершению неторопливо, расставляя разбросанные звуки мира по местам, составляя их в цепочку, систематизируя их, подгоняя под придуманную кем-то давно последовательность гармоничного звучания — нота за нотой, аккорд за аккордом... Заканчивают одновременно.
Сначала недолго молчат, переводя дух, все еще слыша в голове отголоски Мендельссона, который, кажется, побывал в этой комнате сейчас вместе с ними... Странное чувство.
Юнги открывает глаза, поворачивает голову.
И сталкивается взглядом с Хосоковым прямо так, с разбегу, все равно что машина прямо в дерево — вдребезги; его глаза горят в темноте, улыбаются, цепляются за взгляд Мина, проникая глубже, без спроса пролезая под корку головного мозга, пробираясь к тому, что люди обзывают душой. И ворошит там все без разрешения, проходится своей легкой, быстрой кружащей все вокруг походкой, опаляет своим присутствием, находит спрятанные струны, игриво задевая их своими пальцами, а потом вдруг... уходит. Тоже без спроса, без разрешения.
— Вау, — опускает он глаза, вздыхая, — если будешь играть мне каждый раз, как захочется потянуться к сигарете, так и бросишь курить.
— Не уверен, что ты захочешь петь так часто, — тихо мнется, облизывая губы.
— Петь — возможно... — он сглатывает, и отчего-то так... волнительно, — а вот слушать твою музыку всегда. Хоть вечность, — улыбается, начиная подниматься из ванной, — ты — великий музыкант, Юнги. Заставляешь звучать тишину.
— Я? — качает головой, — Я не... Это ты.
— Мое дело простое, — он усмехается, совсем покидая насиженное место.
Юнги становится холодно. В ту же секунду. Без его присутствия.
Ему хочется вдруг что-то сказать, чтобы задержать его, чтобы растянуть это мгновение не-одиночества, но он не понимает, какие слова можно и нужно использовать; слова все как будто бы исчезли, а Чон, видимо, не умеет читать мысли. Может, и к лучшему...
— Думаю, моя девушка уже могла меня потерять, — Хосок неловко улыбается, отходя, — в десять мне нужно быть дома, так что остается совсем немного времени... Спускайся вниз, как надоест твоя вечеринка.
***
Он хлопает дверью ванной комнаты непреднамеренно — она захлопывается от сквозняка с громким стуком, чем заставляет девушек на лестничной площадке обернуться.
Бледная Ёнджи держит разозленную Йонг за руку, тут же прикрывает рот, глядит на Мина с нескрываемым раздражением.
— Мы уходим, — она не обращает на Юнги никакого внимания, снова поворачивается к младшей сестре, — тебе здесь больше делать нечего.
— Не решай за меня, — младшая Мун пытается вырваться, вскидывая руками, — я хочу остаться, а ты уходи.
— Я не ясно выразилась? — она напирает, начиная спускаться вниз, не выпуская руки младшей, — ты хочешь быть похожей на всех них?
— Уж лучше на них, чем на тебя!
— Ничего не хочу слышать.! Мы идем домой!
Юнги, омраченный тенью черного коридора, подходит к лестнице, глядя на них сверху вниз: Ёнджи знает, что он их слушает, как Мин знает то, что говорит она по большей части для него.
— Но... Хосок.! — предпринимает последние попытки Йонг, почти уже скрываясь на первом этаже.
— Нашла, с кем связаться, — фыркает, — ничего хорошего из этого не выйдет...
Мин их больше не слышит — да и не хочет. Пусть проваливают. Так лучше...
На секунду он... он даже не закрывает глаза, но видит Ёнджи перед собой. Видит ее без полосатой кофточки на пуговках, в одном лишь бежевом кружевном бюстгальтере, с золотым крестиком на груди, что блестит от света уличного фонаря, который аккуратно просачивается в спальню Хонга через зашторенное окно; видит, как покрывается мурашками ее стройное тело, как она берет его, сидящего на кровати, за руку, приближается ближе. Он почти явно вспоминает их прикосновение — кончикам пальцев тепло, но руки все равно холодные, и кожа Мун снова покрывается пупырышками; он видит, как она кладет его руку себе на талию, как приспускает их ниже, к юбке, как... как она проталкивает их под поясок, к трусикам... как она наклоняется ближе, поднимая одну ножку и располагая одно колено на кровати, прямо над его согнутой ногой...
Он вырывается из воспоминаний так же быстро, как попадает в них, только повторяет себе: ничего не было, ничего не было... или он бы хотел, чтобы ничего не было?
Внизу становится еще более шумно, еще более громко, пьяно — обычно все самые большие глупости происходят как раз в это время; он понимает, что больше не хочет задерживаться здесь — наверное, пойдет бродить по темным улицам... Мин почти уже выходит из дома черной незамеченной тенью, но за рукав его кто-то тянет, и он недовольно выдыхает: ну, кто еще..?
— Юнги, — хмельной Чонгук со стаканчиком выпивки едва улыбается, пытаясь затянуть его в гостиную, — тут, кажется... небольшая проблема.
— Чонгук, я уже ухожу...
Младший медленно, едва покачиваясь, останавливается на пороге гостиной, чуть кивая подбородком на одинокого паренька, что стоит, прижавшись к стене, закрывая свое лицо руками, не шевелясь...
Во что Чон Хосок опять вляпался, блять?
— Какой-то старшекурсник вынудил его выпить полный стакан газировки, — Чонгук чуть посмеивается, — только вот с газировкой там еще водка была... Он ж не знал...
Быстро Мин ищет взглядом часы в гостиной, видит стрелки, которые уже перевалили за десять вечера, чертыхается, вдруг продвигаясь вперед, проскакивая мимо громких людей, которые, кажется, даже говорят ему что-то: он даже не предпринимает попытки их услышать.
Ну вот почему Хосок такая неприятность? Почему... это постоянно происходит с ним?
— Пошли, — угрюмо отрывает, кладя свою ладонь на плечо Хосока.
— Что такое?.. — медленно отвечает, чуть убирая руки от лица.
— Ты напился, вот что такое, — он почти тянет его за плечо, — тебе уже нужно быть дома...
— Он убьет меня, — криво улыбается, наконец, находя пьяными глазами лицо Юнги, — не понимаю, как же так...
Какое-то время они оба молчат. Потому что знают, что речь сейчас идет об его отце и о том, что он может сделать...
— Тебе не показался странным вкус газировки? — старший начинает протаскивать Хосока к выходу, — ну вот почему, Хосок?
Чон пьян, но даже в таком состоянии он слышит недовольный укор в голосе Мина; это почему-то так сильно расстраивает, что даже вдруг хочется плакать, хоть он и обещал себе, что никто и никогда больше не увидит его слез. Горло скрипит от комка обиды, и он не понимает, в чем же тут его вина, рассеянно глядит на кружащийся мир вокруг него, податливо топая за Юнги, который все ведет и ведет куда-то прочь из этого дома.
Можно он уже никуда не пойдет? Можно он тут останется навсегда, потому что вернуться домой в таком состоянии... Но он все равно не понимает, как умудрился так напиться, в какой момент это произошло... тот парень, он же сказал, что это... это просто вкус такой, что...
Дурак. Дурила.
— Ладно, все нормально... не переживай, — сухо успокаивает Мин, когда они оказываются на улице, — где твой дом?
Хосок ничего не отвечает, прикусывая губы, рассеянно глядя вокруг, будто пытаясь сосредоточиться, уцепиться хоть за какую-то устойчивую деталь, но все плывет, плывет... а еще тошнит. И от алкоголя, и от самого себя.
И стыдно. Перед Юнги стыдно за то, что он такой дурак, которого обвели вокруг пальца. Идиотище, полный придурок, пустая кочерыжка вместо головы...
— Возьми себя в руки, Чон, — голос Юнги твердеет, — ты должен был быть дома в десять, сейчас уже почти половина одиннадцатого. Где твой дом? — повторяет.
— Прости. Дай мне минуту. На воздухе должно стать легче, — он выдыхает, прикрывая глаза, затем начиная двигаться по направлению к своему дому, — я дурень, идиот, самая большая пустая башка во всей стране...
— Со всяким это случается рано или поздно...
— Но со мной не должно было... я же... прилежный, хороший, — мямлит, — ладно, — выдыхает, — я выгляжу сильно пьяным?
Юнги быстро поворачивает свою голову к нему: покрасневшие щеки, гуляющие глаза, расфокусированный взгляд, нетвердая речь... Да его раскусят на раз-два.
— Нет... Ты выглядишь нормально.
— Мне так не кажется, — он трет лоб, — ладно... вдруг он не заметит? Вдруг он сам пьян сейчас? — глупо смеется, — я впервые хочу, чтобы отец был сейчас пьян. Боже Всевышний, если ты меня слышишь! — смеется сам над собой, сковывая руки перед собой, — ой, совсем забыл... Бог – это, кажется, Бетховен... — хихикает, — ну... ты понял..? Оглох. Я идиот, Юнги.
— Нет, — мотает головой, — прекрати.
— Нет, идиот, — он осматривается, продолжая шагать рядом с Мином по темной улице, — я идиот. Мне не везет. Я давно это заметил. Если есть хоть маленький шанс заболеть, я заболею. Если на дороге попадается камень, я запинаюсь и падаю. Если у меня есть велик, колесо сдувается... Если на краю крыши лежит кирпич, он обязательно упадет на меня. Я притягиваю неприятности, Юнги. Я... сам по себе... — он лепечет невнятно, быстро, и Юнги приходится внимательно вслушиваться в его нетвердые слова, — в основном, все беды из-за меня же самого, потому что я... такой...
— Какой?
— Ты ответь мне, — усмехается, — никакой. Лист на ветру. Пресный рис.
Не говори так, Чон Хосок, не говори, ты совсем не такой, ты даже не представляешь, насколько ты не такой... Но Мин молчит.
— Прекращай болтать, — закатывает глаза.
— Но это правда, — он чуть мнется, — что ты делал в ванной, Юнги? — сменяет тему резко, слишком неожиданно, что удивляет пианиста почти что ударом поддых, — почему ты был там совсем один?
— Ты чего? — хмурится: для чего он спрашивает, зачем..?
— Мне интересно... — признается легко, покачивает головой, — внизу было столько людей... и все такие разные... с ними можно было о многом поболтать — они же студенты... взрослые...
И твоя девчонка тоже долгое время терлась внизу. Без тебя.
— И еще выпить стакан водки с газировкой? — смеется, зарываясь носом в воротник курточки: на улице холодно.
— Прекращай, — он слабо шлепает его по плечу, шатаясь, — я... я правда думал, что у газировки должен быть такой вкус.
— Чон, — не выдерживая от этой розовой наивности, Юнги все-таки прыскает смехом, сдавленно угукая в воротник, — Господи, как же ты в этом мире выживешь..?
— А ну прекращай, — повторяет, посмеиваясь, чуть приближаясь, — не думай сменять тему, мне правда интересно, не увиливай... почему ты грустил?
— Я не грустил... я...
— Расскажи... мне?
— Я думал...
Кажется, он сейчас треснет. Разойдется по швам, лопнет, если скажет еще хоть слово: говорить так странно... говорить о себе так... это возможно? Или у нормальных людей это в порядке вещей? Необычно. Почти что впервой... Он правда не лопнет, если скажет то, что у него на душе?
— Я думал о том, что, наверное... что... — он вздыхает, готовясь, — что... иметь свою ванную — самое крутое чувство на земле...
— Что? — улыбается, — ванную?
— Смеешься. — Хмурится, опять почти закрываясь, как мидия от прикосновения.
— Юнги... не о ванной ты думал, — отрезает как ножом, чуть тыкая его локтем, — ну, может и о ванной тоже, но... с такими глазами не о ванных думают.
Сейчас он явно вспоминает их — так как будто они все еще перед ним: влажные, темные, глубокие... взгляд, проваливающийся внутрь самого себя, но не наружу, наполненный, но потерянный... как два горящих маяка-огонька в черном беспокойном море.
— Я думал... думал... о том, что... — почему так стыдно? — О том, что иметь свое место — самое крутое чувство на свете. Свой дом.
Почему-то собственные слова звучат так громко, будто падают тяжелым пластом на темную улицу вокруг: ну вот, теперь даже листья на деревьях знают, что там у тебя внутри, Мин Юнги, все разболтал, позорник... Смотреть на Хосока отчего-то так страшно: Чон намного умнее его, он, наверное, даже пьяный видит мир иначе; и нет, конечно, он видит мир иначе, он ведь... он ведь...
— Я тоже об этом думаю, иногда, — Хосок пьяно улыбается, опуская взгляд ниже, — свое место... У меня его нет.
— Что? — смотрит на профиль хориста, — но ведь... у тебя есть дом, куда ты возвращаешься. Крыша над головой. Какие-никакие, но родители...
— Но все это — мое ли это место? — чуть приподнимает подбородок, — помнишь, мы говорили про ботинки и... и дорогу... — едва сбивается, — ну... мы не сможем пройти тропами друг друга и даже если обменяемся ботинками, не поймем друг друга до конца... то есть... мне так сложно сейчас объяснить, — вздыхает, расстраиваясь, — то есть... я могу понять, через что тебе приходилось пройти, но почувствовать, как ты это делал и что ощущал в момент прохождения..? Я уже даже забыл, к чему веду, я и правда пьяный... Давай договорим, когда я смогу нормально думать и говорить? Пожалуйста.
— Я понял тебя, — неожиданно признается Мин, прислушиваясь, более не говоря ничего в ответ: потому что и правда понял все, что хотел донести спутанный рассудок Чона — это про то, чего у них нет. Про что-то свое.
— Я опять попал в неприятности, — Хосок возвращается обратно к себе, вдруг вспоминая, что пьяный.
— Просто так... сложились обстоятельства, — Мин вновь поворачивает голову чуть назад, к Чону: лицо того бледнеет так, как будто еще немного, и его вырвет, и он сжимает свои губы, глупо пялясь перед собой, сжимая кулаки в карманах своей курточки.
— Почему-то они всегда так складываются. Видимо... не у меня одного, — говорит он тихо, спокойно.
Он не знает, почему, но вдруг вспоминает лицо Юнги, которое моментально посерело после упоминания Дондука. Это не просто так. Теперь, когда у него затуманенный выпивкой мозг, когда весь мир воротит, а от страха перед отцом почти что бросает в панику и дрожь, он понимает это как самую очевидную вещь. Может быть... когда-нибудь Юнги расскажет.
Ему бы хотелось этого. Потому что когда делишься чувствами, когда... разделяешь собственную боль на две части, словно ломтик хлеба, посыпаешь вместо соли собственным страхом, то становится... нет, не то, чтобы легче. Но это чувство, когда ты знаешь, что ты в страдании не один, что твои чувства принадлежат теперь не только тебе, но и кому-то еще, все это... почему-то внушает надежду, что все станет лучше. Обязательно станет лучше. Как будто бы получается так, что безысходных ситуаций не бывает. Или просто иллюзия этого.
Что есть надежда, если не иллюзия, в которую ты с радостью веришь?
Когда говоришь с кем-то еще, твой собственный ужас перестает казаться бесконечным и камерным. Личным. Ужас, выпущенный на волю, принадлежит уже не только тебе.
И все станет лучше. Обязательно.
— Однажды я потерял сознание от боли, когда он меня избивал, — вдруг вырывается у Хосока твердыми словами, и нечто в груди Мина холодеет, покрывается корочкой льда, — у него даже есть специальный ремень для моего... воспитания. Он кожаный, в нем есть... небольшие металлические вставки, который отец самостоятельно как-то сделал, — он глупо усмехается, только сейчас понимая, что Чонгу что-то делал для него лишь дважды: тот скворечник во дворе и ремень для битья, чтобы было больнее, — перед той воскресной мессой, когда мы пели в городском храме... я думал, я умру, потому что он так сильно ударил меня по ребрам, что я слышал хруст собственных костей, я... я почти дышать не мог. А он потом так самодовольно... смотрел на меня, — нижняя губа дрожит, — как будто бы... с гордостью.
На мгновение Хосок замолкает.
Юнги вспоминает.
«Я так сильно не хочу домой, я так сильно не хочу домой».
— Бил ногами. Табуретом. И сестра... Ее он не трогает, но... вдруг это только пока? Мама... не в состоянии... — он тяжело переводит дыхание, — я боюсь его больше всего на свете, боюсь собственного отца, но... это когда-нибудь закончится. Правда? Хотелось бы верить.
Хосок останавливается позади, Мин оборачивается, тая дыхание. Почему он все рассказал? Для чего? Он... он совершенно не знает, что сказать, не понимает, как себя вести, что ответить... нужно ли это?
Внутри все бурлит — чувств слишком много: там и злость, и непонимание, и отчаяние, и жалость... но не только лишь к Хосоку, но и к самому себе — ведь он тоже... он тоже... ведь пастор... но кипящие в котелке чувства он прикрывает чугунной крышкой и убавляет огонь на плите: он не может дать им вырваться, сбежать. Он, в отличие от Чона, не может... не может все рассказать. Губы зашиты ржавой иголкой и старыми нитями — он сам накладывал швы.
Лучше умрет, чем расскажет.
Хоть губы и трескаются от желания поделиться, а пальцы мечутся на собственном кусочке хлеба, почти-почти разламывая его.
— Все обязательно будет хорошо, — Хосок медленно подходит ближе, шмыгая, поджимая губы, — свет выглянет... самый черный час бывает перед рассветом, Юнги. Вот увидишь.
Юнги удивленно склоняет голову... почему Хосок говорит так, будто бы что-то знает...? Или... или догадывается...? Он что, в какой-то момент разболтал все? Разговаривал во сне? Еще хуже: кто-то видел и растрезвонил всем?
Вдруг начинает бить холодным страхом, Юнги вдруг чувствует, что Чон снимает с него какой-то тяжелый металлический пласт, который он сам на себя нацепил, чувствует себя теперь вдруг... вдруг более обнаженным. Даже более обнаженным, чем когда он был с Ёнджи... но ничего не было, ничего не было.
Молчание выдает Юнги, но Хосок не подает виду. Подходит еще ближе.
— Наверное, я несу какой-то бред, — грустно улыбается, — я же... пьяный. Но сейчас вроде лучше, — он бросает куда-то за плечо Мина, и пианист, оглядываясь, видит скромный домик с горящим светом в окнах, — мы пришли...
Выдыхает со страхом. Там, за дверью, его может ожидать все, что угодно. Он и так уже опоздал...
— Может, мне зайти с тобой? — Юнги опускает взгляд, чувствует, что и ему вдруг... страшно, — объясню, что ты... помогал мне с домашкой.
— Тебе не хватило первого знакомства с моим отцом? — он качает головой, останавливаясь в шаге от парня, — ты мой друг, Юнги, — Хосок вдруг кладет свои руки на плечи Мина, — не знаю, друг ли я для тебя, но...
— Друг, — подтверждает быстрее, чем думает об этом, чем вспоминает, что еще меньше месяца назад, был полностью уверен в том, что дружба — не для него, что он не умеет дружить и уже, наверное, никогда и ни с кем не подружится.
А потом появился Чон Хосок.
— Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности из-за меня, — опять улыбается, глядя в глаза.
Потом медленно опускает руки, слабо начиная отдаляться в сторону дома.
— Все будет хорошо, Юнги! — кидает он вслед, полуоборачиваясь, — в конце концов, даже Иисус после встречи с Понтием Пилатом потом воскрес, — усмехается, — интересно, что он чувствовал, когда шел к нему на суд?
В голове проносится много разных мыслей, но он их не озвучивает: страх начинает всецело поглощать его; свежий воздух отрезвил, и теперь Хосок понимает, в какое дерьмо он вляпался... Чонгу все поймет. Монстр внутри него слишком...чутко спит. И, наверное, проснется сразу же, как Чон захлопнет за собой дверь, и от него волной спадет волна сигаретного дыма и запах алкоголя, перегара. Увидит по косым глазам, слабым губам.
Все обязательно будет хорошо, но, скорее всего, не сегодня. Даже ноги дрожат...
Мин Юнги смотрит вслед отдаляющейся фигуре, дрожит изнутри, терзая собственные пальцы и даже не замечая этого... глядит, как он двигается в темноте к свету дома, словно мотылек, летящий на вожделенную лампочку, которая его сожжет.
Он не может припомнить, читал ли он когда-либо молитвы сознательно.
Но сейчас на языке только она:
«Милостиво даруй ему мир
Господи Боже, в наше время,
нет никого другого,
кто мог сражаться за него
кроме Тебя, нашего Бога, одного.»