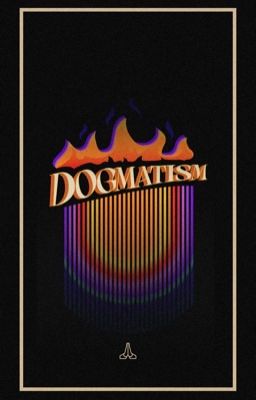8: Правая щека
5:39. А Я говорю вам: не противься злому.
Но кто ударит тебя в левую щеку твою, обрати к нему другую.
Наверное, так было всегда. Он не может вспомнить момент, когда это произошло впервые, поэтому решил думать, что это началось с самого его рождения. Страх к отцу появился с его первым вздохом и первым криком — даже тогда, будучи еще невинным младенцем, он уже провинился: тем, что был рожден.
Иудаизм говорит, что ребенок невинен первые восемь дней от рождения, христианство убеждает, что до года, но Хосоку не повезло, и он сразу родился грешным — так он сам думает, ведь как иначе объяснить кровоточащий страх и его ненависть к Нему? Как объяснить то, что он будто бы ходит под черной меткой? Как перестать себя убеждать в обратном, прятать под собственной улыбкой и натяжной жизнерадостностью?
В детстве он мало задумывался над тем, заслуживает ли он наказания или нет: принимал как данность. Когда-то сильнее, когда-то слабее, иногда проносило. В такие моменты, когда они вместе делали кормушку на заднем дворе, ему казалось, что он счастливейший из детей — Чон редко мог слышать смех отца, но иногда, когда такие моменты все же наступали, в Бога верилось как-то легче.
А потом он начинал бить.
Хосок дурной, когда злой — может наговорить глупостей, может дать сдачи, полезть на рожон, напроситься на еще более сильный удар, может кричать, как ненормальный, но сейчас ему просто... не хочется существовать.
Совсем никогда. Почему бы ему не раствориться в пространстве, слиться со стенами, с полом? Исчезнуть раз и навсегда? Он не желает быть великомучеником при жизни, не желает восходить в ранг великих святых, он хочет спокойствия — быть может, там только оно и есть?
Кажется, град каменных ударов не прекращается, но он и не думает сопротивляться; вроде как слабые руки пытаются защитить собственную голову, вроде как он поджимает колени к животу, но делает он это скорее машинально — из привычки: знает, что так меньше шанс получить по животу, но точно появятся синяки на конечностях, которые он потом будет стыдливо прятать под одеждой. А зачем?
Зачем пытаться защитить себя, а не дать, наконец, убить себя? Так глупо. Чонгу нависает над ним, вороша своими дикими безумными глазами впавшего в беспамятство зверя, продолжает работать кулаками, а Хосок совершенно ничего не слышит вокруг себя, не чувствует боли — настолько невыносимо стыдно за все, что происходит... Покрывало позора как будто бы накрывает собой все остальные чувства и эмоции, остается только красное противное ощущение собственной нелепости, неуклюжести. Неужели он прикончит его прямо в школе? Прямо на глазах людей...?
Он лишь неслышно кряхтит, не сопротивляется.
— Прекратите...! — раздается голос извне, но его Хосок не слышит.
Если тебя ударят по левой щеке — подставь правую, ведь так говорят?
Он кусает свою губу до боли, врезается взглядом в его уродливое лицо, но кричать не хочется — хочется орать во всю глотку, чтобы это закончилось, чтобы все это прекратилось раз и навсегда. Зацепить этот момент острым крючком удочки и быстро отмотать, схватить пойманную добычу и, сжав ее за мокрое ускользающее тело, вонзиться прямо пальцами в голову, что смешно бездумно открывает рот, а потом оторвать ее, откинуть в густые заросли болотной травы, чтобы ее нашли только черви и мухи, изголодали бы до костей.
— Прекратите! — голос звучит уже тверже, ближе, и Чон на мгновение поднимает глаза.
Тот парень — бледный, испуганный, но отчего-то наполненный решимостью — даже так по-глупому, почти по-детски сжимающий кулаки, хмурящий брови, робко подбегающий ближе, но не знающий, что делать; Чонгу по сравнению с ним целая гора или — что хуже — изливающийся горящий вулкан, который никому не остановить, пока он сам не изольет все, что есть в нем.
Тот парень, кажется, даже замахивается, опять что-то бросает. Тот парень — Мин Юнги — уже совсем близко с личным адом Хосока, что на секунду он даже пугается, что того поглотит лава. Он быстро поднимает руки над собой, пытаясь схватиться за Чон Чонгу, задержать его движения, впиться ногтями в его кожу, больно поцарапать его: сделать все, чтобы он даже не заметил того парня. Но это не получается.
Мужчина отмахивается от Юнги, словно от назойливой мошки, и его откидывает в стену, но лишь едва, все равно, что случайно пихнуть прохожего на тесной тропе.
Но отчего-то этого хватает для того, чтобы Хосок стал дурным.
Взгляд его меняется — чернеет, будто в самую глубину закинули бочку с черной смородиной и она, расквасившись, расплющившись, окрасила его светлые ореховые радужки, заполнила собой их все; слабые кулаки сжимаются прежде, чем он успевает одуматься; сжимаются и даже попадают по роже отца, отчего он удивленно фыркает. Чон поднимается на ноги, начиная бездумно барабанить по бетонному телу чудища, пока рука отца, ошпаривая, не хватает его за загривок, почти поднимая над полом.
— Отпусти меня! — шипит он скорее от злости, чем от боли, которая клинит его, обездвиживает; кажется, можно даже почувствовать, как кожа на затылке отлипает от черепа.
Возможно, они наделали слишком много шуму — где-то на фоне Чон слышит суетливый топот ног, и судорожная мысль о том, что сейчас все их увидят, лишь больше злит его; парень пихается, кряхтит, впивается в сильные руки напирающего отца, от которого несет алкоголем:
— Сын суки, я те-ебе... выродок, блядь! — хватает он сильнее, но Хосок с силой отпихивает Чонгу, пиная его затем ногой, — ты пойдешь со мной! Я так сказал!
— Иди ты к черту! — рычит Хосок, заливаясь краской.
— Отпустите его! — будто опомнившийся Юнги оказывается рядом, вставая плечом к плечу к Хосоку, но Чонгу его попросту игнорирует, видя перед собой лишь своего отпрыска.
Это какая-то абсурдная история... может, позвать на помощь? Но кого? Кто в этом месте может помочь? Юнги почти чертыхается, понимая, что даже вдвоем им не справиться с этим пьяным телом... но внезапно Чонгу вдруг отступает.
Не по своей воле — ему помогают. Чьи-то сильные руки оттаскивают его за грудь дальше, затем упираются в плечи... Спина пришедшего застилает парней, будто бы защищая собой, пока Юнги судорожно понимает, что это никто иной, как пастор Дондук.
Тошнота уже как привычная реакция бьет его по животу — усиливается, когда он видит его подтянутое тело, аккуратно зачесанные волосы, чувствует его тошнотворный запах, который, преследуя, бьет его под дых, заставляя чувствовать дрожь в коленях: эта история становится еще хуже.
— Спокойствие, спокойствие, — говорит тихо Дондук, выставляя руки вперед, — успокойтесь! — впивается глазами в мужчину, и тот, что удивительно, действительно отступает, видя перед собой смутно-знакомое лицо.
Хочется истерически смеяться — в этот раз спасение пришло от того, от кого Юнги надеялся укрыться.
Хосок рядом дышит быстро, сорвано, с глубоким придыханием; Юнги страшно смотреть на него — кажется, еще немного, и тот расплачется... Аккуратно он поворачивает голову, глядя на Чона лишь краем глаза, но видит там нечто иное, не то, что ожидал увидеть.
Чон Хосок зол, и глаза его темны, брови нахмурены, губы сомкнуты в тонкую линию; кулаки все еще сжаты, и тело его почти что дрожит — все так же от злости... кажется, еще немного, и он опять накинется на своего отца
— Хо...— в горле так сухо, что голос ломается, — ...сок...
Пальцы пианиста едва одергивают парня за рукав — он и сам не понимает, чего конкретно он хотел добиться этим жестом... отвлечь внимание? Успокоить? Утащить за стены школы, как можно дальше от отца...?
Хорист поворачивает голову даже слишком быстро, резко, как будто бы срываясь, как будто бы желая прыснуть ядом еще и в Юнги, но тут же сдерживает себя, вздыхая; все вдруг внутри него опускается, когда он понимает,что вокруг столпились ученики — все их видели, все видели, как его отец чуть было не приколотил его к стене средь бела
дня, все... Он старается не смотреть по сторонам, но все равно видит лица своих одноклассников, мальчишек младше, парней с курсов постарше. Сейчас бы провалиться сквозь землю.
— Прости... — даже не шепотом — одними лишь губами проговаривает он, заливаясь краской.
Юнги не успевает ответить: тот быстро срывается с места, и длинные ноги быстро уносят хориста внутрь стен школы.
***
Из ржавого крана вода капает монотонно, отбиваясь как будто не в раковину, а под самую корку головного мозга.
кап кап кап...
Снаружи суматоха — наверняка из-за него; из-за него сбилось утреннее расписание, перекличка, молитва, часть первого урока... Он теперь не знает, как ему выйти за двери этого помещения, не знает, как жить дальше, и ему кажется, что опять все повторяется... Прямо как со школой Пресвятой Девы Марии.
Все так закольцовано, что даже смешно и так до жути обидно...
Он сидит на холодной кафельной плитке в крохотной учительской уборной напротив желтой ободранной ванной; тут влажно, холодно, неприятно пахнет, свет сквозь мутные витражи льется серый, неприветливый, как будто и не было там, снаружи, никакого солнца... упирает лицо в согнутые колени, теребит собственные пальцы, покачиваясь из стороны в сторону.
Хорошо бы сейчас было прочитать молитву и простить своего отца — так, как учат в церкви. Так, как учили всю его жизнь... но крестик на груди под рубашкой почти жжется, пальцы так и просят его сорвать и смыть в грязном унитазе — он этого не делает: крестик золотой. Если будет уж совсем плохо, продаст его.
Скрипящая дверь под боком как будто ударами колокола оповещает Хосока о том, что его одиночество окончено — наверняка, это пастор... начнет сейчас говорить о всепрощении, потащит его в кабинет, где они долго будут разговаривать: это в лучшем случае; в худшем, его опять исключат.
Опять.
Может, это даже к лучшему. Пусть делают с ним, все, что заблагорассудится — сейчас ничего не хочется.
Он открывает глаза на самое мгновение, чуть поворачивая голову — почти удивляется: это ни пастор, ни даже кто-то из учителей.
А тот бледный парень, который зачем-то полез в их перепалку...
Опять жмурится, вспоминая, как Юнги отлетает к стене, опять дрожит всем телом из-за злости, из-за ненависти, непонимания, невозможности все исправить: Юнги не должен был попадать под горячую руку отца, не должен был становиться его правой щекой...
— В этом месте всегда нужно закрывать за собой двери, — тихо говорит Юнги, закрывая хлипкую дверь на старенький скрипящий замок.
Юнги усаживается рядом с ним на пол, почти плечом к плечу — тоже подпирает ногами, тоже укладывает голову на колени, тоже тяжело дышит.
Так, значит, вот в чем была причина странного поведения Чон Хосока все это время.
Его избивают дома.
Сначала они сидят в молчании, и только вода из крана продолжает противно капать; голоса за стенами постепенно заглушаются, пока совсем не становится тихо... Юнги дышит медленно, пытаясь ничем не выдавать то, что сердце его вдруг бьется быстро-быстро; отчего конкретно — непонятно, но звуки эти кажутся ему такими громкими, что он ненароком больше скрючивается, желая спрятать сердцебиение где-то между своими коленками, заглушить в грудной клетке, утаить в складках рубашки.
Сглатывает. Подбитая губа, синяк на ребрах, след от пощечины... Мин зажмуривается, быстро вертя головой — все это какой-то абсурд, какая-то идиотская история...
— Блять... — выдыхает он, заползая рукой в задний карман штанов — почти пустая пачка сигарет опустошается еще на две, но Чон мотает головой:
— Прямо здесь? В учительском туалете? — смех истеричный, сдавленный.
— Похуй... — закуривает, — Хосок...
— Все в порядке, — Чон не поднимает головы, как будто бы все еще стыдясь за произошедшее, — извини, что ты...
— Не извиняйся, — отмахивается, когда сердце йокает, и перед глазами опять возникают те картинки...
Страшные картинки того, как тело одноклассника оказывается под градом ударов собственного отца, картинки того, как Чон лежит и не шевелится, не сопротивляется, будто бы принимая свою участь... и то, как вдруг Хосок изменился тогда — выпрямился, сжал кулаки, как почернели его глаза, то, насколько иным стало его лицо: ожесточенным, неукротимым, почти диким... страшным, но не с точки зрения красоты, с точки зрения эмоций.
На нем было написано все — его ненависть и злость, его желание поквитаться, бросить свою жизнь на дорогу, но дать сдачи, рьяное чувство несправедливости, бьющее его настолько сильно, что появляются белые отметины на напряженных костяшках.
И он помнил его голос — совсем взрослый, грозный, беспощадный. Тот же самый голос, который тогда в церкви говорил о том, что ему так сильно не хочется домой.... Так сильно, что...
— Он — ублюдок, — делает затяжку, пока не замечает, что у него трясутся руки — быстро пытается дернуть ими, будто бы прогоняя, отряхивая с себя эту слабость, но какое-то рыхлое чувство, которого он прежде не испытывал, вдруг танцует на его кистях, заставляя чувствовать странную тревогу.
— Я вчера сбежал из дома, — Чон шмыгает носом, признаваясь — его голова до сих пор на коленях, и Юнги начинает казаться, что тот и правда плачет, — сбежал, потому что он опять... И тот синяк, что ты видел... перед выступлением с леди Мун...и...— чертыхается.
— Но ведь так нельзя, ведь это ведь...
— А я не знаю? — подрагивает плечами, — но я ничего не могу сделать, да и что тут сделаешь? Он мой отец, но я... — вдыхает протяжно, давая себе перерыв, — Бог не слышит меня, как будто он специально затыкает уши каждый раз, когда я к нему обращаюсь, — рука неосознанно тянется к груди и он ощупывает очертания крестика под рубахой; сжимает его еще сильнее, желая сорвать цепочку, но лишь опять шмыгает, продолжая качаться из стороны в сторону, — я не знаю...
Когда Чон Хосок поднимает голову и когда опускает на Юнги взгляд, тот на время теряется: лицо хориста абсолютно спокойно, почти не выражает никаких эмоций... только глаза так сильно встревожены, а под носом.... А под носом виднеется кровь.
— У тебя...
— Я знаю, — легко вытирает кровоточащий нос рукавом, — такое иногда случается... иногда идет кровь носом, когда я сильно переживаю... мама говорит, что это от того, что во мне мало веры и это проказа от бесов, а мне кажется, что у меня просто слабые сосуды, — он усмехается так спокойно, что ненароком заставляет хихикнуть и пианиста, который делает новую затяжку.
— Юнги... — продолжает Хосок через время, — спасибо, что...
Он опять видит, как Чонгу отпихивает пианиста так, что тот отлетает к стене, вспоминает его встревоженный потерянный взгляд, который тут же вобрал в себя ту былую решимость и отважность. Юнги испугался...
— Но не стоило...и... спа...- начинает запинаться в словах, когда в голове вереницей повторяется эта сцена, — прости... м...не... так жаль, что ты... видел это и что...
Так глупо хочется хныкать, стукнуть самого себя, что кровь из носа начинает бежать сильнее, и он пачкает все свои руки, вытирая ее — затем запрокидывает голову к стене, сглатывая:
— Мне очень жаль, что тебе пришлось... — лишь заканчивает он, закрывая глаза, — я всегда был белой вороной везде... Прости, пожалуйста, мне так...
— Успокойся, — Мин выдыхает сигаретный дым, тоже прислоняясь головой к холодной стене, — а я думал у меня одного проблемы... — посмеивается, поворачивая голову к Хосоку, — тебе совсем не к кому пойти? А как же твоя мама, неужели она все это допускает? Есть же органы опеки, ведь...
— Моя мать целиком и полностью зависима от отца, она и слова против ему не скажет... Органы опеки... мне на себя уже все равно, но... у меня младшая сестра, Юнги, я не знаю... а что... — выдыхает, прикусывая нижнюю губу, — что если будет только хуже? Для нее? Не знаю, — качает головой, — как же меня все это... задолбало.
— Заебало, ты хотел сказать?
— Я не матерюсь.
— Материться — плохо?
— Не мой стиль, — посмеивается, — наверное, я и правда слабак. Не наверное — я просто слабак... не потому что могу просто так кого-то простить, а потому что не хочу принимать какие-то ответственные решения, не хочу бороться, чтобы было лучше, я не хочу ничего... ах... — выдыхает, — это моя жизнь, я знаю, но мне кажется... мне кажется, я не смогу быть тем человеком, который может управлять своей же жизнью, как будто все сочится меж пальцев. Почему.... Почему я должен беспокоиться об этом?
— Ты ведь... пока что просто школьник, — хмурит брови, — твоя мать должна была бы позаботиться о том, чтобы этого не происходило.... А что ты можешь сделать?
— Не знаю, — хнычет, — я ничего не знаю, — судорожно выдыхает, прикрывая лицо, вновь шмыгая носом, — я... может, у тебя есть идеи?
Сухо качает головой, пока сердце внутри все еще барабанит, а руки все так же трясутся.
Сигаретный дым расплывающимися струями летит к небольшой дыре в окне, просачиваясь наружу — их легко могут застукать здесь, но похуй настолько, что Юнги готов не выходить отсюда целую вечность.
Что странно. Много странных вещей происходит в последнее время, и самая большая из них — новенький хорист Чон Хосок, который таскает за собой неприятности, которые как будто привязанной нитью тянутся за ним, тревожа и тормоша все вокруг, шумя, как пустыми консервными банками, которые привязывают к заднему бамперу машины молодожены. И, в первую очередь, тревожа его самого. Отчего-то, почему-то... И каким-то странным образом. Тревожа вдруг его небезразличность, тревожа его зацикленность на самом же себе, тревожа его маленький, заколоченный изнутри мирок, в который никому нет доступа.
Но вот эта большая неприятность сидит плечом к нему, и ему не хочется продолжать исколачивать досками самого себя — наоборот, отколотить бы одну, чтобы... Он сглатывает, понимая, что уже слишком долго смотрит на профиль хориста, переводит взгляд перед собой, закуривая вторую сигарету.
— Юнги... — выдергивает Чон из мыслей, и пианист быстро поворачивает голову.
Бледный хорист глядит на него сверху вниз, лицо его сухое, неуклюже вытертое от крови рукавами рубашки, обескровленные сухие губы чуть приоткрыты.
И Мин опять чувствует, как что-то внутри тревожится. Он не отдирает приколоченные им доски — они отпадают сами...
— И все же дай мне затянуться, — слабо улыбается, опуская глаза, — только у меня руки грязные...
Некоторое время пианист держит сигарету в руке, будто раздумывая, но затем, чуть приподнимаясь, поворачивается к Чону поднося к его губам сигарету; Хосок на мгновение застывает, глядя на парня напротив: в глазах как будто бы вопрос, и он едва склоняет голову. Слабо ухмыляясь, тянет голову ближе, благодарно кивая и обхватывая сигарету губами, вспоминая, как учил его Юнги. Взгляд встречается с серыми глазами перед собой - их Юнги не отводит.
Шершавый воздух режет дыхательные пути и легкие, заставляя их скрежетать и шуршать, но Чон держится, сглатывает, только потом выпуская дым — почти что кашляет, но совсем скоро вновь затягивается, прикрывая глаза. Мин глядит на него почти неотрывно, даже не отдавая себе отчет в том, что смотрит он на его губы чуть дольше обычного, вдруг замечая крохотную родинку прямо над верхней губой:
— Уже не боишься, что испортишь свой голос? — тихим голосом задает вопрос, улыбаясь самому себе.
— По... плевать... — с зажатой сигаретой выговаривает он, открывая глаза.
— Похуй, ты хотел сказать? — он быстро вынимает сигарету из чужих губ, оставляя ее меж своих пальцев, чуть отодвигаясь дальше.
— Именно это и хотел сказать, — чешет затылок.
— А что... что если тебе... — внезапная идея вдруг бьет Мина по голове, и он распрямляет плечи, — что если тебе... да, наша школа — та еще дыра, но...
— Жить в школе? — мнется, и Юнги уже начинает казаться, насколько это идиотская затея: кто вообще хотел бы остаться в этой дыре добровольно?
— Если честно, то это было бы прекрасно, — улыбается, — я бы... хотел, но... кто поселит меня в школе-интернате, когда у меня полная семья? — выдыхает, — да даже если и получится договориться, что вряд ли, то... вдруг я буду занимать место того, кому оно действительно понадобится? — сжимает свои пальцы, снова кладет голову на колени, — вряд ли это возможно, так что... сегодня мне, наверное, и правда придется ночевать на вокзале или в церкви.
— Но ты и есть тот, кому это место действительно нужно, - прикусывает щеку изнутри, - а что если...
Язык Мин Юнги как-то колется, а сердце опять начинает свои странные затеи со слишком громким стуком, поэтому парень опять прижимает ближе к груди свои худые ноги, которые придерживает рукой.
Совершенно идиотская затея, дебильные мысли, на которые он бы никогда не решился, что-то невероятно странное, за гранью, но...
— Что если я... я попробую договориться?
— Что? — он быстро качает головой, закрывая лицо от смущения, — нет, не нужно! Нет, я не хочу утруждать...!
— Я не сказал, что я сделаю, — быстро вставляет парень, сжимая пальцы, — сказал, что просто попробую...
Юнги быстро сглатывает, опять поражаясь своим намерениям: его сколоченный замок рушится слишком быстро, и он не успевает удерживать доски, только лишь неуклюже придерживает их, расставляя ноги шире, схватывая их налету, но когда до него и правда доходит то, что он собирается попробовать сделать, голову и, правда, едва кружит, а опадающие доски оставляют на руках колючие занозы.
Ведь единственный во всем этом проклятом месте, с кем он может попытаться договориться — это пастор Дондук.
***
Коридор кажется абсурдно бесконечным — так странно, он же уже с десяток раз ходил по нему, почему он все никак не заканчивается? Он точно знает, что у него есть вполне определенный конец, но путь как будто бы намотан на кулак бесконечности. Когда там уже двери класса?
А.... а действительно ли он хочет, чтобы коридор закончился его скорым позором? Он знает, что так и будет, стоит открыть двери кабинета; он даже может представить, как на него будут смотреть — такие взгляды он уже встречал — полные непонимания, усмешек,презрения... Жестокости. Хочется смыть с тела себя самого, оставить безликую, стертую ластиком голову, пресное тело — пусть живет само по себе, а он, Хосок, побудет пока в каком-нибудь другом месте.
Он почти не поспевает за пианистом, что уверенно шагает перед ним, будто ведя за собой в класс, и ноги Чона, почти что ватные, как в страшном сне, когда приходится убегать от кошмарного чудища из леса — хорошо, что обычно такие чудища исчезают сразу с открытием глаз после сновидений. Плохо, что с Чоном это не срабатывает, и монстр живет с ним под одной крышей.
Быстрые шаги гулко отпрыгивают от каменных полов, отплясывают от темных плит помещения, а ему отчего-то так отчаянно хочется застыть на месте, а потом и вовсе убежать — не только из школы, из этого города тоже. Бессилие бьет дрожью, но он почему-то не останавливается, только тщательно закатывает мокрые рукава рубашки до локтей — до последнего пытался отмыть кровь в холодной воде, но она уже почти намертво успела засохнуть. Вздыхает, сверля макушку парня перед собой.
Не то, чтобы он страдал от одиночества, но...
...но в этот момент он понимает, что в целом мире он один.
Всегда почему-то прятал этот факт за вроде бы полноценной семьей, за мамой, с которой по вечерам можно поговорить — конечно же, о Боге, о Священном Писании, о прошедшей проповеди, о, что аж тошно, все той же церкви; скрывал за теми немногими приятелями из старой школы, скрывал за своим глупым оптимизмом или как там говорят? За розовыми очками? Все — от и до — он проживает в одиночку. И отчего-то так паршиво от этого факта, что хочется залезть на стену, избить кулаками, пнуть носом ботинка. Дурной: не вздохнуть.
И так стыдно — до невозможности стыдно, до коликов в животе, до желания опустошить свой желудок, содрать кожу с лица. Позорище — его избил собственный отец на глазах одноклассников. Если они начнут издеваться над ним после такого.... то он не удивится. Дети обычно жестокие; подростки преумножают детское невежество, добавляя туда осознанность своих действий.
Незаметно треплет пальцы меж собой, жует губы и отчаянно не знает, что будет с ним дальше; проклятый коридор все равно, что бесконечное чистилище, в котором души теряются в пространстве и времени, пока совсем не исчезают среди таких же заблудших душ, сливаясь друг с другом, становясь единой бесформенной массой неосознанности — в массе этой уже теряется личность, цели, теряется все... может, так даже и лучше. Состояние двойственности... пока он еще не зашел в класс - он еще пока все тот же Чон Хосок, новичок, который поет в хоре... когда он зайдет внутрь, то станет уже тем, кого избивает отец.
Может, он и хотел бы остаться тут, в этом коридоре.
Юнги оборачивается медленно, как будто переставая слышать за собой шаги — Хосок, чуть отставая, шагает следом. Лицо беспристрастно, бело, непробиваемо... удивительно спокойно, почти отрешенно — так, будто бы этому хористу вообще плевать на происходящее. Мин лишь едва жмет плечами, оборачиваясь обратно: черт его знает, что у него творится внутри... но если то же самое, что и снаружи, то почти готов удивиться.
Он тянет руку к двери уверенно, быстро, но она и сама охотно подается и без особых усилий раскрывается, чуть скрепя, но вместо света из окон класса на лицо Юнги почти что падает недовольная рожа старого настоятеля Чхенвона — из уст его чаще льются обидные гадости, чем слово Божие, которое он, вроде как, должен преподавать в этом пандемониуме науки:
— Надо же, решили почтить нас вашим появлением? — язвительно начинает настоятель, от которого разит рыхлой старостью и ветхостью.
— Как только звезду в небе увидели, так сразу в путь отправились, настоятельтсылка на Вифлеемскую звезду - небесное явление, называемое так волхвами согласно Евангелию от Матфея; звезда обозначала рождения царя Иудейского., — фыркает Юнги, застревая на пороге.
— Попридержи язык, Мин Юнги! — режет мужчина, упирая руки в боки, — у вас могут быть большие неприятности!
Чон Хосок буквально подавляет в себе желание рассмеяться, что сразу замечает Чхенвон:
— Новенький! — почти рявкает он, — я что-то смешное сказал? Я, по-твоему, шутки шучу?
— Настоятель, пока что самый большой шутник, которого я встречал — это моя жизнь, — нервно смеется парень, слыша, как Юнги тихо хихикает в ответ, — у нее чувство юмора побольше будет...
— С таким отношением вам обоим несдобровать! — он обводит их взглядом, — Юнги, живо в класс, — кидает он рукой на помещение, в котором ученики, опустившие спины к партам, даже не пытаются делать вид, что заняты учебой — вроде книги перед носами открыты, вроде ручки в меж пальцев, а все взгляды у дверей, — а тебя, новенький, пастор Дондук уже давно ожидает в кабинете, — он проходит вперед.
Настоятель хватает Чона за плечо — несильно, но достаточно грубо и крепко, будто бы опасаясь, что парень может сбежать; проходит вперед, толкая его обратно в этот бесконечный коридор, откуда они, кажется, только-только выбрались, но Хосок отчего-то не торопится. Ноги остаются едва приколоченными к порожку, слабо прилипшими к месту рядом с Мином.
Холодок пробегается внутри, потому что он знает, что пастор будет не один — там, наверняка, будет еще и отец... как иначе? Судорожно хочется вырваться, но настоятель, видимо, верно сделал, схватив его за рубашку, начиная протаскивать вон из аудитории.
Не руками, но взглядом он отчего-то цепляется за Юнги, выглядывая из-за плеча настоятеля - тот успел сделать пару шагов внутрь комнаты; Чону не хотелось бы опять в одиночку все проходить: там холодно, страшно, неизвестно... Но ноги от пола отрываются слишком быстро и он, увлеченный старшим, скрывается в прохладной темноте коридора.
Мин успевает схватиться за его взгляд на самые мгновения, успевает увидеть там что-то, чего он не может понять, расшифровать; трещиной проходится по грудной клетке какое-то странное чувство беспомощности — оно расширяется, разрезает его, когда вдогонку слышит приглушенный голос старика:
— А ты, Юнги, зайти к пастору Дондуку вечером, — отрезает настоятель, — думаешь, твой прогул остается незамеченным?
Шлепком по лицу отпечатываются эти слова, которые бы схватить двумя пальцами, да бросить в лужу, но звук закрывающейся двери почти приводит его в чувство. Он с утра знал, что пастор будет его ждать. Обычно то, что хочет Доебук, исполняется.
— Юнги, что это за пиздец был, а? — встает из-за стола Намджун, когда дверь только-только закрылась, — это был его батя? Еп твою мать,— садится на парту, скрючивая спину, — пьяный батя, который чуть не прибил новенького. Пиздец!
— Я думал, его реально убьют, — подключается Чонгук, слегка с опаской глядя на Юнги, — типа...? Вы видели вообще, бля, че было?
— Теперь я понимаю, почему он таким зашуганным всегда выглядел, — задумывается Ким, едва щуря глаза, — ну, знаете, он как-то в школу пришел весь потрепанный, с разбитой губой... пиздец, пиздец! — Намджун вдруг переводит взгляд на пианиста, начиная ехидно улыбаться, — а где это вы были, м? Небось, в жилетку тебе плакался? Нюни пускал?
Дыши, Юнги... Тебе новые ссоры ни к чему.
Но почему-то это так отчаянно злит, что он сжимает кулак покрепче, выдыхая.
Намджун часто говорит что-то, не подумав, не обращай внимания...
— Он выглядит мямлей, не удивлюсь, если он пускал сопли и слюни где-то в уголочке, — смеется одноклассник, продолжая.
— Намджун, блять, — медленно выдыхает пианист, понимая, что сдержаться сейчас нет возможности, — для тебя это правда смешно? Ты ебнутый? У пердстоятеля Чхенвона с шутками будет получше, чем у тебя.
— Че это тебя так задело, м? Правду сказал? — давит улыбку, ожидая всеобщего одобрения, но в классе появляется неожиданно напряженная тишина, и Юнги вдруг в очередной раз вспоминает, в каком месте он находится: в месте, где тебя готовы заклевать просто, потому что скучно, где не стоит ждать протянутой руки помощи, где каждый сам за себя...
И, очевидно, именно сейчас решается, как поведет себя большинство: им будет так просто сожрать Хосока своими насмешками, если они вдруг поймут, что это дозволено, если они поймут, что это весело, и что Намджун это одобряет — обычно, он всегда заводила в таких делах.
И почему-то Юнги решает не позволять этого:
— Расскажи мне, что конкретно тебя смешит в этой ситуации, м? Неужели ты такая гниль, что будет поднимать на смех Чона, который, блять, просто родился не в той семье? Как, блять, и все мы, — отводит лицо в сторону, — может, над тобой посмеемся, сынок алкоголика и шлюхи из-под моста? Или над Сокджином, его-то родители всего-то оставили его на пороге этой школы в лютый мороз? Если тебе, сука, так скучно, посмотри в зеркало, может, твоя тупая рожа хотя бы повеселит?
Намджун поднимается с парты, и Юнги понимает то, насколько кардинально меняется вообще все в этом классе; одноклассники напряжены и явно ожидают исхода, и Мин удивительным образом осознает, что вполне возможно сейчас произойдет драка — и уж в ней он явно не одержит победы: Ким выше его почти на целую голову, о чем пианист каждый раз забывает, да и сам он слаб, как спичка...
Блять.
— Намджун, реально, завали ебало, — доносится голос Чимина с задних парт, который до этого времени был непривычно тих, — это реально хуевая идея, — грозный до этого Ким вдруг с удивлением озирается, — Лично ты бы обоссался пойти против такого амбала, а новенький пытался дать сдачи — я-то, блять, это видел, а не крысился в отличии от тебя за спинами других.
Пак Чимин коренным образом меняет ход еще не начавшейся битвы, но он даже не поднимается из-за стола, пытаясь не глядеть на Юнги; только надувает свои розовые губы, хмуря брови, делая вид, что что-то пишет. Блондину теперь тоже стали очевидными многие вещи...
Юнги уверенной линией взгляда вонзается в Пака, но молчит, пока мысли бегают из стороны в сторону — тихий голос Чимина нанес сокрушительное поражение Намджуну; тот тоже сразу понял, что продолжать эту затею бессмысленно.
Сердце Юнги отчего-то рвется на куски: это было странно, в новинку.
Было странно не подставлять правую щеку для нового удара.
Еще страннее — защищать чужую щеку.
Пианист победоносно ухмыляется, обводя взглядом притихший класс; что-то незримо и кардинально изменилось, поменялось, перевернуло свое движение, точно русло ручья. Даже — как глупо — появилась какая-то надежда, что с этим местом еще что-то можно сделать, что даже сюда, в эту идиотскую школу, могут заглядывать лучи солнца...
И если он смог сделать это, то, быть может... быть может, с Дондуком тоже можно будет договориться?
Он не хочет думать, зачем, отчего, почему для чего все это делает...
Только вспоминает то, как Чон Хосок, сидящий на полу в учительской ванной комнате, с закрытыми глазами выдыхает сигаретный дым, чуть приподнимая подбородок, а тонкая полоска крови медленно стекает к его губам.
***
Дверь за ним закрывается на ключ и, кажется, вся его решимость, бесстрашие, все его силы тоже остаются закрытыми на замок по ту сторону. Тут темно — только горит пару свечей на камине да несколько висящих старых лампад все там же; Хён Дондук стоит к нему спиной, зажигая лампады, и Юнги может видеть его спокойное лицо через мутное зеркало висящее на стене — он видит его почти незаметную полуулыбку, опущенные к лампаде глаза, видит, как тот незаметно дергает носом, принюхиваясь к только что зажженному ладану.
— Бедный, бедный мальчик, — говорит мужчина тихо, все еще повернутый к стене, — но Бог всемилостив и всепрощающ.
Юнги точно знает, что речь идет сейчас о Хосоке, но горло его режет колючими прутами: он настолько бессилен, что не может проронить ни звука в этом месте; нет, не здесь, не сейчас, не тогда, когда они здесь совсем одни, и он ничего не может сделать. Хотел договориться о Хосоке? Самая большая глупость! Он себя-то защитить здесь не может...
Зачем он пришел? Почему он каждый раз приходит? Он ведь знает, что...
...Что если не придет, будет еще хуже.
Когда пастор поворачивается к нему лицом, парень почти отпрыгивает обратно к двери, быстро рыскает взглядом, опуская его в пол, а внутри все трясется от беспомощности: нет, он, наверное, никогда не сможет ни о чем договориться с этим человеком, вряд ли он даже слово сказать сможет — нет, безумно, невыносимо, никак... не сможет. Шмыгает носом, пока внутри все вяло опускается вниз, а голову покруживает.
— Ты в порядке, Юнги? — Дондук опускает голос, приближаясь.
Тот отводит взгляд, щурится:
— Юнги... — говорит Хосок, что вдруг схватил под локоть где-то из-за плеча.
Хорист выглядит взволнованным, глаза на мокром месте, губа едва дрожит:
— Мы... мы поговорили обо всем... с пастором... с отцом, — голос Чона необычайно слаб, — отец... он извинился... представляешь? Стоя на коленях... — парень обхватывает свои руки, озираясь по сторонам.
Юнги хочется возразить, чтобы он ни в коем случае не верил — верить взрослым опасно; но почему-то молчит, подминая губы.
— Ночевать на вокзале мне сегодня не придется, — ведет плечом, переводя взгляд, — пойду домой. Все будет... хорошо? Кажется, он и правда сожалеет.
Каплями безысходности внутри Юнги опадает недоверие: почему ему верится в это с трудом, а Чон с охотной принимает это?
— Юнги? — голос Хёна возвращает назад, и теперь Юнги с опаской понимает, что пастор уже совсем близко, — бедный мальчик, но если он встанет на праведный путь, Бог обязательно услышит его, — продолжает мужчина, — на все есть свое предопределение, задумка Господня, промысл Божий. Но и сейчас не о нем, — делает паузу, — ты вновь провинился, Юнги... и вот ты снова здесь. Ты не помнишь, о чем я говорил в прошлый раз? — он усиливает нажатие на плечо, — я смогу помочь только прилежному мальчику, послушному... который слушается меня...
Юнги стряхивает его руку с плеча, отступает назад, все так же не смея поднимать глаз.
Он знает, что он заперт здесь.
И он знает, что сейчас произойдет.
— Как ты можешь... верить ему? — не понимает Юнги, нагоняя Хосока, который уже успел отойти от него, — после всего, что...
— Может... может так проще всего? — пожимает плечом, не смотрит на пианиста - только перед собой, — проще поверить в то, что потом все будет хорошо, чем принять то, что сейчас все плохо, — отводит взгляд, — Ты знаешь, что находится на самом дне ящика Пандоры?
— Но ведь... ты должен сопротивляться.
...Эхом он слышит собственные слова, что выскакивают из прошлого, из того коридора, в котором они стояли с Чоном пару часов назад, а собственные губы жгутся, как будто бы
уязвляя его больше.
Ты должен сопротивляться, Юнги.
Или ты просто-напросто лицемер? Слабак?
Так и есть.
— Я написал письмо в ту школу, — Дондук уже почти совсем переходит на шепот, — про ту столичную музыкальную школу, о которой я говорил, помнишь? — неосознанно Мин поднимает голову, прислушиваясь, — я пока жду ответ, но я уверен, что они не смогут проигнорировать такого талантливого мальчика... — подходит ближе, — но знаешь... зачем ограничивать себя лишь школой...? Ведь есть академия изящных искусств...
Юнги буквально вжимается в стену, потому что отступать больше некуда; а еще потому что Дондук уже буквально напирает на него, прижимается своим телом, глядя на пианиста сверху вниз, и Юнги слишком страшно поднимать глаза, поэтому он не видит, как Хён почти что облизывает нижнюю губу, начиная тяжело дышать.
— Но попасть туда будет трудно, — шепчет он, и Юнги передергивает от дыхания, падающего на него, — очень трудно, гораздо труднее, но если мы... постараемся... ты ведь хочешь вырваться отсюда, правда?
Мин хочет избить самого себя, потому что его голова покорно кивает, а глаза зажмуриваются.
Верить в его слова глупо, так глупо...
Верить в его слова опасно, но он...
Вдруг пастор и правда не врет? Он — влиятельный в городе человек, вдруг... Искромсать бы собственные руки, которые так неудачно для него умеют играть на пианино.
— Тогда почему ты сопротивляешься? — когда мужчина кладет свои пальцы на левую щеку Юнги, тот почти что начинает плакать, но он больно кусает нижнюю губу, жмуря глаза изо всех сил, — я же говорил тебе, что не хочу тебя наказывать.
Пальцы легкими движениями проходятся по его щеке, пока он пытается отстранять голову назад, упираясь макушкой в стену позади, но пастора это только смешит, и он почти игриво — тошнотворно игриво — опускает их уже на губы пианиста, слегка прижимаясь к ним подушечками.
Юнги не понимает, что он дрожит, как не понимает и то, что это только больше раззадоривает мужчину.
— Но твое поведение заставляет меня задуматься... — он опускает голову ниже, — заставляет задуматься, нужно ли мне стараться ради такого непослушного мальчика? Мальчика, который может опозорить мое имя в академии изящных искусств... Будешь ли ты исправляться.?
Хочется истерически верещать, биться головой о пол, разбить кулаки в кровь и кричать о том, чтобы он прекратил это все, что это не нормально, что это ужасно, что он не согласен, что ему тошно настолько, что он готов выблевать всего себя. Это все так грязно, отвратительно, что у Юнги горят уши: разум пищит ему убегать, прекращать все это, но он...
— Может... может так проще всего? — вторит голос хориста в ушах, — проще поверить в то, что все потом будет хорошо, чем принять то, что сейчас все плохо... Знаешь, что лежит на самом дне ящика Пандоры?
Что удивительно, он знает.
Убеждает себя поднять взгляд, но смотрит не на напряженное лицо пастора напротив — сквозь него: окровавленное распятие Иисуса висит прямо за его широкими плечами.
— Будь хорошим мальчиком, — пастор наклоняет голову, шепча почти на ухо — Юнги чувствует, как твердая рука мужчины хватает его собственную и начинает прижимать сначала к его торсу.
Рука не сопротивляется, и ему только еще больше тошно от самого себя.
— Сделаешь мне хорошо, а я сделаю тебе еще лучше, — выдыхает, — ты особенный, Юнги.
Парень сглатывает, закрывая глаза, выдыхая воздух, держа в себе крик, который он закрывает своими губами; отколоченные доски его крепости собираются воедино обратно, и острые штыки страха тычут его под дых, загоняя за вымышленные стены защиты.
Пастор сжимает его руку уводя ниже, к промежности.
И он поворачивает свое лицо, подставляя правую щеку под новое прикосновение пастора Хён Дондука.