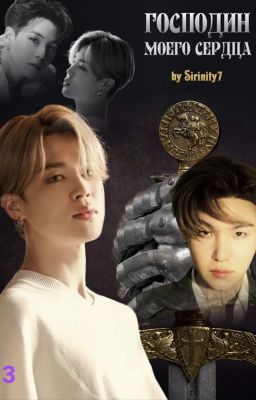Часть 18
========== Глава 18 ==========
Алеппо. 1204.
Красная крепость светилась сотнями огней от костров, факелов и ароматных свечей — Алеппо искрился в праздничной суматохе. За стенами крепости тоже был праздник — шумный, яркий, с ритмичными мелодиями и зажигательными танцами.
Костры стали заметны ещё издали, когда из глубины степи шли отряды крестоносцев и бостанджи — невероятная смесь запада и востока, когда рядом с блеском стальных лат, матовым червлением звенели кольца тонких кольчуг, а романские{?}[Рома́нский меч — тип европейского меча периода Высокого и, частично, позднего Средневековья ] мечи соседствовали с изогнутыми клиньями саифов{?}[Саиф- арабский меч.].
Тихие разговоры на латинском и арабском были слышны меж стройных рядов воинов. Хосок подгонял галлогласов, так же как и Гела своих воинов, но в отличие от ирландца юноша был почему-то спокоен.
— То, что мы не нашли тело Юнги среди десятков мёртвых крестоносцев не говорит о том, что мой друг жив...
— Плен у аббасидов может быть хуже смерти, но, всё же лучше, чем гибель, — усмехается юноша, а сердце мужчины снова замирает от синего сияния дивных глаз. И так все дни, что они рядом — сердце то замедляется, то бешено стучит в груди, а руки подрагивают от нестерпимого желания дотронуться до струящихся чёрных волос.
— Скоро мы достигнем крепости, возможно, там найдём и графа Мина и Чимина. Видимо, халиф, сам того не ведая, привёл рыцаря прямо к возлюбленному. От судьбы не уйти, — задумчиво шепчет Гела, а перед взором — лицо молодой колдуньи, и слова, которые вроде как забылись: «Одному человеку пожелали найти любовь на войне. Как ты смотришь на такое благословение?» Тогда он беспечно согласился, но сейчас, на пороге войны с неизвестным врагом, что даже обликом им незнаком, столь необдуманно впустить в сердце глубокое чувство было бы безрассудно. Хотя... у кого любовь спрашивает согласие? Она приходит неожиданно, принося с собой свет чёрных глаз, сияние рыжих прядей, улыбку ярче солнца... Юноша вздыхает, отгоняя от себя мысли о мужчине, но признаётся самому себе, что его невероятно тянет к нему.
Дозорные прискакали с разведки, поведав, что под стенами крепости огни. Это заставило воинов ускориться, но чем ближе к Алеппо, тем явственнее были слышны мелодичные звуки, и чувствовались ароматные запахи.
Они попали прямо на праздник. Крестоносцы рассматривали всё вокруг с явным интересом, впервые сталкиваясь с таким буйством красок, тканей, звуков, ароматов, а Гела улыбался довольно, смотря, какое впечатление на гостей оказывает его родная культура.
— Если я сейчас увижу своего друга в арабском кафтане, вкушающим шербет и фрукты сидя на подушках, то, пожалуй, в этой жизни я всё видел, — у Хосока глаза разбегаются, пока они спешиваются с вздыбленных от длинного перехода по степи коней.
— Так поспешим к моему повелителю, — Гела улыбается ярко, ввергая сердце ирландца в дикий пляс под ритмичные звуки барабанов. — Найдём твоего друга или во дворце, или в подземелье.
Но нашли они графа Мина всё-таки под террасой, на площади перед самим дворцом, тихо и скромно стоящего в тени у колоны, не в кафтане, но в шёлковой рубахе с высоким горлом и жемчужными пуговицами, глаз не сводящего с юноши, сидящего рядом с падишахом.
— Матерь Господня, граф Блуа! — от изумления у Хосока глаза округляются комично, уставившись на светловолосого юношу.
— Гела! — Чимин вскакивает, едва завидев телохранителя, кидаясь ему навстречу. — Ты вернулся, слава всем богам. Я рад.
— Здравствуй, мой дорогой друг, — Гела обнимает его крепко и радостно. — Всевышний всё ж благосклонен к тебе, и привёл твоего рыцаря прямо в твои объятия. Я не смог выполнить своего обещания, прости. Но привёл, надеюсь, твоего хорошего знакомого.
Лишь теперь Чимин замечает мужчину, которого он когда-то знал близко, но это было словно в какой-то другой жизни...
— Лорд Лаут? Как Вы оказались здесь? Ох, прошу прощения... Добро пожаловать. Как Ваше здоровье?
— Заметно пошатнулось с того момента, как увидел Вас... во всём этом, — Хосок размахивает руками восторженно, всё ещё неверяще смотря перед собой. — Граф, Вы похожи на... восточного принца, на диковинную райскую птицу!
— Наш Зиннур храбрая птичка, — смеётся синеглазый, переводя взгляд на приосанившегося черноволосого мужчину, сверлившего их настороженным взглядом. — Это твой рыцарь? — заговорщически шепчет он юноше.
— Да, — выдыхает тот, и щёки Чимина тут же вспыхивают.
Юнги направляется навстречу другу, неумолкающему в восторженных возгласах то на ирландском, то на латинском.
— Дружище, — объятия меж рыцарей почти медвежьи. — Рад видеть тебя в живых.
— Но мой отряд весь пал, а я всё ещё как бы в плену. Счастье, что всё же нашёл Чимина. Удивлён, как ты смог пройти сквозь степи к воротам Алеппо.
— Со мной был телохранитель царя Дамаска. Это открывало для меня все двери, друг.
— Приятная была компания? — усмехается Юнги, сжимая плечо рыцаря, и его чуть смущённое молчание расценил, как согласие.
Гела приветствовал своего господина, возле которого Чимин снова занял место. Тот с такой тоской смотрел на Юнги, что Гела понял всё в одночасье — Тэхён не отпускал от себя юношу, заставляя держаться подальше от его рыцаря.
— Мой господин, рад видеть тебя в добром здравии. Твой верный слуга вернулся к тебе.
— И я рад видеть тебя в добром здравии, мой друг. Мои молитвы услышаны — и ты здесь, рядом со мной.
— Хвала Всевышнему, господин. И на такой радости, ты привязал несчастного Чимина к себе, и не отпускаешь от себя ни на шаг?
Тэхён тут же поджимает губы недовольно, сверкая гневно зелёными глазами.
— Зиннур всё ещё в моём гареме! И то, что этот... рыцарь здесь, не значит, что я опущу его от себя!
— А придётся, мой господин, — ещё шире улыбается телохранитель. — Упорхнёт из золотой клетки твой птенчик, — на что лицо падишаха покрывается яркими пятнами, и руки сильнее сжимают кубок с напитком.
В то же утро, когда Чимин и Юнги встретились вновь, Тэхён буквально силой забрал юношу к себе, объяснив необходимостью срочных дел, каких именно падишах и сам не знал.
— Они испортили нам всё ожидание. Все наши труды и старания были напрасными? Столько ждать, готовиться, а ты всё равно предстал перед своим рыцарем каким-то замухрышкой — растрёпанный, заплаканный, одетый непонятно во что! Что это за украшения на тебе? Ничего безвкуснее не нашёл? — гневная тирада падишаха больше походила на сварливое ворчание обеспокоенной мамаши, слишком пекущейся о своём чаде. И потому Тэхён задался целью сразить рыцаря наповал — закрыл перед его носом дверь, и забрал Чимина к себе в покои, «готовиться» к празднику.
И видимо чуток перестарался, потому что Юнги забыл, как дышать, увидев Чимина перед собой. И он не совсем был уверен, что это и есть его возлюбленный, скорее ангел, сошедший с небес. Небесно-голубой шёлк длинного кафтана плавно переходил в изумрудный по подолу и на рукавах, полностью расшитый драгоценными камнями. Атласные чёрные шаровары обхватывали тонкие щиколотки. Остроносые сандалии из мягкой кожи были расшиты золотыми бусинками. Изящные украшения, каких Юнги никогда в жизни не видел, обвивали шею и запястья. Каплевидная жемчужина свисала из правого ушка, в волосах переливались золотые тонкие нити. Но все украшения и одеяния меркли перед красотой самого юноши. Никакие драгоценные сапфиры и алмазы не сравнятся с глубиной и сиянием льдисто-голубых глаз, мерцанием золотистой кожи, мягкостью светлых прядей, в которых отражаются блики пламени свечей.
И к этой красоте мужчина не мог подступиться — Тэхён кружился вокруг юноши, как наседка вокруг цыплёнка. И оставалось им обоим лишь смотреть друг на друга издалека, лаская взором любимого... Пока не вернулся халиф.
Только под его хмурым взглядом Тэхён унял свою эгоистичную прыть, отпустив от себя светловолосого юношу. Чонгук улыбался своему прекрасному падишаху, тихо шепча нежные слова вперемешку с утешениями, а сам Тэхён сжимал руку любимого под полами кафтана, ревниво поглядывая на Юнги и Чимина.
*
В тени колонны, куда не доставали блики факелов, звуки поцелуев тонули меж тихих стонов и горячего шёпота. А вокруг громкая музыка, столь диковинная для рыцаря, и громкие выкрики танцующих, привлекающее всеобщее внимание, что никому и не было дела до двух влюблённых.
— Останься со мной этой ночью, — просил Юнги между поцелуями, ладонью лаская лицо любимого. — Ни покоя, ни сна мне не будет без тебя, Чимин.
— Останусь. Вряд ли я теперь смогу покинуть тебя, мой храбрый рыцарь.
— Можем уйти прямо сейчас?
— Моя воля — покинул бы с тобой и крепость, и царство. Всё бы отдал за то, чтобы оказаться дома... в Норфолке, — тихий шёпот юноши был услышан Юнги, и счастье по новой затапливает его, горячими волнами растекаясь по телу.
— Дома, радость моя... с тобой. Сам не могу поверить, что всё это наяву, — руки мужчины с силой сжимают тонкую талию возлюбленного, ладони горячо проходят по спине к затылку, пальцы зарываются в светлые пряди, прижимая голову юноши к своей груди. — Мы уплывём с тобой отсюда. Бэкхён будет ждать нас в порту Хайфы.
От упоминания имени своего друга, Чимин жмурится от щекочущего удовольствия скорой встречи, чувствуя под своей ладонью чужое сердцебиение. Его собственное заглушает всё вокруг, стоит только подумать о ночи, что ждёт их. Юношу трясёт и от страха, и от неконтролируемой жадности до мужчины. Хочется касаться Юнги бесконечно, ловить губами вздохи, пальцами чертить невидимые узоры, и ощутить жар кожи к коже.
Его желание было более чем обоюдным, так что Чимин снова не заметил, как они оказались в тех же покоях, в которых провели такое волнительное для них обоих утро. Тихие разговоры вперемешку с нежными поцелуями, смехом, и глаза в глаза — что ещё нужно двум бесконечно влюблённым? Наверное, только прикосновения, такого, которого желали их тела. За нежным шёпотом признаний оба не заметили, как шёлк одеяний соскользнул с их плеч, совсем легко и естественно, будто это не первая их ночь в объятиях друг друга. Но всё же руки мужчины впервые открывали для себя плавные изгибы и линии, ощущали мягкость кожи, а сознание плыло от дурманящего аромата.
Юнги тянет податливое тело ближе, зарываясь лицом в восхитительные волосы, судорожно выдыхая всё волнение, охватившее его.
— Не могу поверить, что ты мой. Что в моих объятиях — ты, сердце моё, — в ответ лишь тихий смех и трепетное касание губами к сердцу.
— Я здесь, Юнги, рядом с тобой, и никуда не исчезну более, как и тебе не позволю покинуть меня.
— Только если смерть разлучит. Хотя... кажется, даже она не властна перед силой моего чувства к тебе, мой маленький. Лишь Господь знает, что я пережил, думая о том, что тебя нет более на земле.
— Мне так жаль, что я принёс вам столько боли и страданий — тебе, Бэки, всем моим родным.
— Ты не виноват, судьба так распорядилась, она же нас и свела снова. Потому что нам друг без друга нельзя... никак. Я верю, что есть иные миры и жизни, что душа человека перерождается в сотнях обличий, но лишь наполовину, — Чимин вскидывает взгляд, сияющий от подступающих слёз, так растрогали его слова мужчины.
— Почему лишь половина души? Это же так страшно и жестоко.
— Потому что одну половину судьба обрекает на скитание, а другую на ожидание — найти друг друга в этом огромном мире. И я тебя нашёл, Чимин. Ты моя половина, моя душа, моя судьба. И так будет всегда... во всех мирах и перерождениях.
— О, Юнги, прости меня за всё, — Чимин жмётся сильнее к мужчине, через объятие пытаясь передать всю свою любовь и сожаление.
— За что, мой маленький? — тихий смех и мягкие поглаживания рук мужчины дарят успокоение.
— Что заставил тебя страдать. Что не принимал твоей любви, не понимал того счастья, дарованного мне судьбой — любить тебя. Мне так жаль тех дней, что ты был рядом со мной, а я... так глупо и жестоко отталкивал тебя.
— Не жалей об этом, душа моя. Для меня каждый день моей жизни, где есть ты — истинное счастье. Я люблю тебя, Чимин.
Смущение, сравнимое с девичьей застенчивостью, охватывает юношу, когда такие красивые и трепетные слова затекают в его розовеющие уши. И его сердцу волнительно и хорошо от этих признаний, а телу — горячо от прикосновений. Чимин выдыхает прежде, чем жмурит глаза от страха за собственную смелость, ложась на грудь мужчины, а после медленно приподнимается, седлая крепкие бёдра. Сияние чёрных глаз любимого — награда за такую смелость, и чуть подрагивающие пальцы скользят по коже мужчины, чувствуя каждый рваный шрам, шершавые ссадины, синеватые кровоподтёки — его рыцарь прошёл огонь и воду, пока добирался до него. Губы проходят вслед за руками, горячим дыханием и лёгкими прикосновениями опаляя тело любимого. Чимин сам тянется к губам мужчины, и целует, словно к самому сердцу прикасается. Дрожь проходит по телу юноши, когда он чувствует широкие ладони на своих бёдрах, плавно поднимающиеся вверх, аккуратно и требовательно укладываясь на его ягодицы. Юнги приподнимает свои бёдра, пахом потираясь о лёгкое возбуждение юноши. Дрожащий стон срывается с губ Чимина, от одного только трения между ними, но и этого только хватило, чтобы высечь искру бушующего желания в нём — что будет, когда Юнги коснётся его там... коснётся его пылающей плоти, потрётся сильнее, властнее... глубже? Чувствительность юноши сводит с ума, он полностью отдаётся рукам любимого, что казалось, тоже потерял контроль над собой. Плавные потирания между сплетающимися телами, словно накаты прибрежной волны, и желание накрывает их с головой. Юнги стремительно переворачивает юношу, крепко прижимая его к себе, касаясь и целуя его всего и сразу. Коленями разводит стройные ноги, вытягивает его тонкие руки над головой, отчего Чимин выгибает спину, прижимаясь сильнее, сотрясаясь крупной дрожью от соприкосновения кожи живота и горячего, крепкого члена. Тихий стон юноши заставляет мужчину отринуть последние сомнения, и он крепче прижимается к пылающему юному телу. Юнги лбом прижимается к его плечу, пытаясь прийти в себя.
— Чимин... маленький, постой.
— Юнги? — сердце юноши готово было выпрыгнуть из груди, а сбитое вмиг дыхание, комом застыло в горле.
— Мой нежный, мой прекрасный, ты... ты должен привыкнуть ко мне, а я не должен так... набрасываться на тебя. Прости...
— Боже, за что ты просишь прощения, Юнги? Я хочу твоих прикосновений, твоих рук и губ... тебя всего. Не хочу больше терять ни дня, ни минуты... ни мгновения без тебя.
Громкий выдох Юнги больше похож на глухой стон вины.
— Чимин, ты невероятно прекрасен, и так желанен для меня. Меня страшит моё собственное нетерпение.
— Не бойся своей страсти ко мне, — тихий шёпот опаляет ухо мужчины, а пальчики скользят вниз к животу, сталкиваясь с короткими и жёсткими волосками паха, смело обхватывая колышущийся от тяжести член... и замирают.
Мужчина охнул от неожиданности, и тоже замер, видя, как расширяются глаза юноши от неприкрытого изумления и испуга. Игривая улыбка расплывается на лице Юнги, понимая замешательство своего возлюбленного — Чимин явно не ожидал такого размера. Но почему-то и вторая рука юноши тянется, чуть дрожащими пальчиками обхватывая горячую плоть поверх другой. Улыбка Юнги становится шире, а глаза горят откровенной жаждой — любить. Он сам легко толкается в маленькие ладони
— Скажи, мой нежный, ты хочешь почувствовать меня больше?
Внутри юноши пульсировало дикое, необузданное пламя. Оно поднималось снизу, заполняя его целиком, и заставляя тело мелко подрагивать. Было горячо и приятно, и Чимин тянулся к любимому, как к наваждению.
— Да.
Тело и разум подчинились мужчине без усилий. Он хрипло и тяжело дышит, не контролирует ни себя, ни свои поступки, весь во власти дремучего первобытного чувства подчинения своему мужчине, своему господину сердца, единственному, кому слепо и безоговорочно вверил всё.
Под ладонью — его шея, его жестковатые на ощупь чёрные волосы, и Чимин запутывал в них пальцы, млея от счастья. Он лежал под ним, и чувствовал его всем телом: грудью, животом, бедрами, каждой клеточкой, каждым своим нервом...
— Расслабься, маленький, — задыхаясь, шептал Юнги, — повернись чуток, раздвинь пошире ножки... вот так, ты молодец, ты быстро учишься... нежный и такой красивый... — и Чимина несло уже ничем не сдерживаемой сумасшедшей волной бесстыдного желания: хотелось чувствовать его, шептать в ответ что-то такое же глупое и откровенное, лежа под ним и принимая от него ласки.
— Ты изумительный, ты самый лучший... — ладонь мужчины приподнимает дивное лицо, и он целует его, весь обратившись в нежность, посасывая и покусывая, лаская рот изнутри, затягивая в омут чувственности глубоко.
Наверное поэтому Чимин не почувствовал настойчивого копошения пальцев мужчины у своего ануса, и лишь ощутив проникновение тихо вскрикнул.
— Мой милый, потерпи немного, — прошептал Юнги, нежно вглядываясь в искаженное страстью лицо, и захватив в горсть возбужденный до предела орган юноши, ласкал его, потягивая вниз и вверх, медленно и чувственно, почти лениво, а скользкие от масла пальцы проникали все глубже, мягко раздирая своей страстью тугое нутро.
— Я знаю, мой прекрасный, — разжимая ладонь, шепчет Юнги, — ты невинен и не целован. Но прошу, не бойся меня, — а Чимин начинает задыхаться, чувствуя проникающий в него крепкий член.
Мир начинает качаться вокруг него и вместе с ним в странном круговороте чувственной боли. Но глаза мужчины над ним, его взгляд, полный восторженной нежности, тянули к себе, не давая потеряться в вихре сумасшедших эмоций. «Чимин», — голос зовёт, словно из омута вытягивает, а движения бёдер снова бросают обратно. Чимин не может произнести в ответ ничего, лишь тихим стоном отзывается, и для Юнги это лучше любых слов.
Судьба или всё-таки случайность? Неизбежность или всё же предначертанное свыше? Любовь, что между ними, страсть и нежность, что горит в них, и этот невероятный момент единения их тел — что привело двух влюблённых к этому спустя столько времени, миль, потерь и мучений?
— Ты мой, Чимин! Мой! Господи, я до сих пор не могу поверить — ты мой!
И так ли теперь важны вопросы, как и ответы на них, когда мужчина чувствует кожей живота, горячее излияние страсти, и сам с ума сходит от одного только этого вида.
До краев переполненный счастьем, юноша уснул в объятиях Юнги — своего рыцаря, господина его сердца, положив голову ему на грудь, а в сердце — ни сомнений, ни страхов... ибо это действительно судьба.
***
За всю свою многолетнюю историю, которой было ни много ни мало две тысячи семьсот лет, крепость видела разное — от завоеваний египетских фараонов до нашествия легионов римских императоров. Столько людей разных наций, рас, религий проходило через неё. Сколько наречий и диалектов разных языков было слышно на её улочках и площадях. И вот теперь, спустя почти пять сотен лет после римского порабощения, над крепостью нависла новая угроза — неведомая, непонятная, необъятная орда кочевого племени. И снова тревожная речь звучала в большом тронном зале, где арабский говор соседствовал с плавным французским, горделивым латинским, важным британским и громким ирландским.
На совете, куда были приглашены и граф Мин и лорд Лаут, халиф раскрыл все карты, в буквальном смысле по начерченным его картографами схемам, указывая места расположения сил монгольского войска, и территории, что уже были захвачены воинами хана Хулагу. Захваченные в плен монголы с нескрываемым высокомерием рассказывали о великих завоеваниях своего полководца, со злорадством отмечая, что все их земли скоро падут под натиском великой орды потомков Чингисхана{?}[Основатель и первый великий хан Монгольской империи, объединивший разрозненные монгольские и тюркские племена; полководец, организовавший завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и в Восточную Европу. Основатель самой крупной в истории человечества континентальной империи.]. Тем самым они же и доказывали неотвратимость своего нашествия.
— Бо́льшая часть монгольского войска находится за Кавказскими горами{?}[горная система, расположенная в Евразии между Чёрным и Каспийским морями], но даже и пятой её части хватило, чтобы кочевники подчинили себе всю Среднюю Азию, а через Багдадское царство Хулагу пройдёт во главе двадцатитысячного войска.
— Им ещё нужно пройти этот халифат, — Чонгуку противостоял один из визирей, надеющийся на мирный исход. — Пусть Багдад и ослаб, но у них всё ещё есть силы выступить против кочевников. Не забывайте про крепость Аламут — оплот ассасинов — этих наёмников и убийц.
— А если я скажу, что до сей поры неприступная крепость ассасинов уже захвачена? Великий властитель исмаилитов Рох ад-Дин Куршаш, взят в плен, и отправлен в Монголию к Великому хану Мунке, — все присутствующие на Совете притихли от этих слов халифа, осознавая реальность и неизбежность опасности. — У Багдада нет защиты. Рано или поздно он падёт.
— И Дамаск будет открыт для них, — граф Мин озвучил мысли, наверное, всех присутствующих. — Сколько у нас времени, халиф?
Юнги чувствовал презрительные смешки и недовольные взгляды присутствующих, ведь какой-то чужеземец посмел причислить себя к ним — великим аббасидам, но увы, мужчиной двигало не благородное чувство помощи ближнему, а абсолютно естественное и простое желание уберечь родного человека — увезти Чимина как можно быстрее от надвигающейся опасности.
— Кочевники достигнут Багдада меньше, чем за три недели. Если хан не раздумает и не направит свои войска в Восточную Европу, то Дамаск подвергнется нападению в течение месяца, — а потом тихо добавил на ломанном французском, — Вы успеете покинуть царство, граф, — на что получил благодарный кивок от мужчины.
Уже вечером, находясь в покоях рядом с возлюбленным, Юнги смотрел, как Чимин укладывал свои вещи в нарядные сундуки, убирая и свои драгоценные украшения — к рассвету следующего утра они покидали крепость. Халиф отбывал к южным границам царства, где к провинции Босра подтягивались войска, а падишах следовал за ним, наотрез отказавшись отсиживаться в столице. Сотни горящих костров под крепостью говорили о том, что войска и свита готовятся к отъезду из Алеппо.
— Юнги? Как ты думаешь, они смогут противостоять кочевникам, если угроза будет очевидной? — Чимин не смотрит на мужчину, боясь выдать своё волнение, но медлительность движений и бегающий взгляд выдают его.
— Угроза более чем действительна, а противостоять ей... Думаю, халиф уже подготовился к вторжению. Я знаю, что все приграничные провинции уже покинуты жителями. Если предводитель кочевников двинется на Дамаск, он сначала должен пройти сотни миль безжизненной земли, а после встретиться с объединенным войском аббасидов, и, если на то будет воля египетского султана, и тулунидов{?}[Первая фактически независимая от Халифата египетская династия тюркского происхождения ]. Но к этому времени мы уже покинем Дамасское царство, радость моя, не волнуйся.
Чимин выдыхает тихо, замирая с шёлковой тканью в руках — он волнуется совсем не об этом. Юноша чувствует тёплые ладони на своих плечах и крепкое тело позади себя, прижимающееся трепетно.
— Чимин? Что такое, сердце моё? Разве ты не рад, что мы покинем эти места, вернёмся домой?
— Рад, и очень хочу этого, — Чимин разворачивается в объятиях мужчины и сам льнёт к его груди. — Но я безумно волнуюсь за Тэхёна, и за Гелу, даже за этого халифа! Что будет с ними? Как я могу оставить их в такое время? Мне страшно за них. Неужели мы ничего не можем сделать?
— Мой маленький, не думай об этом. Это не наша земля и не наши близкие. Здесь всё для нас чужое, хотя мне самому будет жаль, если Чонгук погибнет. Это ведь благодаря ему я не прошёл мимо крепости, а встретил тебя.
— Халиф стал нашим ангелом-хранителем? Из него получился очень красивый и добрый купидон, — юноша улыбается тепло, вспоминая слова Чонгука и его искрящиеся глаза «Он появится... только жди». — Только... как же их любовь с Тэхёном? Что будет с ними?
— Любовь? — Юнги в изумлении смотрит на юношу.
— Тэхён любит его безумно, — печально шепчет Чимин, — и халиф его тоже любит. И так несправедливо, что их любовь может закончиться печально.
В ту ночь, когда его возлюбленный уснул в его руках, после жарких и нежных ласк, Юнги ещё долго думал о том, что их ждёт впереди. Он пытался продумать дальнейшие события или положения, что привели бы к наименьшим потерям, или совсем отвели бы опасность от людей, ставших для него не совсем чужими. Но в конечном итоге всё же пришёл к решению, что и эта земля, и эта война, для них с Чимином чужды. Хватит с них крови и смерти, довольно разлук и потерь. Он увезёт отсюда Чимина, и всё это забудется, как страшный сон.
*
Отряды галлогласов были отправлены обратно через Румейские степи к берегам Мраморного моря — их ожидали венецианские галеры и плавание через Адриатику к берегам Франции, а дальше — путь в Нормандию и через пролив Ла-Манша, к родным землям Британии и Ирландии.
А сейчас их предводитель — лорд Лаут, отбывал в свите дамасского падишаха, рядом со своим другом. Хосок всё слышал на Совете и поддерживал решение своего друга о невмешательстве в дела иноземного царства, но сердце билось неровно — то замирая, то учащаясь, стоило только подумать о синеглазом юноше, что прямо сейчас стоял рядом с правителем. В пыли и зное степи красота юноши была ослепляющей, а сейчас, под тёплым солнцем и в прохладе оазиса, в неспешной поездке во главе пышной свиты, в шелках и драгоценностях, Гела просто сводил с ума мужчину.
«Уён», — это имя Хосок повторял в своих мыслях, и почему-то его распирало от непонятного довольствия, что это тайное имя знал только он. Означало ли, что юноша доверил ему что-то сакральное, то, с чем не готов делиться с каждым — однозначно, да! Хосок видит его взгляды, чувствует его тягу к нему, да кажется порой слышит как бьётся чужое сердце рядом с ним, приходя в невероятный трепет от понимания — их сердца бьются в едином ритме.
— Юнги, я понимаю, это действительно не наше дело и мы прежде всего подданные английского короля, но... возможно есть что-то, чем мы сможем помочь им? — Хосок переводит свой взгляд с синеглазого юноши на своего друга, замечая на его лице ухмылку.
— Ты не первый, кто говорит мне об этом, Хосок. И, признаюсь, я думал о том же, но... Давай рассуждать здраво — я отметаю все попытки направить сюда британский дивизион — это исключено. Ты — подневольный лорд и не имеешь права принимать решения сам. Мы не сможем им помочь, даже если сами вооружимся мечами и ринемся в бой — это бессмысленно, — Юнги выдыхает устало, словно не хочет говорить такие слова. — Оставь это, Хосок. Пусть всё идёт своим чередом, а наше время здесь заканчивается. Мы покинем эти земли и этих людей, и всё забудется, словно не было ничего.
Слова мужчины звучат твёрдо и уверенно, хоть и понимает в глубине души — ничего не забудется, и из памяти не сотрутся лица тех людей, что стали для них не совсем чужими. Юнги думал о молодом халифе, о том, какую роль он сыграл в его судьбе, и ссылать всё на волю случая неверно. Пусть их встреча продиктована роком судьбы, но помощь Чонгука продиктована в первую очередь человеческими качествами самого халифа и его сердечным участием. Без помощи молодого воина Юнги ещё долго блуждал бы царству, прежде, чем нашёл возлюбленного. Чонгук помог им воссоединиться, но и Тэхён, пусть не по собственной воле, тоже помог им — сберёг Чимина, заботился о нём, оберегая так, как считал правильным. Юнги обязан этим людям своим обретённым вновь счастьем, а Хосок... Видимо, его друг «обязан» своим вновь ожившим сердцем одному синеглазому юноше, и Юнги не вправе его за это порицать.
*
Обратная дорога до столицы пролегала так же, что и в Алеппо месяц назад: красная крепость осталась позади, а песчаный Хомс проводил их по пустынной долине Эль-Бураджа; буйная речка Кара открылась перед ними, словно живая граница долины Думайра, и знакомая деревушка Ябруд встретила сладким финиковым ароматом и огромным золотым закатом.
Всю дорогу Тэхён не отъезжал от своего черноглазого халифа, хоть и не смел открыто любоваться и ласкать взглядом. Но даже так, просто находясь близко, чувствуя его волнение и желание, падишах был счастлив. Мысли о предстоящей войне пугали его, а картинки того страшного сновидения всплывали снова и снова. Тэхён чувствовал себя проигравшим — все его усилия оказались напрасными: он не удержал Чимина, и пророчество колдуньи было пустым. И, видимо, настало время принять действительность — они проиграют, но душа его готова уйти вслед за любимым. Да только горящие огнём любви и нежности глаза халифа, порой приводили в замешательство, как будто и нет никакой войны, и тень смерти не нависла над ними. Есть только любовь, которой не будет конца.
— Мой господин? Твои думы столь громки, что их слышу даже я, — усмехается Гела, оказываясь рядом с падишахом. — Может всё же перестанешь сверлить Чимина ревнивым взглядом? Теперь он во власти своего рыцаря, который точно его не отпустит никогда.
Лишь после слов телохранителя Тэхён заметил, что действительно всё это время глаз не сводил с юноши, хоть и сам не понимал почему.
— Неужели ты так привязался к нему, мой господин? — продолжал Гела, придя в замешательство от молчания падишаха. — Но как же твоя любовь к Чонгуку?
— О, Гела, это столь разные чувства, словно омут и лёгкое облачко. Чонгук — мой человек, а Зиннур... словно мой ребёнок, — печально заключает юноша, но смотрит на синеглазого с улыбкой. — А ты — мой самый лучший и прекрасный друг, Гела. Не будь тебя со мной, я давно бы отчаялся в этой жизни.
— Тэхён, я верю, что всё будет хорошо, вот увидишь.
— Не потому ли тебе так кажется, что твоё сердце наполнено чувством к одному человеку? Мужчине, чьи рыжие кудри ярче пламени огня, а глаза темнее самой глубокой ночи? — широко улыбается падишах, хитро посматривая на друга.
Но Гела молчит, не может озвучить правды — впервые его сердце бьётся сильно, и дыхание спирает от одного только взгляда, — да только к чему признаваться, ведь Хосок покинет его, не пройдёт и семи дней — сядет на корабль в Хайфе и уплывёт на свой вечнозелёный остров.
— Мой друг, давай я тебе отвечу на свой же вопрос твоими словами, которыми ты когда-то ответил мне: «В твоём сердце — прекраснейшее из чувств, что может испытывать человек в своей жизни. И оно даровано тебе Всевышним, как награда, как благословение!.. Прими этот дар Аллаха — дар любить и быть любимым», — на последних словах Гела вскидывает взволнованный взгляд. — Да-да, мой прекрасный друг — быть любимым. Уж поверь мне, я способен различить просто заинтересованный взгляд мужчины от горящего истинным чувством. Тебя любят, Гела!
На этих словах синие глаза юноши устремляются к небольшому отряду рыцарей, выхватывая рыжеволосую макушку. Хосок ехал рядом с графом Мином, о чём-то тихо переговариваясь, и Гела, наверное, впервые, видел ирландца столь удручённым и задумчивым. О чём думал этот бравый рыцарь? Или вернее о ком? Есть ли в его мыслях и сердце хоть крохотная доля, принадлежащая взволнованному юноше? И, видимо, мужчина почувствовал взгляд Гелы, или сам неосознанно стал искать его в толпе свиты, но их взгляды встретились. «Прими дар Всевышнего любить и быть любимым», — слова снова проносятся в сознании, заставляя сердце обеспокоено биться.
***
Дамаск. 1204 г.
Дамаск гостеприимно раскрыл ворота, приглашая своих гостей и встречая своего правителя. Да только не было более ни шумных пиров, ни танцев и песен — весь народ замер, после тревожных вестей о надвигающейся орде кочевников.
Снова под сводами великолепного дворца проходит неспокойно гудящий Совет, где присутствовали вернувшиеся послы от египетского султана. Но ответ заморского владыки был неутешающим — султан сам был встревожен известиями о надвигающихся отрядах крестоносцев, хлынувших после разгрома Константинополя, но обещал отправить войска в начале нового месяца.
— К этому времени от Дамаска не останется и камня! — халиф был в бешенстве, слушая ответ султана. — Что он о себе возомнил, трусливый шакал! Забыл с чьей руки кормится? Он давно продался сицилийцам за серебро, как Иуда.
— Мы можем оттянуть время, — решает падишах. — Направим войска ещё южнее, закроем подходы к Дамаску...
— Нельзя, — Чонгук взгляда не поднимает, он подавляет в себе ярость, понимая, что решение нужно принимать с ясной головой, здесь и сейчас. — Никак нельзя. Если мы уйдём к югу, Хулагу направит войска в обход по долине Эль-Рутба, зайдёт к нам в тыл и просто сметёт наши отряды. Нужно держаться позиции. Мы не может растягивать войско по периметру.
— Нужно выставить отряды частоколом, выйти навстречу и бить прямо в лоб, — голос рыцаря как-то странно прозвучал среди гула арабского говора, и все посмотрели на Юнги непонимающе. Но Чонгук вскинул глаза на чужестранца, в которых удивление и ожидание продолжения. — Дозволенно ли мне будет говорить? — Юнги понимает, что вмешивается не в своё дело, но всё же...
— Говори, — Чонгук опережает своего падишаха.
— Если... заставить кочевников сосредоточить свою основную ударную силу в одном месте, вывести их на непривычную для них местность. Их основная сила — это конница, нужно лишить их этой силы, заставить из спешиться, и самим сделать упор на пехоте.
— Что ты предлагаешь? — Чонгук жестом заставляет умолкнуть загудевших советников и военачальников.
— Уходить, — Юнги и самому непривычно, он не собирался участвовать, а тем более принимать решения на военном совете. — Но не на юг, а на запад, навстречу кочевникам.
Поднявшийся вслед за словами рыцаря недовольный ропот даже Чонгуку не остановить. Выкрики «Что этот чужеземец себе возомнил?»... «Крестоносец хочет нашей скорой погибели!»... . Но теперь Тэхён решительно поднимает руку, выступая вперёд.
— Скажи, рыцарь, ты можешь подтвердить свои же слова?
— Да, — Юнги всё же не уверен должен ли он озвучивать имя своего... предводителя, покинувшего этот мир от его же рук. На миг, пред глазами предстало скуластое лицо с драконьими глазами и короткими белыми прядями. Намджун!.. Юнги сам был удивлён какой болью отозвалось это имя в его сердце, и рука неосознанно сжала рукоять меча. — Да! Так поступил мой друг, когда крестоносцы захватывали столицу Византии — Константинополь. Город был захвачен до заката солнца!
— Друг? — снова неверяще спрашивает падишах, но Чонгук улыбается слабо, понимающе кивая.
— Мой друг, барон фон Тироли, Ким Намджун — величайший из полководцев и главнокомандующий армии крестоносцев! — казалось бы громкие, но заслуженные слова, а Юнги понимает, что впервые называет Намджуна другом, и в сердце странное волнение, что даже слёзы грозят застелить глаза. Он ловит непонимающий взгляд Хосока, но видно, что и у него самого волнение играет в сердце — всё-таки отринуть восхищение человеком, что так долго был кумиром, невозможно.
— Сможешь поведать нам о тактике Великого Белого рыцаря? — Чонгук безошибочно угадал о ком говорил Юнги, на что тот лишь кивнул коротко, но всё же неуверенно. «Во что ты ввязываешься, граф Мин?» — в мыслях ругал он сам себя, когда всё же попросил:
— Я могу взглянуть на карты?..
*
К ночи дворец затих. Разошлись шумные царедворцы, ушли за ворота грозные стражники, лишь еле слышное позвякивание колокольчиков на ногах прислужников, да лёгкий треск ароматных углей в медных чашах рассеивал тишину.
Чонгук уговорами задержал графа и его друга в зале совета, а после — падишах пригласил их на ужин, где Тэхён попытался отвлечь своих гостей мелодичной музыкой и вкусной ароматной едой.
Чимин сел рядом со своим рыцарем, и даже если бы и хотел — не смог бы скрыть своего чувства к нему, смотря на Юнги сияющими глазами, и смущаясь от каждого трепетного касания. А сам мужчина и не скрывал своего обожания и нетерпения, мягко прижимая его к себе, подкладывая к нему на блюдо столь любимые юношей сладкие дыни.
Гела затаился за спиной повелителя, и прикрываясь сумраком в зале, незаметно, как ему самому казалось, наблюдал за ирландцем, ёрзавшем на шёлковых подушках, и непонимающе уставившегося на столь низкие столики. Мягкая улыбка блуждает на губах синеглазого, и глаза сияют нежным светом, смотря на откровенную растерянность Хосока — сейчас этот грозный рыцарь словно маленький ребёнок, удивлённо рассматривающий всё вокруг, настороженно пробующий незнакомые яства и восторженно распахивающий глаза от приятного удивления каждый раз.
Когда по комнате расплылся удивительный аромат кофе, у Хосока глаза округлились от воодушевления, но стоило ему лишь глотнуть чёрный напиток, как лицо его искажается гримасой отвращения, и язык высовывается от горечи. Еле удерживая в себе громкие порывы смеха, Гела тихо опускается рядом с ирландцем, протягивая ему блюдо с розовым рахат-лукумом.
Хосок тут же забыл обо всём под этим жгучим синим взглядом, словно под гипнозом протягивая руку, но не к сладости, а к прекрасному лицу, приводя в замешательство и юношу, и себя.
Ни от кого не укрылся этот жест, и если у Чимина и Тэхёна он вызвал озорную улыбку, то Юнги насторожился — они покинут Айюбидское царство меньше чем через неделю, уже завтра отбывая в Хайфу, и ни к чему сердечная привязанность сейчас. Да только когда это сердце спрашивало — вовремя оно влюбляется или нет? Оно любит без оглядки на место и время, когда мир, и когда война, и признавая своего человека, меньше всего смотрит откуда он, как далеко живёт, какой язык и какая религия — оно просто любит... и всё.
— Ты помнишь, граф, когда впервые испробовал этот напиток? — Чонгук ухмыляется, смотря на графа, нежно прижимающего к себе разомлевшего юношу, и сам вкушает смягчённый молоком кофе.
— Мне вовек этого не забыть, — наигранно сокрушается Юнги, мягко улыбаясь Чимину, удивлённо поднявшему голову с плеча мужчины. — Я до сих пор не понимаю, как напиток со столь божественным ароматом, может быть таким... гадким на вкус.
Теперь Чонгук откровенно смеётся, смотря сияющими глазами на притихшего падишаха.
— «Дайте мне кофе, чтобы я смог изменить то, что в моих силах, ...и вино, чтобы принять то, что я не в силах изменить{?}[автор не известен]». Воистину эти слова мудреца зрят в самый корень. Боюсь, что в скором времени грешный напиток заменит мне сладость шербета и терпкость кофе, — слова падишаха прозвучали с горечью, и глаза прятали печаль за прикрытыми веками.
— Тэхён? — тихо позвал его халиф, едва заметно дотрагиваясь до нежной руки. Он видит — сердце его возлюбленного сковано страхом и обречённостью, и мужчина снова клянётся себе — пока он жив... нет! Даже после своей смерти, он сделает так, чтобы дивное лицо его повелителя не коснулась печать страха и тревоги. Тэхён будет жить несмотря ни на что!
— Граф Мин? — Чонгук снова обращается к рыцарю. — Я ведь не просто так напомнил тебе о том вечере в Румейской степи. Ты ведь должен помнить ещё кое о чём, не так ли?
Юнги замер, и это волнение ощущает нежный юноша в его руках. Мягкое поглаживание по грубой коже ладоней и взволнованный взгляд выдают тревогу Чимина — неужели халиф потребовал плату за свою щедрость?
— Ты обещал мне рассказ, — слова Чонгука тут же успокаивают юношу, но замечает, что Юнги напрягся ещё больше. Возможно ли, что какой-то рассказ мог так взволновать столь сильного духом и телом мужчину?
— Помню, — хриплым выдохом сорвались слова с губ рыцаря.
— О чём? Что он должен был тебе поведать, Чонгук? — Тэхён заметно оживился, ожидая раскрытия какой-либо тайны.
— Я... я обещал рассказать о том, как великий город Средиземноморья стал подарком для возлюбленного, в знак вечной любви.
Падишах заметно приосанился — такого он услышать не ожидал. Как и Чимин, что чуть отстранился от мужчины.
— Юнги? — взгляд юноши, полон какого-то понимания, словно он знает, чего стоят его рыцарю эти воспоминания. — Это ведь связано и с нами? Из-за него ты покинул меня?
— Да, — Юнги обнимает его, не скрываясь ни от кого. — Но пусть это останется моим испытанием, тем, через что мне пришлось пройти, дабы обрести бесценное — тебя, сердце моё. А Намджун, сам того не ведая, стал для меня мерилом жадности в чувствах, образом человеческой нетерпеливости, и просто примером, как не нужно поступать с чужими судьбами. Но даже так, познав его обман, подлость и даже предательство, я не могу осудить его, ни в одном из моментов его решений, хоть сотни раз клялся, что убью его, собственными руками вырву его сердце, которого, казалось бы, у него нет совсем. Вот только и правда — не было у него сердца, ибо отдано было другому — прекраснейшему из правителей, королю Монферратскому, Ким Сокджину.
— Что? — изумлённый возглас сорвался с губ Чимина, что во все глаза смотрел на своего рыцаря. — Прекрасный король Сокджин был возлюбленным Белого рыцаря?
— Да, мой нежный, — мужчина мягко улыбается, ласково проводя по светлым прядям, и сердце его в который раз ликует от собственного счастья — он здесь, рядом с ним, смотрит в его глаза, ловит его невесомый поцелуй...
— Я встретил барона тем же летом, что и признался прекрасному графу Блуа в своих чувствах... — голос рыцаря прозвучал громко, поведывая всем кто присутствовал, свой рассказ, делая и их свидетелями истории, что была продиктована самой судьбой.
Чимин порой вмешивался, своим высоким, звонким голосом то протестуя, то ворча недовольно, то смеясь искренне, когда Юнги рассказывал об Анжу и турнире вблизи Сарты. Но и он затих, когда мужчина говорил о своём пленении и начале похода, слушая, затаив дыхание — ведь именно сейчас он узнавал правду.
А Тэхён утонул в повествовании рыцаря с первых слов. Для него открытое признание чувств и напористость графа Мина стали откровением — сам бы он на такое не решился. Он смотрит на своего возлюбленного халифа, что тоже весь превратился в слух, но мягкое пожатие руки, говорит падишаху о том, что думают только о нём.
Хосок был свидетелем этих летних дней турнира, а после, и волнительного сближения двух близких для него людей. Он смотрит на дивное лицо синеглазого телохранителя, да только оно у того столь непроницаемо, что невозможно понять — нравится ли ему то, что он слышит, или нет. А если бы Хосок вот так же признался, так же прижимал к стене, обнимал под парусом и целовал под луной?.. Но рассказ Юнги продолжался, и теперь даже доселе невозмутимый Гела не может скрыть свои эмоции — сиянием глаз и учащённым дыханием выдавая своё волнение, всё чаще и чаще бросая взгляд на ирландца.
Падишах восседает на подушках, и чем больше он слышит, тем сильнее выпрямляется спина, показывая всё напряжение. Чонгук подозрительно расслаблен, медленно отпивая сладкий кофе, откинувшись на подушки, всё также поглаживая руку Тэхёна. Да, он знает о передвижениях крестоносцев, знает о грабежах и погромах, о разгромленном Задаре, но теперь, слушая о делах крестоносцев не как стратег и наместник, а как мужчина, томимый тем же глубоким желанием, что герой этой истории — Белый рыцарь, — понимает многое, осознаёт многое, и в сознании молодого воина проскальзывает глубинная мысль — он поступил бы так же.
— Его слова подчиняли, как и сила его духа — невозможно было воспротивиться его воле. Для своих воинов он был царём и богом. Да, он был жесток и жёсток, не принимал полумер и получувств, не оставлял выбора, — Юнги был далеко в своих воспоминаниях и мыслях. — Бороться с ним, всё равно, что сражаться с огнём, пытаясь ухватить его голыми руками. Вот и я так же делал, — про себя усмехается рыцарь. — Я... был в темнице Халкидона, и не видел всего собственными глазами, но потом сотни раз слышал, как барон короновал нового императора — первого и последнего императора Латинской империи, которую он же создал и разрушил.
Юнги рассказал всё, не утаив, от забывших как дышать слушателей, ничего: ни ненависти, ни радости за своих друзей, ни боли, ни то, что только чувство мести удерживало его в этой жизни. Он нежно утирал слёзы с лица своего прекрасного возлюбленного, улыбаясь ему, говоря глазами, что всё хорошо, всё также рассказывая о чужой любви и чужих чувствах, но словно сам признавался в своих. А после, Чимин не сдерживался — рыдал, уткнувшись в свои ладони, слушая о смерти прекрасного Сокджина.
— Не скрою, сам я, пережив потерю, не смог бы проявить такую стойкость. Я уже был сломлен, думая, что потерял своего нежного мальчика. Но Намджун... — Юнги умолк, неосознанно прижав к себе сильнее рыдающего юношу. — Он был словно скала, безмолвная и непоколебимая, и лишь у могилы своего супруга пролил последние, и наверное, единственные в своей жизни слёзы.
На несколько долгих секунд, Юнги замолк, не зная, говорить ли о смерти Намджуна, имеет ли он право поведать о мольбе Белого рыцаря... и своей собственной, должно ли это остаться тайным, сокровенным? Но вопрос от халифа не оставил ему выбора:
— Как он умер?
— Я убил его, — ответ рыцаря был коротким, но большего он и не мог сказать.
Казалось тишину, опустившуюся после этих слов, невозможно разрушить, но Чонгук как-то нетерпеливо покачал головой и произнёс уверенно:
— Ты не убил! Ты спас его душу! — а сам смотрит на притихшего падишаха, чьи изумрудные глаза полны слёз.
Почему человек порой плачет, скорбя по незнакомому человеку, чья судьба никак не соприкасалась с его? Почему жизнь неведомого рыцаря и чужеземного короля, оказывается слишком близкой твоему сердцу? Не потому ли плакал Тэхён, что видел себя в них, узнавая себя в поступках и словах Белого рыцаря, в чувствах и мыслях несчастного короля? Он не может смотреть на плачущего Чимина, не может взглянуть в глаза Юнги, но тонет в объятии своего возлюбленного, понявшего и принявшего его со всеми ошибками и недостатками.
— Прости меня, Чонгуки, прости, — совсем тихо шепчет Тэхён, уткнувшись в изгиб шеи мужчины.
— За что, мой господин? — халиф улыбается, хоть и у самого сердце сжимается от тревоги и боли — возможно ли, что и их ждёт тот же конец?
— Что пытался изменить судьбу! Что шёл против воли рока! Что до сих пор пытаюсь это делать, ведь не смогу без тебя, Чонгук! И больше всего страшусь, что буду сидеть на коленях перед Гелой и умолять убить меня!
— Этого не будет, мой прекрасный повелитель... не будет никогда!
— И в жизни, и в смерти, я выберу любовь! Я выберу тебя!
*
В предрассветной дымке алеет закат над Дамаском, и шум за воротами отдаётся тихим эхом лязга мечей и ржания коней — отряды халифа отправляются к Тадмору, что много лет спустя люди нарекут Пальмирой.
Юнги не мог не попрощаться с Чонгуком, и потому оставил своего прекрасного возлюбленного досматривать сладкие сны в их мягкой постели, сам спустившись к воротам.
— Знаю, мне вовек не расплатиться за твою доброту и щедрость, — рыцарь пожимает руку халифу, провожая в опасный поход. — Я обязан тебе и жизнью, и своим счастьем.
— Это воля Всевышнего, мой друг, — улыбается воин, — я лишь подчинился ему. Будьте счастливы.
— Я хочу пожелать того же и вам, — Юнги тоже с улыбкой отвечал на пожелания халифа, но осознание того, что возможно видит халифа в последний раз сжимает сердце рыцаря. — Чонгук, неужели... нельзя ничего поделать? Я понимаю, война есть война, и смерти в ней неизбежны, но... можно покинуть эти края, и оставить...
— Оставить долины и реки, населённые ни в чём неповинными людьми на растерзание монгольскому хану? Нет, Юнги, и не говори об этом даже. Я всё решил... мы всё решили — сражению быть. И пусть я паду в пылу битвы, но умру как истинный воин — в седле и с мечом в руке, чем буду прятаться в крепости, как трус.
— Мне жаль, что я оставляю вас в такой момент, но над обстоятельствами я не властен. Прощай, Чонгук.
— Прощай. Ты помог нам своими советами и наставлениями, твой боевой опыт бесценен, и не твоя вина, что силы не равны. Наш мир падёт, это лишь вопрос времени. Не жалей ни о чём — такова судьба, такова воля Аллаха, и мы покоримся ему! Аминь.
— Аминь.
Юнги ещё долго провожал взглядом отряды халифа, направляющиеся на запад. Он знал, что по всей долине Эр-Рутба — с севера от Алеппо, с юга от Аммана, и от самого Дамаска, огромной людской рекой текут отряды войска, подтягиваясь к Тадмору. Но знал он и то, что какой бы огромной не была армия Айюбидского правителя, орды кочевников в десятки раз больше.