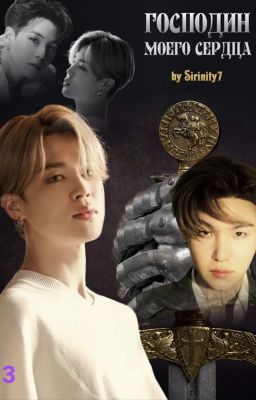Часть 14
========== Глава 14 ==========
Константинополь. 1203 г.
Народ столпился вокруг плахи, что возвышалась на главной площади Влахерн. Пригнали даже тех, кто не желал видеть. Тысячи глаз безотрывно смотрели на казнь. Хотя назвать это действо просто казнью невозможно. Пленника мучали четвертованием и пытали выворачиванием внутренностей, прежде чем отрубить голову, хоть на плахе лежал носитель королевской крови — наследный принц Алексей Ангел.
Его поймали в тот же день, не успел он отплыть от каменистого берега Халкидона, как сотня всадников нагнала их по берегу, а десятки галер окружили их в водах пролива. Да и сам принц не пожелал сопротивляться, приказав своим стражникам-варягам опустить мечи. Он даже кровь не смыл с рук, словно предъявляя доказательство своего преступления.
Принц был готов с гордо поднятой головой взойти на эшафот, не дрогнув опустить её на плаху, и вознестись на небеса после точного удара топора по его царской шее, но он абсолютно не был готов к тому, что ему на самом деле приготовил Белый рыцарь.
Глаза Намджуна смотрят безумным огнём, и в них пламя ада для лежащего на перекрещенных брёвнах принца. Руки, ноги, туловище, шея — крепко привязаны, а палач стоит с массивным топором. Глаза палача в прорезях капирота{?}[Капиро́т — головной убор, остроконечный колпак конической формы, использовались для облачения осужденных на смертную казнь.] казались знакомыми — зелёный, хищный прищур, словно волчий взгляд, и принц вздрагивает, узнавая Вульфа. Сверкающий топор в его руках смотрелся так, словно тот был продолжением его руки. Но всё же последним в его жизни взглядом, смотрящим прямо в душу, были глаза Белого рыцаря.
Топор плавно опускается на левое плечо, отрубая руку от сустава, и гулкий шокированный вздох толпы перекрывает крик дикой боли. Горячая кровь бьёт фонтанчиками и густыми волнами затекает под спину мужчины. Алексей своим глазами видит, как оттаскивают его отрубленную руку, насаживая на сверкающую пику в обозрение всей публике. Лицо Намджуна передёргивается от пугающего удовлетворения.
Пульсирующая боль, застилающая уши, не даёт в полной мере ощутить, как отрубают вторую руку, но принц теряет сознание. Ушат холодного «аквавита»{?}[спирт], вылитый на принца, приводит его в чувство, но к дикой боли, разрывающей все внутренности, прибавляется невыносимое жжение, заставляющее завыть во весь голос. От запаха «аквавита» выворачивает и тошнит желчью вперемешку с кровью. А Намджун начинает смеяться, столь довольным, хриплым голосом, сотрясаясь в плечах так, что слёзы выступают в уголках чёрных глаз.
Несчастный дёргает привязанными ногами, в жалких попытках убрать их из-под топора палача. Но какой-то дикий клич Вульфа заставляет замереть принца, и смотреть долгие секунды, как опускается остриё на его колено, а после на бедро. Кровь брызжет высокой струёй и принц чувствует, как рвётся кожа когда оттаскивают его ногу. Он больше не может кричать — лишь хрипеть и булькать кровью в горле. Крик Намджуна, отдающего приказ, звучит в ушах словно из-под толщи воды, но спасительная темнота подступает тихо.
Снова «вода жизни» не даёт принцу уйти в небытие, утонуть в забвении, возвращая его в реальность, в которой его мучениям нет конца. В какой момент он пропустил потерю второй ноги принц так и не понял, но высокий, дружный полувздох-полукрик толпы и сверкнувшее в доли секунды острие топора, дали понять, что это произошло.
Агония боли заглушает всё вокруг — крики, шелест ветра, рык палача, собственные хрипы, и в этой оглушительной тишине, глаза принца видят лишь синее небо, где в небесной лазури предстают очертания юноши. Почему оно напоминает ему того, кто смотрел на него с ангельской улыбкой? Почему дивное лицо взирает нежным взглядом с небес? Как поверить, что ангел вышел навстречу своему палачу и теперь протягивает руку? «Не бойся...» — голос шепчет столь проникновенно, в самую душу заглядывая карими глазами, Сокджин смотрит на него теплее, чем родная мать. Он хочет с ним заговорить, попросить прощения, прижать к себе протянутую руку... Но синеву неба, как и образ идущего ему навстречу ангела, перекрывает чернота глаз на размытом лице, и теперь голос Намджуна сотрясает всё его естество — он звучит подобно грому:
— Ты убил того, кто спас тебя! Твоя жалкая жизнь была сохранена только лишь потому, что он попросил об этом. Ты недостоин ни жизни, ни смерти — только мучений!
Кровь пузырится у губ, когда принц, вернее человеческий обрубок без конечностей и кишок, пытается произнести последние слова в своей жизни, но вместо слов — лишь бульканье алой жидкости.
— Что-что? Не слышу, — мужчина наклоняется к лицу несчастного, издевательски подставляя ухо, прекрасно понимая, что ничего у Алексея не получится.
— Пришёл... — всё же хрипло срывается с губ.
Намджун замирает, и смех его обрывается. Поднятая властным жестом рука, заставляет утихнуть толпу, и он наклоняется ещё ниже, к самым окровавленным губам смертника.
— Пришёл ангел... простил... — большего принц произнести не смог, закатывая глаза в предсмертных судорогах.
Рыцарь в бешенстве выхватывает свой меч, и с диким криком, в котором отчаяние и ненависть, отсекает голову принцу, заканчивая тем самым его мучения. Гул, полный страха и ужаса, проносится над толпой, безотрывно смотрящей на катящуюся по плахе голову, когда Белый рыцарь хрипит над безголовым телом.
— Нет тебе прощения ни в жизни, ни после неё, и ангел мой пришёл не по твою прогнившую душу, которую я проклинаю, как и день, когда вытащил тебя на белый свет. Гний во мраке, без права на перерождение души.
Боль диктует устами мужчины, горе движет им и скорбь разрывает сердце. Кто имеет право говорить, осуждать, смотреть порицающе, не пережив самому? Как бросить камень, зная, что сам не без греха? Сколько раз каждый из нас измерял свою совесть, прежде чем судить чужую жестокость? Человек рассуждает о милосердии и доброте, пока несправедливость не коснётся его самого. Как легко порицать чужую злобу и гнев, не утруждая себя поисками истины. Не судите, да не судимы будете...
*
Отрубленные части тела византийского принца были выставлены на всеобщее обозрение в четырёх сторонах империи, а голова — над главными воротами города. Публичная казнь царской особы была воспринята в большинстве народа, как попрание божественных устоев, ведь монарх и его отпрыски несут в себе божественную искру, являясь его помазанниками на земле, а барон в глазах людей стал богохульником, осквернившим жестокой казнью царскую кровь. И не было ни у кого сомнений, что будущим правителем станет Белый рыцарь. В городе поползли слухи, что барон сам подстроил смерть императора, а после подло обвинил во всём неповинного принца, тем самым расчистив себе путь к трону.
*
Похороны императора прошли подобно церемониям погребения римских цезарей в храме Святых Апостолов. Пышная процессия, растянувшаяся на долгие мили, в траурных чёрных одеяниях, текла к храму, который воздвиг император Константин Великий{?}[Константин Великий — римский император с 306 по 337 год. Сделал христианство господствующей религией, в 330 году перенёс столицу государства в Византий, в дальнейшем переименованный им в свою честь.], где и нашли последний приют все императоры Византии.
Золотой саркофаг несли на жердях красного дерева, слоновая кость и драгоценные камни украшали столбы балдахина из пурпурного шёлка над ним. Драгоценнейший порфир — погребальный камень императоров и царей был обработан лучшими мастерами империи, и превращён в истинное произведение искусства. Лицо императора было покрыто восковой маской, а тело — пурпурной мантией.
Лицо же Белого рыцаря было непроницаемо и во взгляде его невозможно было прочесть ничего, когда искусно обработанный верх саркофага опустился на плиты, навсегда хороня в себе прекраснейшего из смертных. Он не проронил ни слезинки, не дрогнул ни один мускул на лице, словно он и не хоронил своего супруга, своего возлюбленного. Юнги думал, что скорбь и потеря сломают этого сильного мужчину, лишат разума, но взгляд Намджуна был столь же ясен, как и мысли, и плечи мужчины не опустились под тяжестью утраты.
В первые дни Юнги не отходил от Намджуна, всё время был за его спиной, ходил, наблюдал и был наготове... нет, не убить — спасти, как ни странно это звучит. Только чем он мог удержать мужчину, что он мог сказать ему, Юнги и сам не понимал. А за ним самим по пятам ходили Хосок и Бэкхён.
Герцог Анжуйский искренне оплакивал смерть Сокджина, ночами согреваясь на широкой груди своего мужа, и оба понимали насколько они счастливы, и как мало им для этого надо — только друг друга, только их любовь.
Оба в который раз пытаются уговорить Юнги вернуться домой, в Британию, к сыну, но каждый раз — тщетно.
— Тебя здесь ничего не держит, Юнги. Уплывём, прошу, — Бэкхён в очередной раз смотрит умоляюще, ища глазами поддержку у Чанёля.
— Бэки прав, и ты сам знаешь об этом. Этот город стал проклятым для тебя, оставь его. Прошу... мы оба просим — не ищи более смерти, ни своей, ни чужой.
— Больше не ищу, друг. Только боюсь смерть сама не насытилась и ждёт очередного спутника, — Юнги невероятно благодарен им за всё — заботу и тепло, но вновь отказывает им. — Я не вернусь, Бэк, прости.
— Но, Юнги!..
— Юнги? Зимние воды не дают нам уплыть сейчас, но в начале марта мы уедем... с тобой или без тебя, — Чанёлю трудно это говорить, хоть и вынужден, скрепя сердце, озвучить наболевшее. — Больше подвергать Бэки опасности я не могу.
— Я знаю, и полностью тебя поддерживаю, но... меня до сих пор что-то держит, словно я должен быть здесь, должен дождаться... сам не знаю чего.
— Дождёмся окончания траура, потом поговорим ещё раз, мой дорогой кузен, — Бэкхён всё же мягко настаивает, обхватывая руку мужчины. — Я обещал Чимину, его светлой душе, что позабочусь о тебе и Хёну. И я сдержу обещание. Без тебя я не уеду, Юнги.
Произнесённое вслух имя всколыхнуло сознание мужчины, заставляя замершее сердце забиться бешено в груди. Имя юноши горечью протекает по венам, и Бэкхён в который раз видит этот излом бровей и тонкую линию меж них, когда у самого вновь выступают слёзы на глазах. Эта боль не покинет их никогда, сколько бы времени не прошло.
— Скорее бы этот год закончился... год, в котором я обрёл и потерял смысл моей жизни, — Юнги держит себя в руках, хоть и поджимает губы до побеления. — Но сколько бы лет не прошло... ты знаешь, Бэк, я не смогу забыть. Это город стал и для меня могилой, как и для Намджуна...
— Я вижу, что ты сострадаешь ему, и в глубине души рад этому. Вы оба понимаете друг друга как никто другой. Возможно то, что вы пережили избавит твоё сердце от пламени мести, — Бэкхён всё так же держит руку Юнги, в то время как его за плечи обнимает его супруг.
— Я отомщён самой Судьбой, самым жестоким образом, каким я и не помышлял. Так что, да — в моём сердце больше нет огня возмездия. Барон Тироли самый несчастный человек, что я видел.
— Твоя доброта и благородство лишь делают тебя ещё более мужественным, друг, — Чанёль крепче обнимает юношу, отодвигая от графа. — Господь смилуется над заблудшей душой барона.
— Аминь, — тихо прошептал рыцарь, не смея озвучить, что души у Намджуна и вовсе нет.
*
В городе был объявлен сорокадневный траур, заставивший замереть шумный Константинополь в скорби и печали. К мавзолею, столь трагично погибшего императора, день за днём тянулись вереницы плакальщиц и ораторов, что печальным голосом вещали о добрых деяниях покойного. Дворяне и царедворцы пытались превзойти друг друга в подношениях, единственный, кто ни разу не пришёл к мавзолею, так это Намджун.
Юнги оправдывал это незатихающей болью мужчины, страхом перед реальностью, в котором его любимого больше нет, но всё же не понимал, почему он не оплакивает возлюбленного, почему не возносит молитвы в Храме Апостолов.
Меж тем сенат объявил о выборах нового императора, где все были убеждены, что им станет барон Тироли, но Намджун запретил называть его имя, оставаясь также главнокомандующим войска Латинской империи.
Народные трибуны{?}[Народный трибун — должность в древнем Риме. Ими могли стать только плебеи, выбирались также на плебейских собраниях. Обладали правом вмешиваться в действия всех сенаторов, имели право вето на решения народного собрания, могли опротестовать решения Сената и арестовать любое лицо и подвергнуть его публичному допросу.], которые сам же Белый рыцарь вновь допустил в сенат, стали требовать восстановления династии Ангелов, предлагая в императоры Исаака II, племянника казнённого принца Алексея, а сенаторы поддерживали своего сторонника — Алексея IV Дука, сводного брата бежавшего императора Алексея III.
Сенат бурлил в бесконечных спорах и препираниях, и каждый смотрел на Белого рыцаря в ожидании кого он поддержит. Но Намджун всё так же безмолвно взирал на все перипетии, оставаясь в стороне. Ему было всё равно кого выберут новым императором.
Естественно победили сенаторы, коих было большинство, и преемником был объявлен Алексей IV Дука, а в городе начались волнения, подначиваемые всё теми же народными трибунами.
Восстания вспыхивали в разных частях Константинополя, каждое из которых жестоко подавлялось сенатом, но с каждым разом выступления горожан становились всё многочисленнее и организованнее. Восставшие требовали чтобы крестоносцы покинули город, а на трон был возведён представитель династии Ангелов. Всё больше и больше звучало обвинений в сторону крестоносцев, переходящих в оскорбления и ругань, а Намджун бездействовал, просто молча взирая на всё сумасшествие, творящееся у подножия Халкидона.
— Это город, который мы захватили ценой крови и жизни многих! Почему мы бездействуем, почему не задушим нечестивых, неблагодарных людишек?
— Они позабыли кто истинный хозяин Константинополя! Мы им напомним это!
...призывы звучали от благородных рыцарей, что живя в беззаботной, праздной жизни, успели соскучиться по битвам и крови на острие мечей, то и дело сотрясая клинками в воздухе, требуя выйти к восставшим и пролить их кровь, но Намджун был непреклонен, волевой рукой сдерживая соратников, требуя полного подчинения, порой наказывая особо нетерпеливых.
Что творилось в сердце этого мужчины не знал никто, только Юнги чувствовал — Белый рыцарь затаился словно штиль перед страшной бурей — смотрит, наблюдает, ждёт. И когда грянет гром — спасения не будет никому.
Он видел как мужчина каждый вечер проводит на мраморной террасе Буколеона, любуясь синей мерцающей гладью, в окружении пышных букетов красных роз, с белой кошечкой на руках, той самой, что осталась цела в день убийства императора. Юнги знал, что мужчина приказал не трогать ни одну из вещей возлюбленного, что проводил ночи всё в той же спальне, спал на той же кровати, каждый день заново переживая потерю. Сколько раз он сам засыпал с отчаянной мольбой небесным силам, чтобы всё это оказалось сном, а поутру он проснётся с надеждой на новую встречу, но каждое утро — это словно повторяющаяся раз разом смерть.
*
Город гудел развороченным ульем, где пчёлы жалили друг друга безжалостно. Конец этому должен был наступить, и вот Сенат снова собрался, чтобы вынести окончательное решение — под напором восставшего народа сенаторы приказывают крестоносцам покинуть город, оставить все титулы и должности занимаемые ими, позволяя вывезти присвоенные им ценности.
Крайняя степень изумления царила на лицах благородных рыцарей, медленно переходящая в ярость, но не на лице Белого рыцаря. Юнги в тот момент показалось, что он заметил некое подобие довольства в проскользнувшей лёгкой улыбке на губах Намджуна — он явно ждал этого решения.
Который раз граф Мин убеждался в безусловной силе духа их предводителя — ни один из благородных господ, бывших предводителей, не посмел пойти против Белого рыцаря, безропотно подчинившись приказу покинуть город.
Народ снова бесчинствовал, провожая крестоносцев через Золотые Ворота, в которых чуть менее года назад они же их и встречали ликующей радостной толпой, а прекрасный король Монферратский сиял на серогривом белом коне, возглавляя торжественную процессию. Теперь же, бледные, искажённые яростью лица изрыгают проклятия.
Но всё стало ясным в тот же вечер, едва ворота закрылись за последним отрядом крестоносцев. Стройные ряды воинов франкийцев, венецианцев, британцев, англичан, лангобардцев, ирландцев выстроились вдоль побережья пролива, всё так же высоко держа знамёна и пики копий. На их лицах — отчаянная ярость, гнев обиды, тень обманутых надежд. Кровь внутри кипит, а слова их предводителя заставляют её пузыриться лавой.
Намджун действительно ждал этого. Ждал повода, искал эту причину дать наконец волю той клокочущей внутри него ярости, найти выход разрывающей его ненависти, позволить затопить себя этому бушующему гневу, что так долго скрывал в себе — уничтожить этот проклятый город, отнявший у него возлюбленного... И он дождался, всеми силами подталкивая, провоцируя, наблюдая... И теперь никакая сила не удержит его.
Та ночь стала «судным днём» для Константинополя, когда хохочущие и злорадствующие горожане и стражи увидели с крепостных стен, как садятся крестоносцы в галеры, а минутами позднее — как стремительно поднимаются башни таранов и камнемётных орудий. Тысячи костров зажигаются под стенами крепости, сотни пылающих факелов, огромных валунов, десятки тысяч стрел разом обрушиваются на город. Снова ощетинившиеся пиками копий галеры, вплывают по бухте Золотого Рога, но на этот раз они не щадят ничего и никого.
— Разрушить город! Камня на камне не оставить! Не жалеть ни храмов, ни дворцов! Уничтожить статуи и колонны, сжечь всё в огне, разрубить мечом, раскрошить тараном... пусть этот город сгинет в летах! И чтобы на века запомнили от чьих рук нашла гибель великая империя! — голос Белого рыцаря касался каждого, а кого не коснулся, тому передали дословно. — Этот город выбросил нас, словно рухлядь, решив не считаться с нашей силой, а мы покажем им в ком истинная сила. Убивайте всех — и женщин и детей, не щадить никого!
Уничтожение Константинополя крестоносцами вошло в историю как «Гибель Царь-града». За три дня город подвергся полному разгрому: были расхищены могилы императоров, из которых извлечены все находившиеся в них драгоценные украшения и сокровища, и крестоносцы не просто разграбили могилы, а вытащили иссохшие тела, приколачивая кости к воротам и стенам храмов, не страшась гнева небес; они не пощадили памятники античного искусства, собранные императором Константином и его преемниками — в огне погибли великолепнейшие бронзовые и мраморные статуи, колонны, картины, книги; пылали храмы и церкви, а в них — укрывшиеся от крестоносцев люди; иконы и святые мощи разрубались ударом топора и меча, золото и серебро драгоценных окладов плавилось в огне. Ужас и хаос, что творились все дни разгрома, запомнился всем, кто остался в живых.
Юнги обнаружил себя среди лютующих рыцарей, точно так же поддавшись влиянию Белого рыцаря, круша всё и убивая всех вокруг. Он точно так же нёсся по пылающему огнём Константинополю, с перекошенным от ярости и запаха крови лицом, сам зачастую поднося огонь к очередному храму, проливая реки крови. И то, что Хосок был рядом, весь в крови и с чёрным огнём в глазах, казалось самым правильным, что может быть. Юнги знал — Чанёля здесь нет, он увёз Бэкхёна в Скутари, подальше из этого ада, и это тоже было правильным.
На третий день Намджун снова призвал всех, но уже стоя на руинах Халкидона, сжимающий меч, что так и не отмыл от крови. Он объявил всех крестоносцев свободными, и оставлял решение за ними — отправиться ли за море в Египет и дальше неся Крест Папы, или возвращаться в родные земли, и сам снимал с себя полномочия главнокомандующего. В последний раз он окинул взглядом ряды воинов, словно благодаря каждого... и прощаясь.
*
Юнги хватило одного взгляда на мужчину, чтобы понять — Намджун хочет сказать важное, но, как оказалось, не только сказать.
— Прошу... идём со мной.
Закатное небо едва забрезжило сумерками, когда два всадника молча подобрались к южному побережью Халкидона. Юнги осознал, что впервые видит это место, и ни разу не бывал здесь за все эти месяцы.
Пустынный обрыв у моря с мягкими пологими холмами, с редкими оливковыми деревцами и диким виноградом. Одиноко петляющая тропинка, что, то исчезала меж холмов, то появилась. Столь удивительным было увидеть такую тишь и умиротворение рядом с вечно шумным городом. И почему-то естественным казалась здесь небольшая могила, которую он и не сразу заметил. Они остановились рядом с ней, несколько долгих секунд смотря также молча.
Юнги сразу понял, чья это могила, и не был удивлён этому, скорее был изумлён, почему Намджун привёл его сюда. Но всё становится понятным, когда он видит выкопанную могилу рядом. Холод проходит по позвонкам, заставляя мурашиться жуткими волнами всё тело, и волосы на затылке дыбом встают.
— Я похоронил его здесь... на следующий день после гибели.
— Мои сомнения возникли, когда я увидел восковую маску на лице императора, а подтвердились когда ты приказал разрушить город, — Юнги тихо озвучивает своё подозрение.
— Сколько империй сгинуло в веках, сколько городов, великих и неприступных, исчезли с лица земли. Неужели ты мог подумать, что я оставлю его там — в крепости на семи холмах, где сменилось столько правителей, от языческих идолопоклонников до православных монархов?
— Этот город являлся бесценным подарком для него. Ты его преподнёс ему.
— Этим и погубил... — горечью в голосе мужчины можно было затопить море. Намджун садится на колени рядом с небольшим холмиком могилы, что ещё не заросла травой, протягивая руку к земле, касаясь её, словно величайшей драгоценности. — Мой ангел покоится здесь. Его могила не украшена золотом и мрамором, ни алчный разбойник, ни странствующий бедняк не разрушат ее ради наживы, лишь помолятся за упокой светлой души. Пусть пройдут сотни лет и на месте разрушенного Константинополя возведут новый город, придут другие правители, поменяв богов и храмы, другая речь будет звучать на её улицах, а мой ангел будет жить в вечности, пусть безымянным и безызвестным.
Юнги стоит поодаль, не смеет подойти ближе, страшно смотреть на пустую могилу, зияющую чернотой. Он слушает мужчину, а внутри него такая же чёрная пустота и зависть... странная и острая зависть — могила его возлюбленного — синее море, и нет такого места, где он мог преклонить колени, выплакать свою боль, провести пальцами по выбитому на граните имени... а Намджун может. И сейчас собирается возлечь рядом с ним, воссоединиться душой, и тем самым обрести покой. Как же Юнги завидует Белому рыцарю — нет у него такого счастья отправиться на небо вслед за возлюбленным!
— Я... не могу убить себя, — Юнги не видит лица рыцаря, но по голосу чувствует, что тот захлёбывается в слезах. — Не могу принять яд, вонзить в грудь кинжал или упасть на свой меч. Душа самоубийцы обречена блуждать между небом и землёй, и мне не добраться до него, не быть с ним в вечности.
Юнги видит, как падают мужские слёзы на могилу, как медленно, не вставая с колен, Намджун снимает меч с пояса, укладывая рядом с пустой могилой, и с глухим звоном стягивает кольчугу через голову. Шнуровка рубашки сама скользит шёлковой лентой, распахиваясь на широкой груди, обнажая кожу, когда Намджун оборачивается к Юнги, смотря ему в глаза. В них вся мольба мира и решимость Вселенной, в них боль, в которой тонешь безвозвратно, и лишь теперь Юнги понимает почему Белый рыцарь был столь отрешён всё это время — он готовился к уходу словно ко встрече.
— Я не сделаю этого, — сказано решительно, но во взгляде — растерянность и слабость.
— Прошу... убей меня. Только ты это сможешь, — Намджун умоляет на коленях, не опуская головы, смотря прямо в глаза, словно в душу. — Вульф... он не поймёт, не сможет. Я даже попрощаться с ним не могу — он не сможет отпустить меня.
— Значит я могу?! — Юнги почти кричит, отступая на шаг.
— Сможешь! Ты обещал мне! Ты клялся!
— То было словно в прошлой жизни!
— Я... я сам выкопал себе могилу... в ту же ночь, что и похоронил его, когда собственными руками обернул в саван... засыпал землей, и крест воткнул над его могилой.
— Нет! — Юнги отступает ещё дальше, но рука рыцаря крепко обхватывает запястье мужчины, с силой сжимая в кулаке. Свободной рукой он берёт свой меч, вкладывая его в захваченную ладонь.
— Заклинаю тебя всем, чем ты дорожишь! Убей меня! Закончи всё это, и отпусти самого себя от призраков прошлого, — Намджун больше не умоляет — требует, приказывает, с силой сжимая рукоять меча и сам же направляя острие в своё сердце.
— Прямо сейчас ты проявляешь малодушие и трусость, боясь оставаться в этом мире без него...
— Да, боюсь! Я не могу без него... никогда не мог. Вся моя жизнь была посвящена только ему: мои стремления, мои мечты и цели, мои надежды... всё было только ради него. А сейчас... в этом больше нет смысла.
— А мне?! Мне что делать?! — почему-то слёзы брызжут из глаз Юнги, а рука, сжимающая меч, дрожит. — Сколько я уже живу без него, и каждый мой день — пытка и соблазн уйти вслед за ним! Но всё же — смерть, это не выход!
— Для меня — это единственный путь... только к нему. Просто проткни моё сердце этим клинком. Похорони меня здесь, засыпав землёй, но не ставь креста, не делай могилы, сравняй с землей это место, чтобы ни один человек не смог увидеть рядом с ангелом того, кто его же и погубил. Я! Я погубил Сокджина! Только я виновен в его смерти! И нет мне прощения ни в одном из миров!
— Прощения достоин каждый, — быстро шепчет Юнги, хоть и понимает, что не сможет разубедить Белого рыцаря. — Мы никогда не были друзьями, но были хорошими врагами. И то, что судьба столкнула нас в этой жизни было не просто так...
— Ты был моим лучшим врагом! — Намджун не даёт договорить мужчине, чуть подаваясь вперёд, смотря в глаза столь пронзительно. — Так останься таковым до конца. Закончи это.
Юнги застыл, понимая, что это конец. Рука более не дрожит, и клинок всё также направлен в сердце. Неужели всё шло именно к этому? Возможно ли, что судьба столкнула их, чтобы они погубили друг друга? Намджун лишил его смысла жизни, а Юнги лишит его самой жизни. Вихрем перед глазами проносятся моменты — турнир в Анжу, их сражение, что вошло в легенду; пленение... поход, предательство, потеря... каждый момент, каждое слово и взгляд — всё вело именно к этому — к тому, что один стоит на коленях, моля о смерти, а второй стоит с обнажённым мечом у сердца другого. Противиться ли судьбе, убрав клинок в ножны, или позволить случиться тому, что суждено? Чем обернётся для Юнги неповиновение року, а что станет наградой за его принятие? И видимо, в глазах его отблеск мучительного выбора, который Намджун понимает без слов.
— Так надо, поверь мне...
Секунды колебания словно бесконечная пытка, и Юнги не выдерживает — медленно поднимает рукоять меча вверх, нажимая острием так, что капли крови бегут по бледной коже. Губы упрямо поджаты, хоть в глазах сожаление.
— Не жалей меня, — Намджун улыбается, медленно поднимая уголки губ, и слёзы всё же срываются из глаз. — Я счастлив... Прощай.
Рука дрогнула, но лишь на доли мгновения, и слова срываются прежде, чем острие с силой проткнёт грудь, навсегда остановив ход сердца.
— Прощай.
Юнги чувствует всё: как рвётся ткань, как хрустит кость, и мышца упругим мясом нанизывается на клинок. Казалось, последний стук сердца отдаётся вибрацией меча, ибо руки теперь снова задрожали. Но мужчина лишь сильнее нажимает, насквозь протыкая грудь Белого рыцаря. И всё так же глаза в глаза, словно — отверни взгляд и всё окажется нереальностью. Намджун закрыл глаза, закатывающиеся к небу, и с последним хрипом, последним выдохом, запрокидывает голову, падая в могилу. Клинок выскальзывает из груди, открывая проход потоку крови, залившей грудь рыцаря, и сердце... большое и сильное сердце, полное глубоких чувств, трепетных и нежных, волнительных и страстных, замирает навсегда. Но разве это смерть? Разве это конец жизни, когда уставшее бренное тело застывает в покое, а душа обретает свободу? Столь долгожданную и желанную свободу... Так пусть не плачут небеса, пусть не поют тризны, а трубят в серебряные трубы возвещая о счастье и мире, ибо свершилось не убийство, а великодушие, подарившее свободу измаявшейся душе.
Кто может поклясться, что видел, как возносится душа на небеса? Как она в безликом обличии парит в ангельском свете, попадая в мохнатые объятия крыльев? Юнги может, ибо что это, если в тот же единый момент солнечный луч пролёг прямо к могиле, а на фоне небесного светила Юнги увидел широкое белое оперение, словно обнимающее этот луч. Пусть это будет бредом воспалённого сознания, обманом глаз затопленных слезами, но Юнги видел.
Он долго плакал, оплакивая не только смерть Намджуна, но и свою жизнь, их жизни, тесно сплетённые судьбой, своего прекрасного возлюбленного, своего сына...
Юнги уложил его могилу, обмотав беловолосую голову собственной рубашкой, как саваном. Засыпал землёй не оставляя холмика, не водрузил креста, но воткнул меч Белого рыцаря — взять его с собой он не решился. Лишь когда солнце село за горизонт, он вернулся в лагерь крестоносцев. И совсем было ожидаемым, что у самой кромки холмов его ждал Кай.
Один взгляд, на одиноко плетущуюся лошадь Белого рыцаря, сказал ему обо всём — его господина, его старшего брата... отца, больше нет. На доли мгновения сердце Вульфа сжалось от обиды — он даже не попрощался с ним. Но в следующее мгновение оно же и разрывается от вселенского горя — Белого рыцаря больше нет! В глазах застыл немой укор, а Юнги кажется видит, как в этих глазах весь мир рушится. Но он лишь пожал ему крепко плечо, не сказав ни слова.
*
Пролив Босфора снова кишел венецианскими галерами, в которых укладывались пожитки и добытые ценности. Повсюду сновали люди — капитаны судов, моряки, гребцы, рыцари, вокруг шум и сумятица — все собирались к отплытию. Юнги и Хосок уплывали после Бэкхёна и Чанёля, поскольку нужно было собрать к отправке британский дивизион — без малого четыре тысяч человек, и отряды галлогласов, тоже более двух тысяч, а для них нужно было не менее двухсот галер. Им придётся дождаться когда вернутся уже отплывшие суда, или отправиться по южно-германских землям. Всё же было решено подождать галеры.
— Бэк? Всё готово? Как скоро отплываете? — Юнги вышел к пирсу проводить друзей, и Хосок присоединился к нему, с улыбкой смотря на двух, ставших уже родными для него, людей.
— Отплываем с закатом, — Бэкхён улыбается ломано, явно волнуясь — воспоминания о грозе и шторме, унёсшем жизнь Чимина, всё ещё будоражат. — Может всё же отплывёте с нами, Юнги? Лорд Лаут?
— Пока это невозможно, Бэк. Я не могу оставить столько своих соратников на произвол судьбы, но обязательно поплыву вслед за вами. Не волнуйся обо мне.
— Я поговорил с Вульфом, — Чанёль возникает за спиной герцога Анжуйского, перекрывая солнце своими широкими плечами. — Уговаривал его отплыть с нами, но он отказался. Возможно, захочет вернуться в Монферратию или Ахен, но я волнуюсь за него.
— И я не вижу его нигде, — Хосок и сам волнуется за судьбу этого храброго воина, с которым воевал бок о бок столько времени. — Вульфа нет ни среди рыцарей, ни среди командующих.
Но Юнги точно знал, где сейчас этот германский рыцарь, и также, думая о его судьбе, пришёл к решению, что Вульф сам всё решил, и возможно, это единственно правильное решение.
— Оставьте его. Кай останется здесь.
— Но что ему здесь делать? Город разрушен, крестоносцы покидают его. Эти земли для нас потеряны! — Хосок не унимался, искренне волнуясь за юношу.
— Боюсь, он сам здесь потерялся, — Чанёль всё понимает, и чувствует, что не только двое нашли здесь последний приют, Кай не оставит их здесь одних.
— В любом случает, мы примем его решение, каким бы оно ни было, но будем рады, если Вульф присоединится к нам, — Бэкхён не терял надежды и в его добром сердце всегда было место для всех. — Нам пора, Юнги.
— Провожу вас до корабля.
— Что мне передать Хёну? — улыбка не сходит с лица юноши, когда он говорит с другом.
— Что отец скоро будет дома, и сам ему всё расскажет.
До корабля оставалось несколько десятков шагов, когда неизвестный голос окликнул Бэкхёна, бросаясь под ноги к нему.
— Господин!.. Господин... прошу Вас, господин...
— Что? Кто Вы такой и что Вам надо? — Бэкхён чуть отступает назад, а Чанёль обеспокоенно подходит ближе.
— Вы не узнали меня, господин? Я капитан... бывший капитан второго судна, что отплыл с Вами из Марселя. Прошу Вас, господин, помогите нам!
— Капи-тан вто-рого судна?! — Бэкхён задыхается, когда произносит вслух эти слова, и бледнеет стремительно, смотря на Юнги, опускаясь на дощатый пирс рядом с сидящим на коленях моряком.
Облик мужчины совсем не напоминает вид бравого моряка — он отощал, с отросшими спутанными волосами и густой бородой, руки покрыты волдырями и толстыми мозолями. Одежда его оборванная и грязная, и сам он пахнет не самым приятным образом.
— Да, господин. Вы не помните меня? Но я Вас помню. Прошу Вас помогите...
— Что?.. Как... как Вы здесь оказались? Корабль же затонул? Я видел... — Бэкхён вскакивает, хватая несчастного за руки. — Кто ещё? Кто ещё выжил?
— Нас было шестеро. Пятерых, в том числе меня, продали на галеры на невольничьем рынке Триполи. Прошу Вас, господин, помогите — выкупите нас! Век Вам будем служить верой и правдой, только выкупите!
— Юный господин что был с вами... что с ним! Он выжил? Чимин!.. Его звали Пак Чимин!..
Казалось весь мир замер в тот миг, все звуки перестали существовать, все лица смылись, голоса затихли в ожидании одного единственного голоса. Юнги не мог пошевелиться, ни вздохнуть ни выдохнуть, и словно земля разверзлась под его ногами, куда сердце мужчины падало от невероятного волнения. Что ему уготовила судьба — воскреснуть или заново умереть?
— Господина увезли в Дамаск. Его собирались продать на невольничьем рынке в Аль-Хамидие.
— Господи! — Бэкхён выкрикивает в рыдании, снова оседая на мокрые доски. — Чимин! Мой Чимин... Господи, Боже мой!.. Я сейчас умру от счастья! Юнги, Чимин живой!.. Юнги! — истерия не даёт больше высказать слов, хотя к чему они теперь.
А Юнги сам кидается к ослабевшему моряку:
— Говори всё, что знаешь! Как он выглядел... тот, который купил его? Ты уверен, что его повезли в Дамаск? Чимина били... истязали?
— Его даже не связывали верёвками, господин — увезли на повозке, как величайшую драгоценность, а юный господин сопротивлялся и требовал отпустить его за выкуп, — у бывшего капитана на лице появляется подобие улыбки, когда он говорит об этом. — Он очень беспокоился и молился за господина Бёна, — от этих слов Бэкхён рыдает ещё сильнее, а моряк рассказывает всё, что знал, умоляя их выкупить с галеры и позволить отправиться домой, получив уверения и Бэкхёна и Юнги, что всё так и будет.
Если секундами ранее Юнги не мог дышать, то сейчас ему не хватало воздуха — грудь распирало невероятно радостным волнением, и слёзы прозрачной пеленой застилают глаза. Ни одно слово в мире не опишет его чувства сейчас — он воскрес, возродился заново, и всё теперь казалось не напрасным. Ради одного этого момента он готов пережить тысячи походов, бесконечные пытки и предательство, но главное Юнги понял что не отпускало его — ожидание этого момента, этих слов!
— Хосок, — мужчина сам испугался насколько беспомощно прозвучал его голос.
— Ни о чём не волнуйся, я всё понял. Отправляйся в Дамаск немедленно. Я подготовлю отряды к переправке.
— Юнги, я отправлюсь с тобой, — Бэкхён судорожно утирает слёзы, тихо икая от пережитой истерии.
— Я отправлюсь через земли Анатолии и Румейского султаната. Эти земли принадлежат сельджукам, я не могу подвергать тебя опасности.
— Поплывём на кораблях! — Бэкхён на отступает в желании найти друга.
— Тогда нам придётся плыть до Хайфы, а это на самой границе с Иерусалимом, — Чанёль тоже рад неимоверно, но вновь отправляться в неизвестные земли, а тем более отпускать туда своего супруга, не намерен. — По суше тоже путь неблизкий, но и по морю нужно будет сделать огромный крюк.
— Я отправлюсь с небольшим отрядом... — Юнги уже отдаёт приказы, и сам подпоясывается мечом, готовый отправиться в путь.
— Возьми больше людей, — Хосок шагает вслед за ним, пока Бэкхён семенит за ними обоими.
— Нет. Так я привлеку много внимания. Чем меньше крестоносцев в пустыне, тем лучше.
— А если твоего ангелочка не отдадут добровольно? Не согласятся на выкуп или продать?
— Тогда выкраду, войной пойду, но заберу Чимина! — от решимости в голосе и в самом облике Юнги, его друг улыбается широко.
— Я счастлив за тебя, мой друг... невероятно счастлив, и поверить не могу до сих пор, что всё наяву.
— Всё было не зря, Хосок. Всё имело смысл, и только теперь я понимаю это. В какие-то моменты мне казалось, что я должен был что-то изменить, мог что-то изменить — нет, не мог! Ибо всё, что мы совершали, вело неизбежно к этому. Я отправляюсь в путь, Хосок.
— Пообещай, что вернёшься с ним, а твой сын сможет обнять вас обоих.
— Я буду приближать это всеми своими силами. И да помогут мне небеса.
— Аминь...
*
Отряд Чёрного рыцаря ускакал в Румейские степи. Впереди у него долина реки Евфрата и скалы Эльбистана, а дальше, через Газарт вдоль крепости Алеппо — Айюбидское царство он достигнет за четыре дня, а Дамаск — за неделю. Но что такое семь дней для мужчины, скачущего без устали по пыльной долине, перед глазами которого дивный лик его возлюбленного. Сердце его скачет быстрее гнедого жеребца, и слова срываются тихим шёпотом «Только дождись! Только дождись меня!»