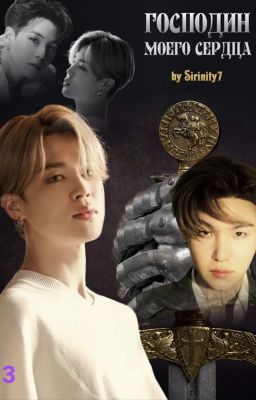Часть 4
========== Глава 4 ==========
Долина Луары. Франция. 1202г
Всю дорогу до замка Анжу Чимин не показывался из крытой повозки, в то время как вся кавалькада ехала неспешным конным ходом, наслаждаясь прекрасной погодой: свежий ветер, неяркое солнце и сочная зелень вокруг — это самое то, после бурной пирушки. Казалось, лорд Лаут Чон Хосок, должен был лежать ничком с дикой головной болью, но выглядел бодрее всех, своим хриплым голосом и громким гоготом оглашая всю округу.
Юнги ехал молча, нахмурившись, и мало слушая кого-либо, держась близко повозки, где сидел его любимый... его прекрасный, нежный, колючий ангел. Сердце мужчины всё также билось и трепыхалось в груди, стоило вспомнить поцелуй, из-за которого мужчина так и не смог уснуть. Только слова, что сорвались с любимых губ ранили сердце рыцаря.
— Неужели всё так плохо, дружище? — неожиданно появившийся Хосок, заставил мужчину отвлечься от раздумий. — Вчера же всё более чем недурно было?
— То вчера. Видимо... я сглупил, Хосок, — обречённо выдыхает граф, пряча взгляд в сторону.
— Только не говори, что ты его поцеловал?! — Юнги молчит, всё также не смотрит, а у Хосока лицо вытягивается и глаза округляются. — Пресвятые небеса, ну ты даёшь, Юнги — днём во всеуслышание объявил, что он в твоём сердце, а уже вечером целуешь. Да ты бы хоть дал своему ангелочку привыкнуть... смириться, он бы сам потянулся, я видел это в его глазах вчера вечером.
— Ты был пьян вдрызг, что ты там мог видеть? — огрызается граф, хоть понимает, что друг прав.
— Э-ээ, вот здесь не совсем правда, я выпил лишь малость — полбочонка эля (20,4 л), — и тут у Юнги глаза округляются.
— Пьяница, — как приговор звучит из уст британского графа, на что ирландец только смеётся. — Хватит ржать, Хосок. Видишь, у короля Монферратского голова раскалывается, — и оба смотрят на статного и бледного Сокджина, ехавшего в сопровождении герцога Анжуйского, тихо переговариваясь с ним, а его верный страж почему-то был далеко позади.
— Видать и он вчера переборщил... со своим рыцарем, — снова хохочет рыжеволосый, качая головой.
— Ты когда-нибудь дошутишься, Хосок, — итожит граф, умолкая далее, но минуты спустя всё же спрашивает, — Что мне делать?
— Поцеловать ещё раз.
— Что? — Юнги не знает злиться ему на друга ещё больше или рассмеяться.
— Понимаешь ли, он вчера не понял понравилось ему или нет. Подозреваю, что вообще ты первый кто его целовал, — серьёзно говорит Хосок, замечая довольную улыбку друга и смущённый, опущенный взгляд. — Только умоляю, дружище, не сегодня и не завтра. Раз уж ты решился на это, прояви терпение. Никуда от тебя твой ангелочек не денется. А знаешь что, попроси прощения за поцелуй.
— Как? Почему?
— Если разозлится, то точно неравнодушен к тебе, руку даю на отсечение. А если спокойно пошлёт к чёрту и заодно простит, то тут уж прости, дружище, ничего не поделаешь, — Хосок поджимает губы, пожимая плечами, замечая растерянность друга.
Тем временем солнце всё чаще скрывается за темнеющими тучами и ветер заметно усиливается. За холмом уже сияют пики башен родового замка Анжу, чьи белокаменные стены с плоскими смотровыми крышами, возвышались над округой. Южная сторона замка, что являлась главным входом, состояла из трёх огромных, округлых башен, с широкими стенами меж них. Западная башня — сторожевая, выделялась средь остальных высокими зубчатыми стенами, а северная соединяла в себе и башню и донжон{?}[Донжо́н (господская башня) — главная башня в европейских феодальных замках и находится внутри крепостных стен].
Небольшие деревушки перед замком были полны суетящихся людей, что, едва завидев благородных господ, срывали шапки, кланяясь в пояс.
Полноводная река Луара с ответвляющимися рукавами бурных ручейков протекала вдоль дороги, мягко уплывая в долину, где располагались пашни и луга, а дальше темнел молодой лес.
Перед самим замком был обширный, глубокий ров, где можно было плыть на лодках. Он соединялся с рекой небольшим каналом, и даже сейчас можно было заметить несколько одиноких парусов, где спешно гребли к замку — приближалась гроза.
Первые раскаты грома раздались уже тогда, когда путники добрались до моста. Бэкхён обеспокоенно кинул взгляд на крытую повозку, где сидел Чимин, приказывая быстрее гнать до внутреннего двора, чем заслужил заинтересованный взгляд короля Монферратского.
— Ваш друг боится грозы? — безошибочно угадал он, тихо спрашивая у молодого герцога.
— Ох, невероятно. Слава богу, что гроза не застала нас далеко от замка.
— А я люблю грозу, — как-то мечтательно произнёс Сокджин, своим красивым взглядом смотря на темнеющее небо, — и не боюсь совсем. Перестал бояться... давно уже «когда жил совсем один в высокой башне, и был ближе всех к этой грозе».
— Я тоже, — улыбается юноша, глазами пытаясь незаметно найти любимого среди всадников, и немного удивляется, заметив его рядом с Белым рыцарем. — Ваш... пфальцграф, барон Тироли, он ведь не просто возглавляет Ваше войско, монсеньор?
Сокджин слабо улыбается, услышав имя своего рыцаря. Обида гложет его с прошедшей ночи, когда его пылкое признание в виде поцелуя было отвергнуто, и весь день от безрадостных размышлений болит голова. Краем глаз он замечает Намджуна, что едет в стороне и беседует оживлённо с Чанёлем. «Снова вербует нового воина-пилигрима. Он только о походе и думает, о битвах... а обо мне никогда. Зачем ему глупые чувства, если слава будет окружать его после похода. Глупый король, глупая любовь, глупый я...»
— Да, не просто. Барон возглавляет всё шествие. Он первым принял Крест Папы и провозгласил меня предводителем похода. Он, как мой вассал, ставший пилигримом, принёс Крест и корону в мои земли, в мой родовой замок Казале в Монферратии.
— Корону? — непонимающе переспросил герцог. — Вы хотите сказать... что не были коронованы в тот момент?
— Да, — снова слабо улыбается король, опуская свой взгляд, — Намджун... барон Тироли сам меня короновал от имени Папы Римского. — Сокджин затихает, вспоминая тот далёкий день, когда стоя посреди огня и битвы, на его голову опустили корону.
Бэкхён слегка ошарашен новостью, хоть и пытается скрыть волнение, пряча глаза и сильнее сжимая поводья.
— Но... разве не император Священной Римской империи должен... признавать вассальных правителей?
Сокджин мягко улыбается, в то время как гром грохочет над их головами и первые скромные капли падают на его красивое лицо.
— Да, должен был. Но император поддержал моего брата, которому сейчас чуть больше трёх лет. Он был коронован в тот же год и в тот же месяц, что и я. Опекуншей была назначена моя мачеха — герцогиня Веронская.
Бэкхён тяжело сглатывает, подавляя дрожь в теле от услышанного — он привёз к себе в замок незаконно коронованного короля, сделал свой замок его временной резиденцией, а вслед за ним, привёл чуть ли не огромное войско. Да, он знал о том, что король был изгнан, но что Сокджин пошёл против своего императора и принял корону от Папы Римского, давнего противника императора Священной Римской империи Оттона IV, герцог слышал впервые. И вдруг его страх сменяется радостью, почти счастьем — герцог Анжуйский друг и союзник короля вне закона, приютивший у себя всю его свиту и войско. Если королевский совет узнает об этом, а о таком точно все узнают, они будут против герцога Анжуйского, как возможного наследника французского престола. И тогда... свобода от бремени правления и уз ненавистного брака.
— Я рад, — вырывается у молодого герцога, поднимая лицо навстречу падающим каплям.
— Рады? — тихо смеётся король, смотря на Бэкхёна, чьи охристые волосы темнеют от дождя, приобретая густой медовый оттенок, как и глаза, что действительно искрятся от радости. — Простите, чему?
— Что Вы здесь. Вы и все те, кого я люблю. Добро пожаловать в Анжу, монсеньор, — и широкая улыбка зеркалит точно такую же, что на лице и у короля.
Дождь усиливается, превращаясь в настоящий ливень, в минуты накрыв всех, и промочив до нитки. Господа торопливо заезжают под своды замка, спешиваясь и передавая своих скакунов оруженосцам. Намджун уводит отряды воинов к западу от замка, где будет стоять войско пилигримов. За ним едут Кай и Хосок со своими галлогласами, что тоже разобьют свои шатры.
Юнги сразу же устремляется за графом Блуа, но Бэкхён останавливает его.
— Не сейчас, мой друг. Я пока не знаю что у вас произошло, но чувствую, что с Чимином не всё в порядке.
— Это я виноват...
— Кто бы сомневался, — пытался шутить герцог, но вид стоящего перед ним мужчины не допускал и намёка на шутки.
— Мне нужно вымолить у него прощение, пока Чимин не покинул Анжу.
— Думаю, в ближайшее время это будет невозможным. В такую погоду лучше не оправляться в путь, хоть до замка Блуа чуть более часа езды. К тому же... я распорядился подготовить вам комнаты... рядом, — неуверенно улыбается юноша.
— Благодарю, — слабо улыбается граф, — но всё же... я пойду к нему, не могу больше. Я долго ждал... слишком долго, не хочу больше ждать. Люблю его. — Юнги отводит взгляд, хоть судорожный вздох выдал его волнение, а Бэкхён смотрит нежно, как мать на своё дитя, мягко обхватывая руку мужчины.
— Хорошо, Юнги, иди к нему. Но прошу не торопись, и слушай своё сердце.
Мужчина исчезает в проёме огромных кованых дверей, поднимаясь по винтовой лестнице на верхний этаж, где пройдя огромную полупустую залу, вышел к узкому проходу к спальням и комнатам. Действительно, их покои были рядом, слуги суетились в обоих помещениях, расставляя сундуки и раскладывая вещи.
Гром гремел и молнии засверкали за узкими окнами, что спешно закрывались плотными гобеленами и зажигались свечи. Хёну был уже в комнате отца, приветствуя его с улыбкой, а в правом ушке колышется серьга с чёрным агатом. Каждый раз, смотря на это украшение, сердце мужчины заходится от волнения и нежности, вспоминая от кого Хёну получил этот подарок. Вот и сейчас глаза ищут только светловолосого ангела, голос чуть дрожит, когда он спрашивает о нём. Прислужник, учтиво кланяясь, сообщил, что господин Чимин спустился в банные комнаты.
Юнги сомневается лишь несколько долгих секунд, а после решительно спускается на нижний этаж, где находились прачечные и банные комнаты.
Замок Анжу самый большой дворец на юге Франции, и сейчас мужчина буквально теряется в нём, хоть знает его как свои пять пальцев. Юнги практически рос здесь, живя в Анжу с десятилетнего возраста, когда в его родном Норфолке шла война между его отцом и родным дядей. Старший лорд Норфолк спрятал своих жену и сына здесь, в Анжу, что являлся родным для матери Юнги. Два года они жили в замке, опасаясь за свои жизни. Юнги видел как рос крохотный Бэкхён, сам учил его ходить. Вспоминая всё это, мужчина мягко улыбается — эти стены помнят многое: радость, страх, ненависть, любовь... Именно здесь, в Анжу, Юнги впервые увидел Чимина — совсем юного, маленького и немного напуганного, с огромными льдисто-голубыми глазами, с этими греховными губами, от которых мужчина просто сошёл с ума... от всего юноши сошёл с ума.
С того дня прошло пять лет. Пять долгих, мучительных лет для мужчины, сгорающего от любви, умирающего от страсти, сходящего с ума от ревности, но ни разу ни словом, ни взглядом не выдавшего желания своего сердца — любить... любить безумной, нежной любовью. Ибо сначала он был женат, а потом его возлюбленный проявил нетерпимость и открытую неприязнь к любви между Бэкхёном и Чанёлем. Тогда мужчина понял — его любовь не найдёт отклика и безнадёжна. Да только этот турнир, этот чёртов Хосок, и Бэкхён, вечно шепчущий, что пора бы и признаться... всё сложилось так, что Юнги открылся. И теперь его прорвало, как плотину безудержным течением. Всё, что копилось в сердце мужчины столько лет, вся его нежность, вся страсть, обожание — всё торопилось выплеснуться наружу, грозясь затопить не только объект поклонения, но и самого мужчину, лишить его последних остатков разума. И чем, если не безумием можно назвать сей поступок мужчины — отправиться в банные комнаты, прекрасно понимая, что Чимин обнажённым лежит в кадке для купания с горячей водой.
Густой пар стоит в большой комнате, лишённой окон, лишь несколько узких бойниц под потолком. Между тремя большими кадками суетились прислужники с лоханями и вёдрами, наполняя горячей водой ещё пустые купальни, укладывая на их дно мягкие ткани для господ.
Чимин лежал в одной из таких, откинув голову с закрытыми глазами, вытянув ноги под водой, и тонкими ручками обхватив бортики. За пределами замка бушует гроза, сверкают молнии и грохочет гром, которого юноша до смерти боится. А здесь, за толстыми стенами замка, он в безопасности, и сюда не донесутся ни раскаты грома и молний, ни шум дождя. Здесь тепло, тихо... почему-то слишком тихо. Чимин распахнул глаза и не увидел никого вокруг — полупустые вёдра стояли у кадок, а самих слуг и след простыл.
Всплеск воды и лёгкое колыхание вокруг заставляют юношу обернуться к противоположному борту... и Чимин начинает задыхаться — абсолютно обнажённый Юнги опускается в горячую воду напротив него. Он пищит, жмурясь крепко, и чувствует вибрацию воды, пускающую мурашки по коже.
— Вы же не будете против, если я полежу в воде вместе в Вами, Чимин? — в пустой комнате с каменными сводами, голос мужчины отскакивал от стен тихим эхом.
— Вы уже лежите, что ж Вы спрашиваете, граф? — цедит сквозь зубы юноша, так и не открывая глаз. — Может всё же перейдёте в другую купальню?
— Они ещё не наполнены, — Юнги почти шепчет, руками проводя по глади воды.
— Возможно, кто-то просто прогнал слуг? — гневно заявляет юноша, всё-таки открывая глаза.
Юнги тихо смеётся, но смотрит пронзительно и снова шепчет:
— Мне нравится именно эта кадка.
— Тогда я пойду в другую, — юноша поднимается решительно, но вспомнив, что тоже обнажён, резко садится обратно под тихий смех мужчины.
— Останьтесь со мной, Чимин. Обещаю, я и пальцем Вас не трону.
— Только попробуйте сделать это, — вновь угрожает юноша.
Юнги смотрит вопрошающе:
— Вы против, чтобы я Вас не трогал?
Чимин прикусил язык, понимая, что сказал глупость, вовсе не это он имел ввиду.
— Нет. То есть да. В общем, я не хочу.
Юнги смеётся громче, и пользуясь замешательством юноши, движется ближе.
— Не бойся меня, Чимини. Я никогда не причиню тебе страданий или боли, — мужчина так спокойно переходит на «ты», вновь приближаясь по миллиметру к юноше. — Я правда хотел поговорить с тобой... о вчерашнем.
— Мы вроде бы договорились забыть об этом...
— Это лишь ты захотел забыть, не я. Мне никогда не забыть того вечера, когда ты танцевал со мной, в моих руках. Никогда не забыть твоих дивных глаз, что впервые смотрели на меня, так открыто... так доверчиво. Не забыть тепла твоей нежной руки, мягкости кожи, сияния волос... — голос мужчины всё тише, чарует своим тембром, волнует глубиной, и юноша замирает... в который раз замирает перед этим рыцарем, как заворожённый, а Юнги всё тише и ближе. — Никогда мне не забыть той ночи, той луны и звёзд, той сладости, что была меж нас...
— Юнги...
— Не забыть поцелуя... касания губ твоих, полыхания кожи под моими пальцами, смущения твоего, взволнованного дыхания... мне не забыть тебя, никогда.
— Замолчите, — как-то тихо и слабо прозвучало из уст юноши, а Юнги совсем близко, так близко, что под водой соприкасаются стопы и икры, и над водой дыхание обжигает щёку.
Чимин жмётся к бортику, прикрывает глаза, руками обхватывая себя за плечи, когда слышит:
— Посмотри на меня, мой прекрасный, — и длинные пальцы мужчины легко обхватывают его подбородок, заставляя смотреть на себя. Юнги склоняется над ним, смотря в его распахнутые от изумления глаза — Чимин абсолютно уверен, что его снова будут целовать. — Я хочу попросить прощения, — как гром среди ясного неба для юноши, хотя за окнами действительно гремит сильный гром.
— Ч-что? — юноша хлопает ресницами ошеломлённо. — К-как? Почему?
— За поцелуй. Я прошу прощения, что поцеловал Вас, — снова на «вы» и голос чуть спокойнее.
— В смысле просите прощения... з-за поцелуй? Что это значит? Вы сожалеете, что это было? Сожалеете, что... целовали меня?! Да как Вы смеете?! — Чимин брыкается в воде, разбрызгивая её в гневе, а Юнги смотрит внимательно и молчит. — То есть, какого чёрта Вы мне тут... объясняетесь... в любви, чёрт бы Вас побрал, хватаете за руки, целуете... а потом... извиняетесь? Сожалеете? Идите к чёрту, граф Норфолк Мин Юнги, или ещё куда подальше!
У Юнги сердце стучит бешено, и улыбка ширится на лице помимо воли: «Ах ты ж, старый чёрт, Чон Хосок — если разозлится, любит значит! Любит!». Хоть лорд Лаут и не говорил про любовь, а лишь про неравнодушие, но обезумевший от счастья мужчина хочет думать лишь так.
— Чимин! — он пытается схватить юношу за руку, но получает отпор. Взбрыкнувший Чимин отталкивает его руками и ногами, раз за разом посылая мужчину к чёрту и его приспешникам.
— Вы уж определитесь, благородный господин Мин Юнги, в своих чувствах, и лишь потом объявляйте об этом всему миру, и не целуйте меня, доводя до болезни сердца и желудка.
— Я люблю тебя безумно, — ошалевший мужчина тянется снова к любимому, но юноша ловко перегибается через борт купальни, падая на холодные камни пола. Он дрожащими руками оборачивается сухой тканью, в то время как мужчина предстаёт перед ним снова голый, во всей красе.
— Чимин, прости меня.
— З-за что на этот раз? — юноша кутается в плащ, закрывая промокшую ткань, судорожно цепляя кожаные башмаки. — Что-то Вы слишком часто просите прощения.
— За то что... люблю? — немного неуверенно говорит голый мужчина.
— Я придушу Вас сейчас за это, — цедит юноша, впиваясь в него взглядом, что снова дымкой сереет от гнева. — И прикройтесь ради Бога. Хоть мы оба мужчины, но мне не доставляет никакой радости смотреть на Вашу наготу, — Чимин всерьёз гневается, но глаз не отводит: от широких плеч, от сильных рук с бугрящимися мышцами, от крепкой груди с тёмными сосками, от живота с тонкой полоской мягких волосков, бегущих к...
— Прикройтесь я сказал, — Чимин бросает в лицо мужчине другой кусок ткани, резко разворачиваясь и с шумом распахивая дверь, под которой испуганной стайкой разлетелись в разные стороны хихикающие юные прислужницы.
— Больше в банные комнаты я ни ногой, — строго выговаривает своего слугу граф, — кадку принесите в мои комнаты. Как только погода уляжется, уезжаем сразу же.
Но ливень практически не прекращался ни через день, ни даже через неделю, буквально заперев хозяев и гостей замка в неприступной крепости.
*
Замок насчитывал почти двести лет истории, но был крепким и безопасным, а самое главное удобным: сквозняки не гуляли по просторным залам и небольшим спальням, все три этажа каменных пролётов соединялись винтовыми лестницами, а между башнями располагались проходы, так что не было необходимости выходить во внутренний двор.
Покойный герцог Анжуйский заботился о безопасности, а герцогиня о комфорте, украшая и обустраивая замок вещами, не совсем распространенными среди других господ, например, отдельными гардеробами для каждой комнаты с купальнями. Естественно, что лучшие покои были предоставлены королю Монферратскому, коего герцогиня встретила с широкой натянутой улыбкой, а графа Норфолка не удостоила и этим, сухо поинтересовавшись здоровьем графини Мин, её родственницей по покойному мужу.
Сама герцогиня Анжуйская, властная и строгая дама, моложаво выглядящая для своих лет, почтительно, но холодно приветствовала гостей и редко появлялась в общей зале, предпочитая проводить время в компании своей дочери. Обе женщины старались избегать и короля и графа Норфолка, но часто посещали покои Бэкхёна.
— Этот проклятый рыцарь, презренный мужеложец снова здесь, — герцогиня грубо указывала на Чанёля, которого в замке не было, но был Юнги, а значит и бывший оруженосец где-то близко.
— Не смейте так о нём говорить, маман! Он мой возлюбленный!
— Побойся бога, грешник! Гореть ему в аду за то, что совратил тебя, сбив с пути истинного.
— Я люблю его, и он останется со мной в этом замке. Больше я не расстанусь с Чанёлем ни за что!
Женщина затихает от услышанного, крепче сжимая жемчужные чётки меж пальцев, и тонкие брови заламываются от гнева и боли. Голос сильной женщины тоже ломается, но сталь в нём не исчезает:
— Мой единственный сын прелюбодей и грешник, что никогда не смоет позора со своего имени.
— Замолчите матушка, Вы рискуете вызвать мой гнев!
— А что мне с твоего гнева? Ты довёл до смерти собственного отца. Он умер после того, как узнал... о твоём позоре.
— Отец скончался от болезни...
— Болезни сердца! Ты этому способствовал! Его смерть на твоём счету!
Бэкхён вскакивает с кресла, в котором сидел, сжимаясь от подступающего гнева, впившись в подлокотники пальцами. Сжатый кулак с силой опускается на стол, заставляя греметь кубки и блюда на нём.
— Не смейте, — шипит юноша сквозь сжатые зубы, — не смейте говорить мне о таком. В смерти отца нет ничьей вины, кроме воли Божьей!
Женщина всё также спокойна, холодности и властности ей не занимать, ни один мускул не дрогнул на её лице, и голос её тих.
— Пусть пока так и будет, милорд. Но... мой дорогой племянник Луи — король Франции, обеспокоен твоим будущим, — женщина знает, что наносит удар по своему сыну, и делает это с особым удовольствием. — Мне известно о его решении, и я полностью поддерживаю короля. Нам нужно готовиться к свадьбе, Бэкхён, и к возможной коронации.
— Этому не бывать! Нет! Я не соглашался!
— В начале сентября король прибудет в Анжу, дабы благословить войско пилигримов на крестный поход в Святые земли. Тогда же прибудет и посольство из Прованса с твоей невестой. У тебя нет выбора — ты женишься, и твоя супруга родит нам наследника.
— Наследников могут родить мои сестрицы. Меня же оставьте в покое.
— Они будут отпрысками других родов, не Анжу. Твоя обязанность как правителя герцогства, как мужчины в конце концов, родить наследника. Свадьбе быть, и ты никуда не денешься от воли короля.
— Чанёль будет жить здесь со мной!
— Тогда меня здесь не будет!
— Можете покинуть замок хоть тотчас же!
Женщина медленно поднимается с кресла, впиваясь полыхающим от гнева взглядом в сына.
— Ты... променяешь собственную мать, родных и близких... на этого... мужчину?
— Да! Ибо люблю его больше жизни! А у родных, как и у собственной матери, я не могу найти поддержи и ласки.
Женщина стремглав покинула покои сына и более не возвращалась после этого разговора, а через три дня уехала в летний дворец в округе Мэна, забрав с собой младшую дочь.
*
Через полторы недели в замок вернулись и Чанёль с Хосоком, и барон Тироли со своим верным помощником.
Намджун сразу же устремился в покои своего короля — докладывать о размещении войск и об их пополнении, широкими быстрыми шагами преодолевая каменные пролёты, арки, лестницы, с грохотом отстукивая по мрамору пола огромной залы, и так боялся признаться себе, что его гонит не долг рыцаря, а сердце... сердце, что стучало бешено, разрывая кольчугу, грохоча на весь замок — так рвалось оно к своему возлюбленному!
И вот он, наконец, перед ним, в сумраке великолепно обставленных покоев, освещённых золотистыми огоньками свечей, опускается перед ним на одно колено, склонив голову, не смея взглянуть в столь любимое, прекрасное лицо короля.
— Майн конунг, — от волнения Намджун заговорил на немецком, и голос рыцаря слегка дрожит, когда он обращается к нему.
Если бы сердце мужчины так не стучало, если бы бушующая в теле кровь не застилала глаза и уши, он бы понял, почувствовал, что юноша перед ним почти не дышит, и прекрасные глаза застилают слёзы.
— Встань мой рыцарь. Я счастлив видеть тебя в полном здравии.
— Мой король, войска к северу отсюда, между Трелазе и Луарой. Вчера прибыли триста стрелков и семь сотен рыцарей с Жарзе. Днём ранее прибыли две тысячи пехотинцев с графства Корбен. Ваше войско, мой король насчитывает девять тысяч пехоты, полторы тысячи стрелков и пять тысяч всадников-рыцарей. Ещё войска расположены вблизи Лавали, они ожидают выступления нашего похода и примкнут к войску тотчас.
Сокджин слушает вполуха, вернее, не слушает совсем. К чему сейчас эти цифры, зачем ему знать об их численности, снаряжении, готовности, если этим голосом он хочет слышать не о них, а о любви.
«Скажи же, что скучал по мне»
— ... ещё два отряда рыцарей размещены около деревни Сергре. К завтрашнему утру Вульф отправится с несколькими отрядами вперёд, дабы проложить основной маршрут...
«Хоть раз в жизни, прямо сейчас, скажи как скучал по мне, что тосковал без меня, что любишь меня!..»
— ... я лично занимаюсь закупкой оружия, а мои помощники строго следят за сбором провианта. Благодаря протекции короля Франкии мы имеем право обирать оброк с деревень, и тем самым пополнить запасы пилигримов...
«Я умирал без твоего голоса. Все эти дни не видел твоих глаз... это невыносимая мука для меня»
Намджун не слышит, глаз не поднимает, вцепился в рукоять меча пальцами до побеления. Он своих слов не различает, хоть и говорит без умолку, пытаясь заглушить собственный голос сердца, что хочет шептать совсем о другом.
— Я скучал по тебе, Намджун!
Мужчина замер от произнесённых мягким голосом слов своего правителя, медленно поднимая свой взгляд, и, казалось бы, не верит услышанному.
— Я тосковал по тебе, мой храбрый рыцарь, — вновь с волнением произнесённые слова не дают возможности притвориться, что предыдущих слов не было, и Намджун их не слышал. Слышал! И каждое признание огнём течёт по его венам, заставляя мужчину рассыпаться на мелкие осколки от любви. Но рыцарь снова молчит, хотя достаточно было бы короткого «и я тоже», чтобы пламя в сердцах обоих разгорелось с невиданной силой, но он молчит.
Секунды стали мучительными для короля, что глаз взволнованных не сводит со своего рыцаря. Время замерло меж них, Сокджин ждёт...
— И я... рад видеть... моего короля в полном здравии, — мужчина снова склонился почтительно.
Сокджин выдохнул судорожно — больше он не выдержит.
— Отдохни от трудов и дороги. Ты заслужил мою похвалу, мой верный рыцарь, — лёгким жестом указывая, что мужчина свободен.
Но Намджун стоит как вкопанный, не шелохнётся, всё также коленопреклонённый. Сокджин знает чего ждёт его рыцарь, но обида и горечь разочарования не дают ему этого сделать. И всё же, секунды спустя, кинув взгляд на мужчину, что с видом побитой собаки стоял перед ним, Сокджин протягивает чуть дрожащую руку. Его обхватывают трепетно, подносят тыльную сторону ладони ко лбу, а после припадают губами столь нежно и пылко одновременно, что у короля тихий стон срывается с губ и глаза блаженно закатываются от волнения в сердце.
Руку не отпускают, целуют и целуют, припадая к пальчикам, проводя по нежной коже губами. Сокджин не может сдержать себя, второй ладонью обхватывает лицо любимого, смотря ему в глаза, в которых боль и обожание.
— И я тосковал по Вам безмерно, — столь тихо, что взволнованному королю могло и померещиться, но глаза мужчины говорят то же самое, и даже большее.
— Намджун...
— Мой король... доброй Вам ночи, — мужчина поднимается, в последний раз коротко целуя руку, секунду мешкает у стола, что стоит чуть позади короля, а после выходит.
Сокджин встаёт устало, зацелованной рукой проводит по своим губам, хоть так повторяя поцелуй. Он снимает свою корону, снова небрежно кладёт её на стол, но замирает, охая изумлённо — на краю лежит бутон красной розы, один-единственный цветок на тонкой плодоножке. Сердце подсказывает, что её принёс Намджун и оставил для него, не смея открыто преподнести. Слёзы крупными каплями катятся из глаз... слёзы счастья — мужчина любит его! В этом нет сомнений!
Бутон розы ложится рядом с ним на подушку, и пухлые губы касаются нежных лепестков, словно губ любимого.
*
Хосок не сдерживался — хохотал так, что гобелены дрожали, несколько раз переспрашивая хмурого друга: «Как, как? Что ты ему сказал? «Прошу прощения, что люблю?!», и снова сгибался с приступе хохота.
— Но ты сам сказал...
— Я сказал попросить прощения за поцелуй. На его месте я бы тебя просто утопил. Ах, Юнги, какой же он у тебя... горячий и холодный, весь такой... мягкий и колючий. А у него нет брата случайно?
— Сестра. Но Сабин помолвлена.
— Жаль. Друг, ты уж не серчай, но если у тебя с твоим ангелочком не получится...
— То тебе точно ничего не светит! Чимин будет моим!
Хосок затих и задорная улыбка исчезла с лица. Он смотрит на друга, что полон решимости. Юнги знает — Хосок лишь дразнит его, провоцирует на более решительные действия, и здесь нет ревности, лишь поддержка, пусть и такая своеобразная.
— Так и будет мой друг, я не сомневаюсь. Раз ты видишь в нём своё счастье, он будет твоим, — серьёзным голосом говорит ирландец, но улыбка вновь ширится на молодом лице, — кто знает, может и на свадьбе вашей потанцую ещё.
— Потанцуешь, — также улыбается в ответ мужчина.
— Только если поженитесь этой осенью. Меня не будет во Франции, впрочем, как и в Британии. Я решил присоединиться к войску пилигримов и отправиться в Святые Земли, — неожиданно заявляет Хосок, чем невероятно озадачивает графа.
— Этот Белый рыцарь так умеет убеждать, да? — Юнги сразу догадался откуда возникло это желание.
Несколько секунд ирландец молчит, словно обдумывает с чего начать, но после говорит почти раболепным голосом:
— Никогда в жизни я не встречал столь сильного духом и одержимого идеей человека. Признаю, барон заразил и меня этим.
— Что он тебе пообещал? Земли? Богатства? Власть?
— Свободу! Свободу и ничего более. Намджун знает ей цену, ибо сам был зависим. Но ради своей идеи...
— Скорее ради своего короля. Давай сразу так и назовём это — барон одержим своим королём.
— Пусть и так. Но признай, положить свою жизнь, мысли, сердце, ради одного человека... Ведь всё это — этот поход, тысячи воинов, огромные расстояния и земли, всё это ради идеи, самопожертвования.
— Думаю, здесь что-то другое, Хосок. Всё это не просто ради религиозного рвения или проявления доблести. Да, им владеют чувства — сильные, глубокие, но какие, и к чему? Возможно, к кому?
— Я покорён им, Юнги. Достаточно было лишь нескольких дней провести рядом с Белым рыцарем, этим германским воином, увидеть его власть над другими ратниками, услышать его глубокий голос, в котором сталь играет, и становится понятным, что лучшего военачальника мир ещё не видел. В нём жестокости столько же, сколько и преданности — своему делу, своим воинам. Я видел, как пред ним преклоняют голову рыцари, что благороднее него происхождением, и ни один из них слова поперёк его команды не скажет. Разве не это есть сила?
— Ты променяешь свою родину, оставишь своих родных, ради призрачной свободы, неизвестности в чужих землях? Не пожалеешь ли ты о своём решении, мой друг? Обратная дорога вряд ли там будет. — Юнги уважает решение друга, но всё же пытается его уговорить остаться.
— С каких пор ты заговорил как девица? — смеётся Хосок, — Хотя я знаю, с тех пор, как в тебе забрезжила надежда на взаимную любовь. Именно она заставляет тебя беречься, сидеть тише мыши.
— Твои слова были бы для меня оскорбительными, если бы это действительно не было правдой. Да, я признаю, если бы Чимин отверг меня, если бы у меня не было той крохотной надежды, что есть сейчас, я бы не раздумывая отправился с тобой. Но у меня она есть, и я цепляюсь за неё, мой друг. Но у тебя же тоже есть за что цепляться — твоя семья.
— Ты называешь семьёй огневолосую ораву, лающихся меж собой, как собаки? У меня восемь старших братьев, Юнги, и ещё столько же младших. А возможно, и ещё столько же родятся. Мой отец неугомонен в свои годы, и его пять жён, и десять любовниц вполне довольны, — хоть рыжеволосый и смеётся, но в глазах затаённая боль... и страх. — Не думаю, что моё отсутствие кого-то огорчит, может быть мать... самую малость. Думаю, мои братья точно обрадуются если я сгину в далёких землях, и я точно знаю, что обратной дороги не будет.
— Так останься со мной, Хосок, в моих землях. Ты был мне другом долгие годы, останешься им и всегда.
— Доживать свой век на службе у британских господ? Быть наёмником за гроши, и их же пропивать в тавернах?
— Быть моим другом, крёстным отцом моего сына и желанным гостем в моём доме, — Юнги всё же пытается уговорить друга, на что получает широкую улыбку.
— А-аа, мой друг! Я знаю, что ты всегда мне рад, но такая скучная жизнь мне не по нраву. То ли дело — война: битвы, сражения, сила...
— И смерть, — тихо добавляет Юнги, — на войне нас ждёт смерть.
— Она всегда нас ждёт, — также спокойно заключает рыжеволосый, — но есть выбор как нам её встретить. Я выбрал войну. Так что, Юнги, будь другом до конца и не пытайся меня удержать — свой выбор я уже сделал.
Юнги молчит, он понимает, что просто теряет друга, но и заставлять его он не может, и лишь надеется, что Хосок сам передумает. Но последующие слова ирландца лишают его и этой надежды:
— Я отправил гонцов к моему отцу и братьям, и вызвал два отряда моих галлогласов. Здесь, со мной лишь часть моих воинов. Также я велел набрать добровольцев, желающих отправиться в этот поход. У меня будет свой легион — так сказал Намджун.
— Я буду молиться за тебя, мой друг. Чтобы ты, несмотря на то, что едешь на войну, нашёл мир в сердце и покой в душе, а может даже и любовь, — Юнги улыбается другу, протягивая руку для пожатия, на что незамедлительно получает ответное пожатие.
Война и любовь? Как совместить эти понятия, хоть столько раз война начиналась из-за любви, а любовь жестоко обрывалась из-за войны. Желать найти любовь на войне, всё равно, что пожелать больному новую болезнь — сильнее и глубже той, которой он болен. Но что окажется сильнее — противостояние мечей или противостояние сердец? Как найти покой и мир там, где лишь хаос и борьба? Видимо, Юнги и сам не до конца понимал смысла своего пожелания, но он её озвучил... а небеса услышали.
***
Дожди наконец прекратились, уступив место солнечным дням, что усиленно иссушали влагу, оставшуюся после ливней. Казалось, природа просто умылась, смахнув пыль летних дней, и распустилась ещё ярче. В садах Анжу благоухали цветы, раскрываясь новыми бутонами, а Чимин наслаждался их ароматами. Его любимые белые пионы отцвели, но жасмин расцвёл во всю силу, не давая спать ночами от столь густого аромата. Кусты белых роз искрились прозрачными каплями росы, что ещё не испарилась в тени густой листвы деревьев, и пышные бутоны чувствовали себя превосходно, как и сам Чимин.
Юноша умело избегал встреч с мужчиной, хоть и жили они в нескольких ярдах{?}[Ярд — 91,44 см] друг от друга. Он всё время чувствовал его близость, его незримое присутствие, будто Юнги следил за ним, даже в закрытой комнате. Но вот в мыслях проделывать такой трюк — прятаться от мужчины, он не мог. Мысли одолевали его, одна противоречивее другой. Как могут быть столь сильными чувства мужчины, хотя живой пример Чанёля и Бэкхёна перед глазами, Чимин всё время думал об этом. Воспоминания преследовали юношу — однажды ночью приснился их танец, а проснувшись, вспоминал как Юнги, чёрт бы его побрал, целовал. Сейчас, спустя время, от этого не так противно, хотя Чимин сам себе врёт — ему и тогда не было противно, просто... всё так сразу, и признание, и танец, вино, поцелуй... Чимин встряхивает волосами, прогоняя смущающие мысли, и только сейчас вспоминает, что рядом носится Хёну, а он так бессовестно думает о его отце. Ветка жасмина зажата в его руке, юноше захотелось отнести её в комнату, будто мало ему аромата, разносящегося по всей округе, но когда видит приближающегося графа Мина, почему-то прячет её за спиной.
— Чимин, наконец-то я застал тебя, — так просто обращается мужчина, что юноша опешил. — Ты бежишь от меня, прячешься, не хочешь видеть меня.
— В-вовсе нет. Моё почтение, граф.
— И тебе, мой прекрасный, — улыбаясь кланяется мужчина, а Чимин задыхается от его наглости.
— Какой я Вам прекрасный?! Я не позволю...
— Мой прекрасный, — с нажимом на первое слово поясняет Юнги, на что Чимин ожидаемо вспыхивает.
— Да как Вы смеете?! Я не Ваш и никогда таковым не буду!
— Ты помнишь это место, Чимин? — слова мужчины сбивают с толку юношу.
— Что?
— Именно здесь я впервые увидел тебя, сердце моё — в этом самом саду, пять лет назад.
Чимин вспыхивает моментально, но теперь не от гнева, а от смущения. Румянец заливает его скулы, а губы подрагивают в судорожном выдохе. Это правда было здесь — в саду Анжу, возле кустов жасмина, накануне дня рождения Бэкхёна, как и сейчас. И то, что мужчина вот так просто называет его ласковыми словами и смотрит нежным взглядом, волнует невероятно.
— Тот день был такой же: то же небо, то же солнце, те же цветы. Но для меня с того дня всё другое — ярче, острее, ароматнее, ибо во всём мире один лишь ты. Твои глаза — моё небо, твоя улыбка — моё солнце, ты весь — мой цветок, нежный и колючий.
— Не говорите так. Мне этого не нужно. — Чимин не смотрит на мужчину, что объясняется ему в любви. Снова страх накатывает на него и сковывает разум, но юноша сопротивляется.
— Позволь мне высказать то, что у меня на сердце. Я не задержу тебя надолго, — юноша молчит, и Юнги воспринимает это за согласие. — Я был сражён в самое сердце, что билось столь сумасшедше впервые в жизни. Да я был женат, и у меня был сын, но никакое благоразумное объяснение, никакие внушения, что это неправильно... нехорошо, не могли остановить моего влечения к тебе, мой прекрасный — я ничего не мог с собой поделать. Я полюбил тебя. Люблю и сейчас, и, боюсь, буду любить вечно, нравится это тебе или нет. Вот почему я просил у тебя прощения за свою любовь — потому что буду любить, даже вопреки тебе самому.
— Граф... Юнги, прошу Вас. Это... невозможно. Я не приму такую любовь. Не нужно более слов...
— Я прошу о шансе, Чимин, — и юноша испуганно вскидывает глаза, сильнее сжимая ветку жасмина за спиной. — Прошу тебя дать мне эти дни и ночи, пока пилигримы не покинут Анжу. Я сумею доказать, что достоин твоей, если не любви, то нежной дружбы. О большем я не попрошу.
— И Вы не будете меня больше целовать? — серьёзно спрашивает юноша, смотря прямо в глаза мужчине.
— Только если ты сам захочешь, мой прекрасный, — пылкий шёпот срывается с губ мужчины, что также смотрит в голубые глаза возлюбленного.
— Хорошо, — легко соглашается граф, кивая головой в знак согласия, и почему-то быстро вкладывает в руку мужчины ветку жасмина, крепко сжимая. — Я согласился только потому, что хочу дать Вам понять — у Вас ничего не получится, ни сейчас, ни через два месяца.
Руки юноши захватывают вместе с веткой в плен длинные пальцы мужчины, и подносят к губам. Юнги глаз не сводит с юноши пока целует ему руки, любуясь дрожащими ресницами и ярким румянцем на скулах.
— Благодарю, любовь моя.
— Можно как-то... без таких слов, пожалуйста.
— Нет, не могу. Они из сердца, противостоять которому у меня больше нет сил.
— Ох, — Чимин лишь вздыхает, а после напрягается, затылком чувствуя пристальный взгляд. — Юнги? Здесь Хёну, — тихо шепчет он мужчине, и оба видят застывшего мальчика, что смотрит на них... слегка непонимающе, но улыбается широко.
— Отец? — Хёну кланяется почтительно, как и слуги позади него, а Чимин понимает, что они до сих пор держатся за руки, поспешно убирая свои.
— Да... Хёну, тебя Хосок... лорд Лаут ждёт. Он отвезёт тебя в лагерь пилигримов.
Счастливый возглас мальчика, буквально прыгающего от радости, оглашает весь сад, а Чимин дуется.
— Ну да, конечно, это ведь не цветочки со мной нюхать, а находиться меж сильных и смелых воинов-рыцарей. Предатель Хёну, оставляешь меня.Ты же обещал, что уедешь вместе со мной в Блуа.
— О, простите меня, прекрасный Чимин. Я приеду, я обязательно приеду... вместе с отцом. Вы же его тоже приглашали, — радостно тараторит мальчик, не замечая, как вновь заливается краской сам юноша.
Чимин действительно вспомнил о своём приглашении только сейчас, и свои слова о дружбе... близкой дружбе. Чёрт! Но взять обратно свои же слова он не может. Так что, видимо, граф Мин будет его гостем... и чувствуется, надолго.
— Я уеду после дня рождения Бэк-и. Вы же можете приехать в любое приятное для Вас время, граф.
Мягкий кивок головы и улыбка уголками губ завораживают юношу, что в который раз задаётся вопросом — почему он так боялся Юнги? Что такого пугающего и отталкивающего он находил в этом мужчине? Но ответ нашёлся сразу — казнь его жены, матери Хёну. Чимину не хватило смелости, а может застенчивость помешала, но юноша не осмелился спросить об этом у самого Юнги, пока они неспешно шли по саду вдоль искусственного пруда, в котором белые и розовые лилии распускались под вечер, а юркие сизые уточки ныряли под воду. Чимин позволил себе расслабиться и просто идти рядом с мужчиной, замечая, что веточка жасмина исчезла за пазухой его жилета.
Юнги рассказывал многое — какие цветы у него на родине цветут в это время, как вековые ели окружают его родной Норфолк, сколько поколений живут в замке Мин, и в каждом слове мужчины была любовь. Чимин ловит себя на мысли, что слушает, затаив дыхание, голос мужчины, и понимает, что готов слушать ещё долго, утопая в бархате и глубине баритона с хриплым рокотом.
Мужчина рассказывает о своём сыне — много, долго, почти безостановочно, и юноша начинает улыбаться, сам дополняя слова Юнги своими наблюдениями за мальчиком — о нём он и сам готов говорить часами. Но вот мужчина осторожно касается той самой темы, о которой так боится спросить сам юноша. Чимин замер, прячет взволнованный взгляд, и слушает, навострив уши.
— Моя покойная жена... не могу сказать, что она была плохой матерью, но она постаралась вложить в Хёну лучшие, по её мнению, качества — честолюбие, твёрдость, властность, то, что непременно должно быть у сильного мужчины, будущего правителя... лорда, — Юнги замолк на несколько долгих секунд, но смотрит на притихшего юношу. — Я знаю, тебе известно про казнь моей супруги, и что этот приказ отдал я, хоть и мог, как лорд Норфолка, помиловать её. — Мужчина снова умолкает, мысли отображаются на его лице, взгляд чёрных глаз выражает некое сомнение, но мгновение спустя то же спокойствие и отрешённость, — но как сын... и брат, я не смог простить, и этот грех будет на мне до конца моих дней — я лишил Хёну матери.
Чимин почему-то вспылил от этих слов:
— Это правда, что Вы сами были при смерти от её действий? — юноша смотрит строго и дышит учащённо, глубоко.
— Да, — Юнги слегка удивлён, — Хёну рассказал? — Чимин лишь кивает головой в ответ. — Меня спас лишь случай, вернее, моя неуклюжесть — я просто обронил кубок, отпив два глотка. Мне потом сообщили, что я лихорадил несколько дней, пока определили противоядие...
— Тогда Вы поступили правильно! — Чимин смотрит прямо и говорит, чуть задыхаясь, — потому что Ваша супруга лишила бы Хёну не только деда и дяди, но и собственного отца. И никто не имеет права Вас за это осуждать, в том числе и я!
Юнги снова смотрит пронзительно, взглядом благодаря за поддержку, что многое для него значит, да и сам юноша испытал некое облегчение. Захотелось просто взять мужчину за руку, и чтоб его руку пожали крепко, но юноша так испугался своего внезапного порыва, что испуганно отступил назад от Юнги.
— Вернёмся в замок? Хёну уже, наверное... ждёт нас, — тихо просит юноша, а у мужчины сердце падает от слова «нас» — впервые они обозначены вместе, как что-то единое... целое, и Юнги это невероятно нравится.
Весь оставшийся день Юнги практически не отходил от юноши, да и Чимин не прятался, находя общество графа совсем ненавязчивым, ибо мужчина больше не говорил о своих чувствах. Он говорил о чём угодно, рассказывал и показывал многое — о своём мече, посвистывая клинком в воздухе; соревновался с ним в стрельбе из лука в том же саду; показывал новые карты мира, привезённые из Китая, и ещё много столь интересного, что Чимин опомниться не успел, как наступил вечер. И когда юноша осознал, что стоит на смотровой площадке западной сторожевой башни, рядом с мужчиной, смотря как садится солнце за горизонт, замер — более романтичного момента ещё поискать. Но удивление застывает в глазах юноши, что слышит от Юнги не слова очередных признаний в любви, а очень интересные и необычные рассказы о солнце и луне, о звёздах на небе, о календарях древних народов.
— Астрологи древнего Вавилона считали цифру шестьдесят священной, и пользовались они шестидесятеричной системой. Именно от них нам достались в наследство шестьдесят минут в одном часе, шестьдесят секунд в одной минуте, триста шестьдесят градусов в окружности, триста шестьдесят пять дней в году.
— Правда? — столь необычные истории о таких, казалось, простых вещах, как календарь, цифры...
— Знаешь откуда сами цифры к нам пришли?
— Нет, — улыбаясь отвечает юноша, чуть смущаясь своего незнания.
— Из Аравии. А сами арабы позаимствовали их из Индии. А буквы, которыми мы пользуемся, знаешь откуда?
— Да, римляне создали латинский алфавит.
— Молодец, Чимини, — мужчина улыбается юноше как ребёнку, которому уроки рассказывает, чуть ли по светловолосой макушке не треплет. — Но латинский алфавит создан на основе древнегреческого, а тот, в свою очередь, позаимствован у финикийцев.
— Греки? Ф-финикийцы? — юноша не скрывает, что впервые слышит о таких странах.
— Древние цивилизации, от которых мало что осталось, но они оставили нам достижения своих культур. Думаю, тебе было бы интересно узнать о них, — всё также мягко улыбается мужчина.
— Наверное, — неуверенно произносит юноша, а в голове только мысли — «А где признания в любви? Сейчас солнце сядет, а он мне про цифры и буквы будет рассказывать? Так он будет меня соблазнять?». Да только юноша от собственных мыслей дёргается и спешит добавить: — может Вы... расскажите мне о них?
Юнги улыбается ещё шире, и в этот момент обхватывает руку любимого:
— Расскажу. Очень многое расскажу, только останься со мной.
— С-сейчас? Ночью? — голос юноши чуть дрожит, но странное волнение проходит по телу от одной только мысли остаться наедине с мужчиной... ночью, а сам Юнги смеётся, притягивая к своей груди юношу.
— Если хочешь, маленький, останься, — а после затихает, всё так же удерживая его в своих объятиях, и Чимин замирает, понимая, что оба смотрят как последние лучи солнца ослепительно сияют у горизонта, превращаясь из золотых в ярко-красные, и всё летнее вечернее небо разукрашивая всполохами. Может больше тогда других слов и не надо?
*
— С днём рождения тебя, мой ангел, — тихим шёпотом доносится до сонного юноши, что ещё не совсем покинул сладкие объятия Морфея, но другие сильные объятия, что ждут его после пробуждения, ещё слаще.
— Сегодня самый счастливый день, — шепчет мужчина, сгребая Бэкхёна в объятия, прижимая его полусонного к своей груди. — Ровно двадцать три года назад на землю спустился маленький ангелочек, что получил красивое имя — Бэкхён, такое же прекрасное, как и он сам. И с тех пор мир не знал более дивного юноши, что только одним своим взглядом чудесных глаз, делал всё вокруг прекраснее.
— Чанёли, что ты с утра меня смущаешь, — потягивается в его руках проснувшийся юноша, на что мужчина лишь смеётся тихо.
— Ты лежишь обнажённым в моих руках, после страстной и сладкой ночи, а смущаешься моих комплиментов?
— Чанёли, ох, прошу тебя... — но мужчина не даёт ему договорить, перекатывая на спину, смотря на любимого — в его чуть бледное, исхудавшее лицо, с растрёпанными волосами, что отливались тёмным мёдом; в сияющие глаза, такого же сладкого цвета; на губы, зацелованные им же, чуть припухшие и искусанные, и всё это — только его!
— Люблю тебя, мой ангел. С днём рождения, Бэки, — и под тихое охание юноши, мужчина надевает на его безымянный пальчик подарок — серебряное кольцо с невероятным зелёным камнем, гладким и матовым.
— Чанёль? Это...
— Это нефрит, — мужчина ложится рядом с юношей, мягко притягивая его к себе. — Его называют камнем судьбы. Я нашёл его в Лондоне, в лавке одного восточного купца. Как только я увидел его... понял, что это кольцо должно быть у тебя на пальчике.
— Оно прекрасно, Чанёли, — шепчет юноша, глаз не сводя с великолепного подарка, камень притягивал взгляд сизо-зелёной глубиной, а серебро чернело ажуром вокруг камня. — Спасибо, любимый.
— Купец сказал, что такой камень нужно дарить тому человек, в ком уверен, как в спутнике жизни, — Чанёль шепчет ещё тише, и сердце от волнения бьётся, когда он сжимает любимого крепче. — Тому, с которым хочешь прожить всю свою жизнь. С тобой, ангел мой.
— О, Чанёли! Ты делаешь мне предложение? — Бэкхён аж вскакивает на постели, разрывая объятия, и смотрит изумлённо. — Хочешь, чтобы я стал... твоим супругом?
— Да. Очень хочу. Бэки, выходи за меня, будь со мной рядом до конца моих дней. Я люблю тебя безмерно.
— Чанёль! — юноша выстанывает имя мужчины, падая ему на грудь, обнимая за шею. — Я согласен, любимый. Я буду с тобой столько, сколько отпущено мне Богом на этой земле.
— Ты делаешь меня слишком счастливым, мой ангел. Таким счастливым, что мне порой страшно. Но я готов идти против всего мира ради тебя.
— Не надо никуда идти, — шепчет сипло юноша, глотая слёзы счастья, прижимаясь к почти что своему мужу, — не пущу... из замка, из этой постели, никуда!
— Куда мне от тебя деться, — снова смеётся мужчина, — не плачь ангел мой. Нет мне жизни без тебя, — и нежными поцелуями покрывает всё лицо юноши, стирая слёзы губами, прижимаясь крепко, а после любит страстно, сходя с ума от красоты юноши, сияющего в утренних лучах солнца.
Оба знали и чувствовали, что это не просто новый день — день рождения молодого герцога, а новое начало, словно с чистого листа... начало новой жизни. И сейчас, выстанывая имя любимого, отдаваясь ему без остатка, цепляясь за него, как за единственное важное, что есть в его жизни, Бэкхён уверен, что этот день первый в череде бесконечных счастливых дней в их жизни, и что всё будет именно так, как он и задумал. Да только юноша позабыл, что богам свойственно шутить над замыслами людей.
*
Прошла ровно неделя со дня рождения Бэкхёна, и шесть дней, как Чимин вернулся в Блуа. И уже в который раз юноша ловит себя на мысли, что граф так и не приехал... и Хёну тоже. Признать себе, что скучает по ним, он не хочет, но скучает. Гребень, подаренный мальчиком, каждое утро в его руках, и мягко проводя им по светлым волосам, Чимин улыбается, вспоминая, как Хёну преподнёс его, как было весело, как они танцевали... Танец. Воспоминания об их с Юнги танце не давали покоя, в каждом звуке лютни юноша улавливал отзвуки той самой мелодии, под которую кружил его мужчина. И как назвать это сумасшествие он не знал.
Одним днём Чимин опомнился от своих мыслей, обнаружив себя в маленькой библиотеке замка, которой он не так уж и часто пользовался. Рассказы мужчины о далёких странах, диковинных вещах, редкие карты — всё это невероятно увлекло юношу, и желание чем-то удивить Юнги в плане своих познаний, тоже не оставляло его.
Юнги. Всё чаще юноша замечает за собой, что произносит в мыслях имя мужчины без какого-либо страха, но с волнением, странно оседающим внизу живота, словно там копошится что-то... или летает. Ох, знать бы что это! Что за волнение, и что за странная тоска. Каких-то полгода назад он его боялся, и ещё месяц назад он вызывал раздражение. А теперь? Какие чувства вызывает Юнги теперь? Страх! Но это теперь другой страх. Сейчас Чимин больше боится себя, нежели мужчину. Боится того, что раскрывается в нём самом, где-то внутри... в сердце, в душе! А мысли о мужчине никак не делают легче.
— Чимин? Зачем тебе эти рукописи и книги? — тонкий мягкий голос сестры отвлекает юношу, и он легко вздрагивает, будто его застали за мыслями вслух.
— Сабин, здравствуй, сестра, проходи.
— О-о, нет, братец, избавь меня от пыли пергамента и шелеста бумаги. И тебе не советую просиживать жизнь в библиотеке.
Сабин пятнадцать. Она столь юна и прекрасна, и жизнь ей кажется чередой праздников и увеселений, коих у неё действительно много — матушка любит вывозить её в свет. Внешностью Сабин схожа в братом, только волосы тёмные. Те же глаза, та же улыбка — несмотря на юный возраст, Сабин считалась первой красавицей графства и уже была помолвлена, хоть видела она своего жениха от силы три раза. Но сей факт не тяготил её, ибо раннее замужество было уделом всех девушек, поэтому она и свыклась, и даже была в некотором нетерпении от предстоящей свадьбы. Вот только её, как и родителей, больше волновала судьба брата, что к своим двадцати годам ни разу не был влюблён, а о помолвке с какой-нибудь прекрасной девушкой и речи не было.
— Чимини? Неужели на столь блестящем турнире не было ни одной прелестницы, что смогла бы пленить твоё сердце? Ты ничего не рассказывал мне с тех пор как вернулся.
— Нечего рассказывать, — юноша сильнее утыкается в раскрытую книгу, пытаясь скрыть смущение. Воспоминания окатили его волной — «Я выбираю господина сердца... Господина моего сердца!» — Чимин даже прокашливается от волнения, но упаси Бог, рассказывать всё это своей юной сестре.
— Ты что-то скрываешь, — пронзительно смотрит Сабин, — может тебя ранили, а ты это утаил от нас?
— «Ранили... в самое сердце. Боже, о чём я думаю!» Нет, со мной всё в порядке, ни царапины. Всё как обычно, Сабин — много рыцарей, полных эгоистичной бравады, много дам, слишком перестаравшихся с украшениями и причёсками, и много зрелищных битв.
— Кто такой Белый рыцарь, о котором сейчас все говорят? Даже наши слуги о нём судачат. Ты видел его на турнире? Он хорош собой? Силён?
Чимин удивлён заинтересованностью сестры, и отрывается, наконец, от якобы чтения:
— Да, видел. Он германец, и пфальцграф короля Монферратии. Барон Тироли, кажется, так его звали, и да — он действительно силён. Ты бы видела их поединок с Юн... с графом Мином. Никогда не видел ничего подобного ни на одном из турниров, где мне пришлось быть.
— О, граф Мин же выиграл турнир?! Расскажи, расскажи, — девочка аж подпрыгивает от нетерпения, — кого граф выбрал дамой своего сердца?
— Никого, — и Чимин вспыхивает неконтролируемо от нахлынувшего жара, и так ему хочется прокричать: «Меня! Он выбрал меня!», но он лишь сильнее опускает голову, стыдясь ещё и того, что откровенно лжёт сестре.
— Как это? Хотя бы из правил вежливости, граф мог выбрать кого-то. Совсем никого? — у девочки в глазах разочарование плещется, а так хотелось услышать романтичную историю о рыцаре и даме его сердца, но слышит лишь бубнёж брата — «Никого».
Чимин конечно знал, что у лжи короткие ноги, но не думал, что настолько, когда поклонившийся слуга сообщил, что под стенами замка трубадуры с цветочными венками для молодого господина. Брат и сестра смотрят друг на друга в крайнем изумлении, но оба спешат на террасу. И действительно, во внутреннем дворе замка стояли телеги, запряжённые великолепными лошадьми, украшенные цветами и лентами, и с десяток жонглёров и ряженых. Музыканты играли задорный мотив на лютнях под ритм бубенцов, а собравшаяся вокруг придворная челядь глазела с улыбками на лице.
Едва Чимин и Сабин ступили на террасу, музыка умолкла, и все актёры поклонились господам.
Я мук таких не ведал страстных:
Мне свет его волос прекрасных,
Что ярче золота блестят, —
Тоска и грусть меня томят.
Дивный высокий голос трубадура разносится по двору, набитому людьми — все собрались послушать музыкантов: от кузнеца до прачки. Сабин рада той красоте, что сейчас разыгрывалась перед ними, и с удивлением смотрит на брата.
— Чимини? Ты же говорил, что ничьё сердце не похищал? Кто эта отчаянная девица, что присылает менестрелей к тебе с признаниями в любви?
Чимин понимает, что открыть правду всё же придётся, ибо трубадуры всё равно озвучат имя храброго рыцаря, от кого эти признания — от графа Норфолка, в этом юноша не сомневался.
— Это не девица.
И все ж моего любимого очи
Прекрасны — лучше в мире нет!
— И кто тогда? — от волнения Сабин не понимает, что спрашивает глупость.
— Ну раз не от дамы, значит от мужчины, — раздражённо выпаливает юноша, смотря на танцоров, порхающих с лентами под мелодичную песню.
Я тоньше черт, свежее кожи
Не видел никогда, мой боже!
Да, я клянусь, — его черты
Таят безмерность красоты!
Изумление в глазах юной девушки плещется через край, и та немного нервно смеётся, когда к ногам её брата ставят огромные корзины фруктов и сладостей, но когда увидела охапки цветов, окончательно расхохоталась. Чимин то бледнел, то краснел, сжимая кулачки, взглядом бегая по головам собравшихся, абсолютно убежденных в том, что трубадуры приехали к их юной госпоже. Внутри у юноши бушевал ураган, пока что непонятной ему самому силы — то ли гневаться на мужчину за такой поступок, то ли радоваться, что он... любим? О, Мин Юнги, чёрт бы его побрал! Придушить бы его! Надо было утопить его в кадке банной комнаты!
— Чимин? В тебя влюблён мужчина?! — Сабин всё так же смеётся, хватая из корзины ароматное, спелое яблоко, тут же вгрызаясь в него зубами. — Святая Дева Мария, мне бы кто так сделал! О, братец, немедленно расскажи мне всё! — и так хрумкает долькой яблока, что Чимин вспыхивает и выхватывает фрукт из рук сестры.
— Это мне вообще-то прислали! — и сам кусает что есть силы, а после чуть ли не давится, осознавая что бесится, как... девица, у которой подарок отобрали.
Сабин хохочет сгибаясь, не стесняясь никого, цепляясь за брата, и Чимин утаскивает её в сумрак залы. И уже здесь, давясь воздухом и собственным смущением, рассказывает сестре всё: о турнире, о намёках от Бэкхёна, о сражении между Чёрным и Белым рыцарем, и в конечном итоге, о выборе «господина» сердца. Чимин боится поднять глаза на сестру, ожидая увидеть изумление, переходящее в презрение, но когда слышит тихий писк и странные похлопывания в ладоши, осмеливается взглянуть на неё. Он видит на её прелестном лице что угодно, но не ужас и страх. У Сабин черти пляшут в глазах, в которых восторг играет фейерверком, маленькие ладони прижаты к губам, чтобы сдерживать радостный возглас, а ножки под столом странно притоптывают.
— Чи-ими-ин! — всё же не выдерживает девочка. — Матерь Господня, почему я этого не видела?! О, мой братец, как это романтично, как это красиво! — восторгу Сабин не было предела.
— Не очень-то, — понуро отвечает юноша, вспоминая весь свой страх и отчаяние того позора, что он пережил.
— Как «не очень-то»?! Да о вас будут слагать легенды! Менестрели будут воспевать сей поступок рыцаря!..
— Избави боже! Я молюсь чтобы об этом как можно быстрее забыли, Сабин! Это было ужасно!
— Нет, нет, нет! Это не может быть ужасно! Рассказывай всё, немедля! — она тормошит брата за плечи, требуя продолжения рассказа, и юноша повествует и об остальном — о бале, об их танце, о трубадурах, что пели в честь него.
О поцелуе он умолчал, щадя нежное девичье сознание, но чувствовал, что Сабин спросит.
— Он целовал тебя? — так тихо заговорщически шепчет она, наклонившись в брату, и по его вспыхнувшим щекам понимает, что не ошиблась. — Целовал, значит.
— Я... был пьян, — сглатывает юноша, чувствуя, как жар лавиной стекает по телу вниз к животу, а Сабин становится какой-то серьёзной, пристально смотря на брата.
— Что ты собираешься делать с графом Мин, братец?
— Я? Я ничего не собираюсь, тем более, что-то делать, тем более, с Юнги. Но он... попросил... шанса, — последние слова Чимин еле произносит совсем тихо, и снова слышит писк со стороны сестры. — Сабин! Не смотри на меня так!
Девочка молчит и улыбается загадочно, но после встаёт, подходя к брату, обнимая его за плечи, и говорит также тихо:
— Ты сам во всём разберешься, Чимин. Если слова твоего друга, или мои слова будут для тебя неугодными, то слушай своё сердце, оно-то точно скажет правду, — девочка гладит его по светлым волосам, но потом говорит как-то серьёзно, словно перед Чимином не пятнадцатилетняя девочка, а взрослый человек, умудрённый опытом жизни. — Только помни, Чимин — он выбрал тебя господином своего сердца, ибо таковым ты и являешься для него. Каждое твоё слово, твоё решение, твой поступок, будет для мужчины роковым, судьбоносным. Не поступай опрометчиво, и не позволяй страху овладеть над любовью. Помни, что его сердце в твоих руках.
Чимин молчит, подставляясь под ласку сестры, волнуясь и трепеща от слов девочки. Он сам понимает, что позволил себе многое, пообещав Юнги попробовать, ибо он понимает — либо утонет в любви мужчины, либо утопит саму любовь.
*
Весь вечер менестрели пели под окнами юноши одну нежную мелодию за другой, и не только о любви — о далёких странствиях, о доблестных рыцарях, покоривших чужие страны и чужие сердца, о прекрасных дамах, ожидающих своих возлюбленных из опасных походов.
Чимин думал о Юнги, и ничего не мог с собой поделать, хоть и пытался отвлечься чем угодно. Всё время взгляд мужчины стоял перед его глазами, голос звучал в голове, а стоило вспомнить каким Юнги был на ристалище, мурашки ползли по телу. Юноша готов был рвать на себе волосы от отчаяния и зуда воспоминаний в его голове, лишь бы больше не думать о Юнги. Да что за чертовщина с ним происходит? Почему? Из-за чего всё так... странно, волнительно, жарко!
— Чёрт бы тебя побрал, Мин Юнги! — кричит в тишину комнаты юноша, жалея, что перед ним нет сейчас самого мужчины, чтобы крикнуть ему в лицо эти слова.
Но тонкий знакомый голос заставляет юношу нахмурить брови, а после и замереть его сердцу, слыша:
— «Сестрица Сабин!»
— «Хёну!»
А у Чимина колени трясутся, когда он слышит шаги за дверью, и уже чувствует, кто там. Но всё же судорожный вздох срывается с губ, когда в сумрак освещённой свечами комнаты, ступает посланный только что к чёрту Мин Юнги, а юноше кажется, что мужчина от самого дьявола! Ибо то, как забилось его сердце при виде мужчины, он, не иначе как происками высшего демона, объяснить не может.
Мужчина склонился перед ним. Видно, что и он волнуется.
— Моё почтение, граф. Добро пожаловать, — Чимин и сам не понимает, как выдавил из себя эти слова, а после готов упасть в обморок, когда слышит:
— Здравствуй, сердце моё...
***
Дамаск. Айюбидский халифат. 1202г.
Поле усеяно телами павших, и юноша стоит один, посреди утихнувшей битвы. Сизый дым потухших костров ползёт по земле рваной змейкой, и окровавленные знамёна воинов развеваются на ветру. Их держат пронзённые копьями мёртвые тела, что пригвождены к земле. Стрелы торчат из груди и спин воинов, разрубленные тела лежат в лужах собственной крови. Земля вокруг насыщена красным цветом, воздух наполнен тошнотворным ароматом крови и смерти, коршуны парят над полем битвы в ожидании кровавого пира — и посреди всего этого страшного месива юноша совсем один.
Он ищет... со слезами на глазах, с немым криком на губах, с болью в израненном сердце ищет. В каждом искажённом смертью лице, в каждом скрюченном болью теле боится увидеть, узнать его. Страшно так, что ни вскрикнуть, ни вздохнуть.
Он видит его знамя, что выше всех развевается на пропахнувшем кровью ветру. Но сердце молит о надежде — возможно, это всего лишь его знаменосец, не он сам. Ноги несутся к нему стремительно, а глаза уже издали понимают — воин мёртв, хоть сердце вопит, что может быть он ранен.
Ещё ближе. Его доспехи. Его меч, воткнутый в землю. Его лицо...
Юноша замер. До него лишь два шага осталось ступить, но как сделать эти два шага, как признать, что он нашёл его... мёртвым.
Лицо, мужественное, красивое — обескровлено. Глаза, чёрные, как драгоценные агаты, сияющие, как звёзды в летнюю ночь, пусты, и смотрят в небо остекленевшим взглядом. В груди стрела, пронзившая самое храброе, самое прекрасное сердце на земле... сердце, что он накануне вручил ему, поклявшись в вечной любви!
Ещё шаг и юноша падает на колени, а слёзы на окровавленную землю. Дрожащая рука тянется к любимому, касается застывшего лица, проводит по мёртвым губам, что больше никогда не произнесут его имени, накрывает глаза, что больше не взглянут на него со страстью и нежностью... никогда.
Но сам он смотрит, кричит, рыдает, вопит его имя, сжимая мёртвое тело, разрывая лёгкие, убивая сердце... своё сердце, ибо оно не будет больше биться без него! Но имя любимого улетает в небо, будто он пытается докричаться, чтобы тот не уходил без него!
— Чонгук!
— Чонгук! — юноша просыпается весь в испарине, хватаясь дрожащими руками за богато расшитое покрывало. Горло сжимает и дерёт от боли, а слёзы начавшиеся ещё в том страшном сне, стекают по бледному, взмокшему лицу.
— Господин! Это всего лишь сон! Это всего лишь дурной сон, мой повелитель!
— Гела, я больше не могу... не могу! Я вижу его смерть почти каждую ночь, и я не знаю как его спасти! Он мёртв!
— Повелитель, видеть во сне кого-то мёртвым к долгой...
— Не рассказывай мне, что Чонгук проживёт долгую и здоровую жизнь, я не поверю, ибо этот сон повторяется который месяц. Если с ним что-то случится... я не переживу — умру вслед за ним.
— Не говорите так, мой повелитель. Вы падишах Дамасского царства, потомок Айюбидов — Ким Тэхён ибн Айюб. Вы не можете умереть из-за кого-то.
— Моё сердце умрёт вместе с ним, Гела. Это не просто сон, это предостережение, знак. А я не могу понять, что мне делать, как спасти!
Тишина повисла в комнате падишаха, лишь прохладный ночной ветер колышет лёгкие ткани балдахина и драпировку террасы. Огонь фонарей мягко освещает богатое убранство комнаты, падая золотым свечением на красивое лицо правителя. Оно всё ещё искажено страхом от пережитого во сне ужаса, но даже так — бледный и встревоженный — Ким Тэхён невероятно красив: каштановые кудри ниже плеч, глаза, сияющие изумрудным светом из-под пушистых ресниц, идеально очерченные чувственные губы, изящный нос, словно выточенный божественным профилем.
Юноша, что сидит рядом с правителем на постели, тоже красив — длинные, прямые чёрные волосы до середины спины, тонкие изящные черты лица, округлый, идеальной формы нос, тонкие губы, высокие скулы и огромные бездонно-синие глаза. Но эта хрупкая красота столь обманчива, ибо Гела не просто личный слуга повелителя, но и его телохранитель, силы и выносливости которому не занимать. Этот тонкий и гибкий юноша не уступит в силе любому рослому и широкоплечему воину. И сейчас, видя пережитый страх на лице своего господина, Гела решается:
— Я знаю одного человека, мой повелитель. Возможно, он сможет растолковать Ваш сон, и рассказать, как спасти Вашего возлюбленного.
— Отведи меня к нему, Гела. Я готов ко всему, лишь бы уберечь Чонгука.
— Тогда нужно приготовиться. Лучше всего сделать это в предрассветный час.
Едва ночное небо забрезжило сумрачным светом, двое людей, закутавшись в тёмную чадру, скрывая лица и тела за бесформенными кафтанами, юркнули в узкую улочку, что вела от дворца падишаха к побережью. Чуть более получаса длился их путь, что в конце концов привёл их к небольшой лачуге, которую Тэхён сразу узнал, хоть и не был здесь никогда.
— Это дом колдуньи! — шипит юноша своему телохранителю. — Ты привёл меня к языческой ведьме!
— Вы сказали, что готовы на всё, мой повелитель, — спокойно ответил синеглазый юноша, а дверь в лачугу сама собой открылась, словно там ждали их уже.
— Аллах покарает нас за это. Колдовство смертельный грех, которому нет прощения Всевышнего. Но если оно спасёт его... я пойду на этот грех, — и юноша решительно шагает в сумрак дома.
Внутри комнаты светло от пламени свечей, и пахнет ароматными травами. Всё чисто и уютно, сказать, что это логово колдуньи язык не поворачивается.
— Проходи, мой повелитель. Я ожидаю тебя с нетерпением уже давно, — мягкий голос молодой женщины доносится откуда-то из глубины дома, но в ту же секунду она сама оказывается рядом.
Красивая, молодая женщина смотрит пристально на Тэхёна несколько долгих секунд, а потом переводит взгляд на Гелу.
— Кто тебе сказал, что я повелитель? Я всего лишь...
— Создатель сказал. Он тебя сюда же и направил.
— Моя вера с именем Всевышнего Аллаха и Пророка его. Не нужны мне твои языческие шаманства. Зря мы пришли. Уходим, — резко разворачивается юноша, но замирает, услышав речь колдуньи.
— Его спасет человек, чьи глаза как замерзшее небо!
Тэхён смотрит испуганно.
— Как?
— Ты видел небо над Эш-Шейхом?{?}[Эш-Шейх — горный массив в горной цепи Антиливан. Наивысшая точка — 2814 м над уровнем моря — является также самой высокой точкой]
— Д-да... видел. Пронзительно голубое с серыми всполохами.
— Ты должен найти этого человека. Он приведёт за собой чёрного волка и рыжую лису. Они спасут твоего воина. Только так.
— Что? К-как... звери могут спасти? Я не понимаю.
— Найди этого человека, — повторяет колдунья. — Ты должен найти его сам. Ищи везде и повсюду, не упусти, ибо он сам не придёт к тебе.
— Хорошо, — сразу соглашается Тэхён, всё ещё не понимая слов женщины. — Но как мне найти его в огромной толпе людей, что каждый день проходят мимо меня.
— Ищи, и найдёшь. Это всё, мой повелитель.
— Хорошо, — снова заторможенно кивает юноша. — Сколько я тебе должен заплатить за колдовство?
И вдруг женщина улыбается так мягко, сверкая чёрными глазами лукаво, разводит руками игриво:
— Разве это колдовство? Я всего лишь рассказала о том, что знаю. Но... можешь подарить мне одно из своих колец, мой повелитель. У тебя их много. Дай то, которое не жалко отдать.
Тэхён стаскивает с пальца первое попавшееся, что оказалось золотым кольцом с жемчугом и изумрудами, и отдаёт его женщине молча. Та принимает щедрый подарок с улыбкой, тут же надевая его на указательный палец, и кланяется легко.
Юноша разворачивается стремительно и уходит — больше ему нечего делать в доме колдуньи, но Гела замешкался, смотря на женщину, а та сразу говорит столь серьёзно:
— Одному человеку пожелали найти любовь на войне. Как ты смотришь на такое благословение?
Гела молчит секунды, почему-то понимая, что от его ответа зависит многое, но всё же говорит:
— Почему бы и нет. Ведь любовь может спасти от смерти, и не только одного человека, а несколько, может даже целый город, народ, всех людей, — и юноша умолкает, смотря на колдунью, будто она сейчас вынесет ему приговор.
Но та лишь улыбается мягко и шепчет:
— Да будет так!