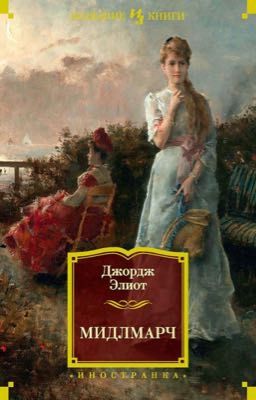«Мидлмарч» Джордж Элиот. Главы 50-59
50
"Лоллард пусть скажет поученье нам".
"Ну нет, ему я поучать не дам.
Клянусь душой отца! Господне слово
И слушать непотребно от такого! -
Промолвил шкипер. - Дайте волю плуту,
Посеет он тотчас раздор и смуту!"
Джеффри Чосер, "Кентерберийские рассказы"
Доротея спокойно прожила во Фрешит-Холле неделю, прежде чем начала
наконец задавать опасные вопросы. Каждое утро они с Селией сидели в
прехорошенькой верхней гостиной, соединенной с маленькой оранжереей;
Селия, вся в белом и бледно-лиловом, словно букетик разноцветных фиалок,
следила за достопримечательными действиями малютки, которые представлялись
столь загадочными ее неискушенному уму, что она то и дело прерывала
беседу, взывая к нянюшке с просьбой истолковать их. Доротея в трауре
сидела рядом и сердила Селию чрезмерно грустным выражением лица; в самом
деле: ведь дитя совершенно здорово, и, право же, если еще при жизни муж
был таким докучливым и нудным, и потом... да, разумеется, сэр Джеймс все
рассказал жене, весьма решительно ее предупредив, что об этом ни в коем
случае не следует говорить Доротее, до тех пор пока скрывать уже будет
нельзя.
Но мистер Брук не ошибся, предсказывая, что Доротея не сможет долго
бездействовать, когда ее ждут дела; она знала, в чем состоит суть
завещания, написанного мужем уже после женитьбы, и, едва освоившись со
своим положением, принялась обдумывать, что надлежит сделать ей, новой
владелице Лоуик-Мэнора и попечительнице прихода.
Однажды утром, когда дядюшка, нанеся свой обычный визит, проявил
необычную оживленность, вызванную, как он объяснил, тем обстоятельством,
что уж теперь-то парламент наверняка будет вот-вот распущен, Доротея
сказала:
- Дядя, мне, кажется, пора заняться приходскими делами. После того как
Такер получил приход, муж ни разу не назвал при мне ни одного священника в
качестве своего предполагаемого преемника. Пожалуй, я возьму поскорее
ключи, поеду в Лоуик и разберу бумаги мужа. Может быть, среди них найдется
что-нибудь проливающее свет на его желания.
- Не стоит спешить, моя милая, - негромко сказал мистер Брук. - Если
тебе так уж хочется, поедешь попозже. Я ознакомился у вас в Лоуике с
содержанием всяких ящиков и конторок, там нет ничего, кроме, знаешь ли,
высоких материй и... завещания. Все это может подождать. Что до Лоуикского
прихода, у меня есть идея... я сказал бы, недурная Мне очень горячо
рекомендовали Тайка... однажды мне уже пришлось способствовать его
назначению на должность. Благочестивый человек, на мой взгляд... именно
то, что тебе требуется, дорогая.
- Я предпочла бы познакомиться с ним поближе и составить собственное
мнение, если только мистер Кейсобон не выразил на его счет каких-либо
пожеланий. Может быть, к завещанию есть приписка, какие-нибудь указания
для меня, - сказала Доротея, которую не покидала мысль, что указания эти
должны быть связаны с работой ее мужа.
- Ничего относящегося к приходу, дорогая моя, ничего, - сказал мистер
Брук, вставая и протягивая племяннице руку, - и относящегося к его
изысканиям, знаешь ли, тоже. В завещании об этом ничего не говорится.
У Доротеи задрожали губы.
- Ну, ну, милая, тебе еще рано думать обо всех этих вещах. Попозже,
знаешь ли.
- Я совершенно здорова, дядя. Мне хочется уйти в работу с головой.
- Ну, ну, там видно будет. Мне пора бежать... уйма дел накопилась...
кризис... политический, знаешь ли, кризис. Да, и кроме того, Селия и
малыш, ты теперь тетка, знаешь ли, а я нечто вроде деда, - беспечно
выпалил на прощанье мистер Брук, стремясь поскорее убраться и сказать
Четтему, что не его (мистера Брука) вина, если Доротея пожелает
ознакомиться с бумагами, оставленными мужем.
Когда дядюшка вышел из комнаты, Доротея откинулась в кресле и в
задумчивости опустила взгляд на скрещенные руки.
- Додо, гляди! Посмотри на него! Видела ты что-либо подобное? -
звонким, ликующим голосом обратилась к ней Селия.
- Что там такое, Киска? - спросила Доротея, рассеянно подняв глаза.
- Как что? Его нижняя губка. Смотри, как он ее вытянул, словно рожицу
хочет состроить. Ну не чудо ли! Какие-то у него свои мыслишки. Жаль, няня
вышла. Да посмотри же на него.
Крупная слеза покатилась, наконец, по щеке Доротеи, когда она взглянула
на ребенка и постаралась улыбнуться.
- Не надо убиваться, Додо, поцелуй малыша. Ну, из-за чего ты так
горюешь? Ты сделала все, что в твоих силах, и гораздо больше. Теперь ты
можешь совершенно успокоиться.
- Пусть сэр Джеймс отвезет меня в Лоуик. Мне нужно поскорее просмотреть
там все бумаги... может быть, для меня оставлено письмо.
- Никуда ты не поедешь, пока не позволит мистер Лидгейт. А он тебе пока
еще этого не разрешил (ну, вот и няня; возьмите малыша и погуляйте с ним
по галерее). Кроме того, Додо, ты, как всегда, выдумываешь чепуху... я
ведь вижу, и меня зло разбирает.
- Какую чепуху я выдумала, Киска? - кротко спросила Доротея.
Сейчас она почти готова была признать умственное превосходство Селии и
с тревогой ждала ответа: какую же это она выдумала чепуху? Селия
почувствовала свое преимущество и решила им воспользоваться. Ведь никто не
знает Додо так хорошо, как она, никто не знает, как с ней надо обходиться.
После рождения ребенка Селия ощутила, что преисполнена здравого смысла и
благоразумия. Кто станет спорить, что там, где есть ребенок, все идет как
положено, а заблуждения, как правило, возникают из-за отсутствия этого
основного регулятора.
- Я ясно вижу, что ты думаешь, Додо, - сказала Селия. - Тебе не
терпится узнать, не пора ли взяться за какую-нибудь неприятную работу,
только потому, что так было угодно твоему покойному супругу. Словно мало
неприятного у тебя было прежде. А он этого и не заслуживает, ты скоро сама
узнаешь. Он очень скверно поступил с тобой. Джеймс ужасно на него
рассердился. Я, пожалуй, расскажу тебе в чем дело, подготовлю тебя.
- Селия, - умоляюще произнесла Доротея, - не мучь меня. Расскажи мне
все немедля.
У нее мелькнула мысль, что мистер Кейсобон лишил ее наследства - такую
новость она вполне могла перенести.
- Твой муж сделал приписку к завещанию, и там говорится, что поместье
не достанется тебе, если ты выйдешь замуж... то есть...
- Это совсем не важно, - ничуть не взволновавшись, перебила Доротея.
- Если ты выйдешь замуж за мистера Ладислава, а не за кого-то еще, -
словно не слыша ее, продолжила Селия. - Разумеется, с одной стороны, это и
впрямь не важно - ведь тебе даже в голову не придет выходить замуж за
мистера Ладислава; тем более скверно поступил мистер Кейсобон.
У Доротеи мучительно покраснели лицо и шея. Но Селия считала, что
сестру необходимо отрезвить дозой горькой истины. Додо пора уж исцелиться
от всех этих причуд, из-за которых она портит себе здоровье. И она
продолжала спокойным, ровным тоном, словно речь шла о распашонках малютки:
- Так сказал Джеймс. Он говорит, что это отвратительно и недостойно
джентльмена. А Джеймс в таких делах лучший судья. Мистер Кейсобон как бы
старался создать впечатление, что ты можешь когда-нибудь захотеть выйти
замуж за мистера Ладислава... это просто смешно. Джеймс, правда, говорит,
что это сделано, чтобы у мистера Ладислава не возникла мысль жениться на
тебе ради твоих денег, как будто он посмел бы сделать тебе предложение!
Миссис Кэдуолледер говорит, что с таким же успехом ты могла бы выйти замуж
за итальянца, который ходит с белыми мышами! Но мне пора взглянуть на
малыша, - добавила Селия точно тем же тоном, набросила легкую шаль и
выскользнула из комнаты.
К тому времени Доротею снова бросило из жара в холод, и, обессиленная,
она откинулась в кресле. С ней творилось нечто странное - словно в смутной
тревоге она внезапно осознала, что ее жизнь принимает некую новую форму, а
сама она подвергается метаморфозе, в результате которой память не может
приспособиться к деятельности ее нового организма. Устойчивые прежде
представления сместились - поведение ее мужа, ее почтительная преданность
ему, случавшиеся между ними разногласия... и самое главное, ее отношение к
Уиллу Ладиславу. Мир, в котором она существовала, мучительно преображался;
и лишь одно она понимала отчетливо: ей нужно подождать и все обдумать
заново. Одна из происшедших с ней перемен казалась страшной, как грех:
внезапное отвращение к покойному мужу, который скрывал от нее свои мысли
и, как видно, извращенно истолковывал все ее поступки и слова. Потом она с
трепетом ощутила в себе еще одну перемену, неизъяснимую тоску по Уиллу
Ладиславу. Никогда прежде не возникала у нее мысль, что при каких-нибудь
обстоятельствах он может стать ее возлюбленным; вообразите себе, как
восприняла она сообщение, что кто-то видел его в этом свете, что, может
быть, он сам не исключал такой возможности... а тем временем перед ней
мелькали картины, о которых ей не следовало думать, возникали вопросы, на
которые не скоро найдется ответ.
Прошло, казалось, много времени - сколько именно, Доротея не знала, -
затем она услышала, как Селия говорит:
- Ну, довольно, нянюшка; он теперь успокоился и посидит у меня на
руках. Сходите поешьте, а пока Гарриет пусть побудет в соседней комнате.
- Мне кажется, До до, - продолжала Селия, которая заметила лишь, что
Доротея сидит, откинувшись на спинку кресла, и слушает с покорным видом, -
мистер Кейсобон был очень злой человек. Мне он никогда не нравился и
Джеймсу тоже. У него, по-моему, в губах было что-то злое. И, по-моему,
даже твой христианский долг вовсе не обязывает тебя мучиться ради мужа,
который так с тобой поступил. Надо благодарить провидение, что ты от него
избавлена. Уж мы-то не стали бы его оплакивать, верно, малыш? -
доверительно обратилась Селия к бессознательному регулятору и центру
вселенной, обладателю удивительнейших ручонок, на которых даже росли
ноготки, а на головке, если снимешь чепчик, столько волос, что просто...
ну, просто, неизвестно что... одним словом, Будда на западный образец.
В этот критический момент доложили о приходе Лидгейта, который,
обменявшись несколькими словами с дамами, сказал:
- Боюсь, вы сегодня хуже себя чувствуете, миссис Кейсобон. Вас
что-нибудь встревожило? Дайте пощупать ваш пульс.
Рука Доротеи была холодна, как мрамор.
- Сестра хочет ехать в Лоуик, просматривать бумаги, - сказала Селия. -
Ей не нужно этого делать, ведь верно?
Лидгейт помолчал. Потом ответил, глядя на Доротею:
- Трудно сказать. По-моему, миссис Кейсобон следует делать то, что
будет более всего способствовать ее душевному покою. А покой этот не
всегда достигается запрещением действовать.
- Благодарю вас, - с усилием проговорила Доротея. - Не сомневаюсь, что
вы дали правильный совет. Меня ожидает множество дел. Зачем же мне сидеть
здесь сложа руки? - Потом, заставив себя вспомнить о вещах, не связанных с
предметом, вызвавшим ее волнение, вдруг добавила: - Мне кажется, вы знаете
всех жителей Мидлмарча, мистер Лидгейт. Вам придется ответить мне на
множество вопросов. У меня серьезная забота. Я должна кому-то поручить наш
приход. Знаете вы мистера Тайка и все... - Но тут силы ее иссякли. Доротея
внезапно умолкла и залилась слезами.
Лидгейт дал ей выпить успокоительные капли.
- Пусть миссис Кейсобон делает то, что хочет, - сказал он сэру Джеймсу,
к которому зашел перед уходом. - Я считаю, что полная свобода действий для
нее полезней всех лекарств.
Наблюдая Доротею во время кризиса, наступившего после смерти мужа,
Лидгейт увидел, что жизнь ее нелегка, и понял - почему. В мучительной
борьбе с собой ей приходилось подавлять свои чувства, а не успела она
выйти на волю, как ее ожидала новая темница.
Сэру Джеймсу ничего не оставалось, как последовать совету Лидгейта,
когда он выяснил, что Селия уже рассказала Доротее о неприятной для нее
приписке к завещанию. Теперь ему нечем было отговариваться, у него не было
причин оттягивать исполнение нужного дела. И когда на следующий день
Доротея попросила сэра Джеймса отвезти ее в Лоуик, он тотчас согласился.
- Мне совершенно не хочется сейчас жить в Лоуике, - сказала Доротея. -
Я бы там просто не выдержала. У вас с Селией мне гораздо приятней. Издали
даже удобнее обдумать, что нужно сделать в поместье. А потом мне бы
хотелось пожить немного у дяди в Типтон-Грейндже, вновь походить по тем
местам, где я гуляла прежде, наведаться в деревню к крестьянам.
- По-моему, сейчас для этого не время. Ваш дядя занят политической
кампанией, а вам лучше держаться подальше от подобных, дел, - сказал сэр
Джеймс, для которого Типтон-Грейндж сейчас был прежде всего местом
обитания Ладислава. Но ни сэр Джеймс, ни Доротея не сказали друг другу ни
слова о приписке к завещанию, они оба чувствовали, что упомянуть об этом
невозможно. Сэр Джеймс даже в разговорах с мужчинами предпочитал не
затрагивать щекотливых вопросов, для Доротеи же эта тема была запретной,
ибо выставляла напоказ несправедливость мистера Кейсобона. В то же время
ей хотелось, чтобы сэр Джеймс узнал о ее споре с мужем по поводу моральных
прав Уилла Ладислава на наследство, - ей казалось, сэр Джеймс поймет тогда
так же ясно, как она, что странное и оскорбительное для нее условие,
оговоренное в завещании мужем, вызвано главным образом его решительным
несогласием признать права Уилла, а не просто личными чувствами, говорить
о которых ей было бы еще труднее. Признаем также: ей хотелось объяснить
все это и ради самого Уилла, поскольку ее родственники, кажется, видели в
нем лишь объект благотворительности мистера Кейсобона. Как можно его
сравнивать с итальянцем, ходящим с белыми мышами? Эта фраза миссис
Кэдуолледер издевательски сверкала перед ней, словно выведенная во тьме
бесовским пальцем.
В Лоуике Доротея перерыла все бюро и ящики, осмотрела все места, где
муж хранил бумаги, но не нашла ничего, адресованного ей лично, за
исключением "Сводного обозрения", - по-видимому, первого из поручений,
которые он для нее готовил. Вверяя свои труды Доротее, мистер Кейсобон
был, как всегда, медлителен и полон сомнений; передавая свою работу, он
точно так же, как выполняя ее, чувствовал себя скованным, словно
передвигался в полутемной вязкой среде; его недоверие к способности
Доротеи распорядиться заготовленным им материалом умерялось только еще
большим недоверием к иным редакторам. Но достаточно узнав характер
Доротеи, он наконец преодолел свою недоверчивость: если Доротея что-нибудь
решила сделать, она это сделает, и мистер Кейсобон с удовольствием
представлял себе, как, понуждаемая данным ему словом, она трудится не
покладая рук над возведением гробницы, на которой начертано его имя.
(Мистер Кейсобон, разумеется, не называл гробницей будущие тома своих
сочинений, он называл их "Ключом ко всем мифологиям".) Однако время
двигалось быстрее - он опоздал и успел лишь попросить у жены обещания,
опасаясь, как бы она не выскользнула из его холодеющих рук.
Но она выскользнула. Связанная данным из жалости обязательством, она
могла бы взвалить на себя труд, который, как подсказывал ей разум, не имел
ни малейшей цели, кроме соблюдения верности, - а это наивысшая цель.
Однако сейчас разум ее не обуздывала почтительная покорность, ее разум был
распален оскорбительным открытием, что покойный муж опорочил их союз
скрытностью и недоверием. Сейчас его уже не было с ней, живого,
страдающего человека, который возбуждал ее жалость, осталась только память
о тягостном подчинении мужу, чьи мысли оказались такими низменными и чье
непомерное себялюбие заставило его пренебречь заботой о сохранении доброго
имени, так что, позабыв о гордости, он уронил себя в глазах простых
смертных. От поместья - этого символа оборвавшихся брачных уз - она с
радостью бы отказалась, удовольствовавшись собственным состоянием, если бы
не связанные с этим наследством обязанности, пренебречь которыми она не
могла. Ее тревожило множество вопросов, относящихся к поместью: права ли
она, считая, что половина его должна отойти Уиллу Ладиславу; впрочем, это
сейчас невозможно, мистер Кейсобон решительно и жестко пресек ее попытки
восстановить справедливость; Доротея негодовала, но не сделала бы и шага,
чтобы уклониться от исполнения его воли.
Отобрав деловые бумаги, которые она хотела изучить, она вновь заперла
бюро и ящики, так и не найдя в них ни единого обращенного к ней слова, ни
единого свидетельства, что угнетенный тоской одиночества муж испытывал
желание повиниться или оправдаться перед нею; и она уехала во Фрешит,
убедившись, что он в глубоком и незыблемом молчании выразил в последний
раз свою суровую волю и проявил свою неправедную власть.
Сейчас она решила обратиться к своим непосредственным обязанностям, и
об одной из них ей тут же принялись напоминать окружающие. Лидгейт не
оставил без внимания ее слова о назначении приходского священника и при
первой же возможностей вернулся к этой теме, в надежде исправить зло,
допущенное им в тот раз, когда он подал решающий голос за недостойного
кандидата.
- Вместо того чтобы говорить о мистере Тайке, - сказал он, - я расскажу
вам о другом человеке - о мистере Фербратере, священнике церкви святого
Ботольфа. Приход у него очень бедный и почти не может обеспечить
священника и его семью. На попечении мистера Фербратера находятся мать,
тетка и сестра. Я думаю, из-за них он и не женился. Мне не приходилось
слышать лучших проповедников - его красноречие отличают простота и
непринужденность. Он мог бы проповедовать после Латимера (*142) в соборе
святого Павла. Он на любую тему говорит прекрасно: оригинально, ясно,
просто. Я считаю его незаурядным человеком, он способен на гораздо
большее, чем то, что сделал.
- Почему же он не сделал то, что мог бы? - спросила Доротея, которую
теперь интересовали все не осуществившие своих замыслов люди.
- Трудно сказать, - ответил Лидгейт. - Я на собственном опыте убедился,
как сложно следовать своему призванию, когда на каждом шагу встречаешь
столько препятствий. Фербратер часто намекал, что занялся не своим делом.
Должность священника небольшого прихода слишком незначительна для такой
личности, как он, и, полагаю, не представляется ему интересной. Он увлечен
естественной историей и всевозможными научными вопросами, и ему нелегко
совместить эти склонности с саном священника. Лишних денег у него нет -
едва хватает на самое необходимое, поэтому он пристрастился к картам, а в
Мидлмарче не найти дома, где не играли бы в вист. Мистер Фербратер играет
ради денег и выигрывает немало. Из-за этого, конечно, ему приходится
водить компанию с людьми, стоящими ниже его, и не всегда удается ревностно
выполнять свои обязанности, но это мелочи, а если говорить о главном, я
считаю его одним из самых безупречных людей, каких встречал. В нем нет ни
двоедушия, ни злобы - черт характера, часто присущих людям, сохраняющим
внешнюю благопристойность.
- Хотелось бы мне знать, испытывает ли он укоры совести из-за своего
пристрастия? - сказала Доротея. - Есть ли у него желание избавиться от
него?
- Не сомневаюсь, что он охотно от него избавился бы, если бы не
нуждался в деньгах: он с удовольствием бы занялся более серьезными вещами.
- Дядя говорит, что мистера Тайка называют святым человеком, -
задумчиво проговорила Доротея, которой, с одной стороны, хотелось вернуть
времена древнехристианского рвения, а с другой - избавить мистера
Фербратера от необходимости прибегать к сомнительным источникам дохода.
- Не стану уверять вас, что Фербратер святой человек, - сказал Лидгейт.
- Он, собственно, и не метит в святые. Он всего лишь священник,
заботящийся о том, чтобы жизнь его прихожан стала лучше. Говоря по правде,
я считаю, что под святостью в наши дни подразумевают нетерпимость ко
всему, в чем священник не играет главной роли. Нечто в этом роде я
заметил, наблюдая мистера Тайка в больнице: его гневные наставления прежде
всего направлены на то, чтобы никто не смел забывать о мистере Тайке. И
потом, вообразите - святой в Лоуике! Он, подобно святому Франциску, должен
считать, что надобно проповедовать птицам.
- Вы правы, - сказала Доротея. - Трудно представить себе, какие выводы
извлекают наши фермеры и работники из благочестивых поучений. Я пролистала
собрание проповедей мистера Тайка, в Лоуике такие проповеди не нужны - я
имею в виду его рассуждения о напускном благочестии и апокалиптических
пророчествах. Я часто думаю о том, как различны пути, которыми идут
проповедники христианства, и считаю самым верным тот, что распространяет
это благо как можно шире, - то есть деятельность, заключающую в себе
больше добра и привлекающую больше последователей. Право же, лучше слишком
многое прощать, чем порицать слишком многое. Но мне хотелось бы увидеть
мистера Фербратера и послушать его проповеди.
- Непременно послушайте, - сказал Лидгейт. - Уверен, что они произведут
на вас впечатление. Его многие любят, но у него есть и враги: всегда
найдутся люди, которые не могут простить одаренному человеку, что он не
таков, как они. А то, что он приохотился добывать деньги игрой, и правда
бросает тень на его репутацию. Вы, разумеется, редко видитесь с жителями
Мидлмарча, а вот мистер Ладислав, секретарь вашего дядюшки, большой
приятель всего семейства Фербратеров и с удовольствием пропоет хвалу этому
пастырю. Одна из старушек - тетушка Фербратера, мисс Ноубл, - поразительно
трогательное создание, воплощение самозабвенной доброты, и мистер
Ладислав, как галантный кавалер, иногда ее сопровождает. Я их как-то
встретил в переулке, вы представляете себе Ладислава: некий Дафнис (*143)
в жилете и фраке ведет под руку миниатюрную старую деву... эта пара словно
вдруг явилась из какой-то романтической комедии. Но самую лучшую
рекомендацию Фербратеру вы получите, увидев и услышав его.
К счастью для Доротеи, этот разговор происходил в ее гостиной без
посторонних свидетелей, и она спокойно выслушала все сказанное о
Ладиславе, упомянутом доктором по простоте душевной. Как всегда
равнодушный к сплетням, Лидгейт совершенно позабыл предположение
Розамонды, что Уилл, как видно, без ума от миссис Кейсобон. В эту минуту
он старался лишь расхвалить семью Фербратеров и, стремясь предварить
обвинения недоброжелателей, умышленно подчеркнул самое скверное, что могло
быть сказано о священнике. После смерти мистера Кейсобона доктор почти не
видел Ладислава, и никто не предупредил его, что при миссис Кейсобон не
следует упоминать о доверенном секретаре мистера Брука. Когда Доротея
осталась одна, ей все время представлялся Ладислав - такой, каким его
увидел доктор в переулке, и это ей мешало сосредоточиться на делах
Лоуикского прихода. Что думает о ней Уилл Ладислав? Узнает ли он о том
обстоятельстве, при одной мысли о котором у нее горят щеки, как никогда в
жизни не горели? Что он подумает, узнав о нем? Но главное, она так ясно
себе представляла, как он улыбается, склонившись к миниатюрной старой
деве. Итальянец с белыми мышами! Наоборот, человек, способный понять
чувства каждого и разделить бремя чужих мыслей, а не навязывать с железным
упорством свои.
51
Воплощена и в Партиях Природа.
Здесь правит логика такого рода:
Один - во Многих, Многие в Одном.
Есть части - вместе целым их зовем.
В Природе род из видов состоит,
Но высшим может быть и низший вид.
Внутри же вид и сам подразделен.
Так "за" - не "против", так и Вы - не Он.
И тем не менее Вы схожи с Ним,
Как тройка с тройкой, как один с одним.
Слухи о завещании мистера Кейсобона еще не дошли до Ладислава: вокруг
роспуска парламента и предстоящих выборов поднялся такой же шум и гам,
какой разводили в старину на ярмарках бродячие актеры, норовя переманить к
себе побольше зрителей, и почти полностью заглушил пересуды о частных
делах. Не за горами были знаменитые "сухие выборы", на которых
предполагалось в обратной пропорции оценить глубины общественного сознания
уровнем спроса на спиртное. Уилл Ладислав находился в гуще событий, и,
хотя его не оставляла мысль об изменившемся положении Доротеи, он ни с кем
не собирался обсуждать этот предмет, и когда Лидгейт попробовал рассказать
ему о новостях в Лоуикском приходе, довольно раздраженно ответил:
- Какое мне до всего этого дело? Я не вижусь с миссис Кейсобон и едва
ли увижусь, поскольку она живет теперь во Фрешите, где я никогда не бываю.
Фрешит - логово тори, и я со своей газетой там не более желанный гость,
чем браконьер с ружьем.
Уилл стал еще обидчивее после того, как заметил, что мистер Брук,
прежде чуть ли не насильно старавшийся затащить его в Типтон-Грейндж,
теперь, казалось, норовил устроиться так, чтобы Уилл бывал там как можно
реже. Этим хитроумным маневром мистер Брук откликнулся на упреки сэра
Джеймса Четтема, и чувствительный к малейшим новшествам такого рода Уилл
тут же сделал вывод, что его не допускают в Типтон из-за Доротеи. Стало
быть, ее родные относятся к нему с недоверием? Их опасения совершенно
напрасны; они глубоко ошибаются, если вообразили его себе в роли нищего
проходимца, пытающегося завоевать расположение богатой вдовы.
До сих пор Уилл не очень ясно себе представлял, какая пропасть отделяет
его от Доротеи, - он понял это в полной мере, лишь подойдя к ее краю и
увидев Доротею на той стороне. Задетый за живое, он уже подумывал, не
уехать ли ему из здешних мест: ведь любая его попытка сблизиться с
Доротеей непременно будет истолкована нелестным для него образом, и,
возможно, даже сама Доротея, если ее близкие станут чернить его, отнесется
к нему с подозрением.
"Мы разделены навеки, - решил Уилл. - С тем же успехом я мог остаться в
Риме: она не была бы дальше от меня". Но нередко то, что мы принимаем за
безысходность, - на деле оказывается жаждой надежды. У Ладислава тут же
выискалось множество причин не уезжать - его гражданская совесть не могла
ему позволить уехать в столь критическую минуту, покинув в беде мистера
Брука, которого надлежало "натаскать" перед выборами, не говоря уж о том,
что Ладиславу предстояло вести прямым и косвенным путем агитацию
избирателей. Он отнюдь не собирался выходить из игры в ее разгаре, когда
исход борьбы мог решить каждый кандидат, даже столь легкомысленный и
легковесный, каким бывает только настоящий джентльмен. Как следует
вышколить мистера Брука и внушить ему, что его обязанность состоит в том,
чтобы проголосовать за билль о реформе, а не в том, чтобы доказать свою
независимость и право когда угодно удалиться от дел, было нелегкой
задачей. Предсказание мистера Фербратера насчет "запасного" четвертого
кандидата еще не сбылось, поскольку ни "Общество по выдвижению кандидатов
в парламент", ни какая-либо другая коалиция, стремящаяся обеспечить партии
реформистов большинство, не считала нужным вмешиваться, пока у реформистов
в качестве второго кандидата числился мистер Брук, готовый лично взять на
себя траты, необходимые для его избрания. Так что борьба пока шла лишь
между бывшим депутатом тори, Пинкертоном, нынешним депутатом вигов
Бэгстером, прошедшим в парламент на последних выборах, и будущим
независимым депутатом Бруком, согласившимся связать себя только на сей
раз. Мистер Хоули и его партия не пожалеют сил, чтобы добиться избрания
Пинкертона, и мистер Брук мог рассчитывать на успех, либо если все, кто
может голосовать и за него и за Бэгстера, отдадут голоса только ему, либо
если все сторонники тори переметнутся к реформистам. Последнее,
разумеется, было предпочтительнее.
Идея переманить противников в свой лагерь представлялась мистеру Бруку
необычайно заманчивой, а его уверенность, что на людей с неопределенными
взглядами лучше всего действуют неопределенные обещания, и его склонность
то и дело менять свои взгляды на диаметрально противоположные доставляли
Уиллу Ладиславу немало хлопот.
- В таких делах нужна тактичность, - говорил мистер Брук. - Людям
следует идти навстречу, проявлять терпимость, говорить что-нибудь вроде:
"да, конечно, в этом что-то есть" и тому подобное. Я согласен с вами - наш
случай особый - народ выразил свою волю... политические союзы... и так
далее... но, право же, мы порой слишком все обостряем, Ладислав. К
примеру, наниматели, платящие по десять фунтов (*144), - почему именно по
десять? Где-то надо провести черту - согласен, но почему на десяти? Это
вовсе не такой простой вопрос, как кажется.
- Ну конечно, - нетерпеливо ответил Уилл. - Однако если вы будете
добиваться последовательной реформы, жители Мидлмарча сочтут вас
бунтовщиком и едва ли за вас проголосуют. Если же вам угодно балансировать
между вигами и тори, сейчас для этого не время.
В конце каждого спора мистер Брук соглашался с Ладиславом, который ему
представлялся подобием Берка с закваской Шелли, но спустя некоторое время
избранный им путь снова казался ему самым многообещающим и мудрым. Он был
в отличном настроении, и его не останавливала даже угроза крупных
расходов; его умение властвовать умами было испытано пока лишь на
собрании, где ему пришлось быть председателем и объявлять ораторов; а
также в беседе с местным избирателем, в результате которой мистер Брук
уверился, что он прирожденный тактик и, к сожалению, слишком поздно нашел
свое призвание. Он, правда, не чувствовал себя столь победительно после
диалога с мистером Момси, главным представителем сословия лавочников,
величайшей общественной силы Мидлмарча, и, разумеется, одним из самых
ненадежных избирателей в городе, желающим снабжать чаем и сахаром в равной
степени как сторонников, так и противников реформы, пребывая с теми и с
другими в состоянии бескорыстной дружбы, и, подобно избирателям минувших
веков, ощущающим, что обязанность выдвигать депутатов - тяжкое бремя, ибо
даже если ты и можешь до определенной поры обнадеживать все партии, то
рано или поздно возникает прискорбная необходимость огорчить кого-нибудь
из своих постоянных клиентов. Мистер Момси привык получать большие заказы
от мистера Брука из Типтона, однако и среди сторонников Пинкертона было
немало таких, чье мнение представлялось ему особенно веским при
воспоминании о количестве отвешиваемых им колониальных товаров. Мистер
Момси, рассудив, что мистер Брук, будучи "не особо мозговитым", не станет
гневаться на бакалейщика, который под давлением обстоятельств отдаст голос
за его противника, разоткровенничался с этим джентльменом, сидя в
примыкающей к лавке гостиной.
- Касательно этой реформы, сэр, взгляните на нее в семейном свете, -
говорил он, приветливо улыбаясь и позвякивая мелочью в кармане. -
Поддержит она миссис Момси и поможет ей вырастить шестерых ребятишек,
когда меня не станет? Я вас спрашиваю для проформы, я-то знаю, каков
ответ. Отлично, сэр. Так вот скажите, что я должен делать как муж и как
отец, когда ко мне приходят господа и говорят: "Поступайте как вам
вздумается, Момси, но ежели вы подадите голос против нас, я стану покупать
колониальные товары в другой лавке: мне нравится думать, когда я сыплю
сахар в грог, что я оказываю пользу родине, поддерживая торговцев честного
направления". Эти самые слова мне были сказаны, сэр, в том самом кресле, в
котором вы сейчас сидите. Разумеется, не ваша милость говорила мне такое,
мистер Брук.
- Ну конечно, ну конечно! Что за мелочность! Пока мой дворецкий не
пожалуется на качество ваших товаров, мистер Момси, - успокоительно
произнес мистер Брук, - пока он мне не скажет, что вы прислали скверный
сахар, пряности... что-нибудь в этом роде, я не отдам ему распоряжения
делать заказы в другой лавке.
- Ваш покорный слуга, сэр, и премного вам обязан, - сказал мистер
Момси, чувствуя, что политические горизонты несколько прояснились. -
Приятно отдать голос за джентльмена, рассуждающего так благородно.
- Что ж, знаете ли, мистер Момси, вы не раскаетесь, если примкнете к
нашей партии. Мало-помалу реформа коснется всех... от нее никому не
уйти... она, знаете ли, вроде азбуки... если не начать с нее, то не будет
и всего остального. Я ничуть не возражаю против того, что вы смотрите на
дело в семейном свете, но возьмем общественное благо. Все мы, знаете ли,
одна семья, все связаны между собой. Вот, скажем, выборы: а вдруг они
принесут пользу жителям Капштадта? Ведь никто не знает, какое действие
могут произвести выборы, - заключил мистер Брук, чувствуя, что несколько
зарапортовался, и тем не менее от души наслаждаясь. Однако мистер Момси
возразил ему весьма решительно:
- Прошу прощения, сэр, но этого я не могу себе позволить. Когда я отдаю
свой голос, я должен знать, что делаю, должен знать, какое действие,
простите великодушно, это произведет на мою кассу и счетную книгу. О ценах
что говорить, их никогда не угадаешь. Покупаешь скоропортящийся товар по
существующей цене, а цена вдруг падает... я в таких случаях не
допытываюсь, отчего да почему, принимаю как должное - не возносись, мол.
Но что касается одной семьи, так ведь всегда, надеюсь, есть должник и
кредитор, и никакой реформе этого не отменить, иначе я подам свой голос за
то, чтобы все оставалось как прежде. Не много сыщется людей, которым так
мало, как мне, нужны перемены, то есть мне лично - для меня и для моей
семьи. Я не из тех, которым нечего терять, я семьянин и уважаемый
прихожанин, и опять же этакий покупатель, как ваша милость, вы ведь
изволили мне обещать, что, за кого бы я ни отдал свой голос, вы от меня не
откажетесь, лишь бы товар был хорош.
После этого обмена мнениями мистер Момси поднялся наверх и похвастал
жене, что мистеру Бруку из Типтона с ним не сладить и что он теперь не
прочь принять участие в голосовании.
Мистер Брук после этой беседы не стал хвастать перед Ладиславом своими
тактическими дарованиями, а тот рад был уверить себя, что его участие в
обработке избирателей ограничивается чисто теоретической деятельностью и
он не спускается ниже таких высот, как подготовка фактов для предстоящей
дискуссии. Разумеется, у мистера Брука имелись агенты, отлично понимавшие,
что представляет собой мидлмарчский избиратель и какие средства надо
пустить в ход, дабы использовать его невежество на благо реформы, -
средства, удивительно похожие на те, которые пускали в ход противники
реформы. Уилл не обращал на все это внимания. В нашей жизни ничего нельзя
сделать, не только выдвигать кандидатов в парламент, но даже вкушать пищу
и одеваться, если слишком уж раздумывать о том, каким образом ты
осуществляешь эти процессы. Чтобы делать грязные дела, существуют люди с
грязными руками. Уилл уверил себя, что его роль в выдвижении мистера Брука
безупречна.
Зато весьма сомнительным представлялся ему успех на поприще, избранном
им для осуществления правого дела. Он писал речи и памятные записки для
речей, но ему становилось все яснее, что мистер Брук, оказавшись перед
необходимостью проследить ход какой-либо мысли, непременно сбивался со
следа, бросался разыскивать утерянный след, после чего с большим трудом
находил обратную дорогу. Служить родине, собирая различные документы, -
одно, а запоминать содержание этих документов - совсем другое. Нет уж!
Заставить мистера Брука вспомнить нужные доводы в нужный момент можно
было, лишь заталкивая эти доводы ему в голову столь усердно, чтобы ничего
другого она не могла вместить. Но куда их затолкнуть, если голова мистера
Брука и без того забита всякой всячиной? Мистер Брук и сам замечал, что,
когда он выступает с речами, ему несколько мешают идеи.
Впрочем, репетиторской деятельности Ладислава предстояла в ближайшее
время проверка, ибо накануне дня выдвижения кандидатов мистер Брук должен
был держать речь перед достопочтенными избирателями Мидлмарча с балкона
"Белого оленя", откуда открывался обширный вид на край рыночной площади и
перекресток. Стояло чудесное майское утро, и, казалось, многое внушало
надежду: забрезжила перспектива дружественных отношений между комитетом
Бэгстера и комитетом Брука, причем мистер Булстрод, мистер Стэндиш,
либеральный адвокат, и такие фабриканты, как мистер Плимдейл и мистер
Винси, придавали этому альянсу прочность, почти достаточную для того,
чтобы противостоять мистеру Хоули с союзниками, обосновавшимися в "Зеленом
драконе". Мистер Брук, довольный тем, что ему удалось приглушить
негодующий рев "Рупора" преобразованиями, произведенными им за последние
полгода у себя в поместье, и уловивший при въезде в город несколько
приветственных кликов, почувствовал, что его сердце забилось бодрее под
бледно-желтым жилетом. Но при критических обстоятельствах мы зачастую
обнаруживаем счастливую способность забывать все, что происходило ранее
чем минуту назад.
- Дела идут недурно, э? - говорил мистер Брук, поглядывая на
собиравшуюся толпу. - По крайней мере, на публику я пожаловаться не могу.
Право же, это приятно - выступать перед собственными, знаете ли, соседями.
Ткачи и кожевники Мидлмарча, в отличие от мистера Момси, не считали
мистера Брука своим соседом и испытывали к нему не больше привязанности,
чем если бы он только сию минуту был прислан к ним из Лондона в посылке.
Впрочем, они довольно благосклонно выслушали ораторов, представлявших им
кандидата, хотя один из них - политический деятель из Брассинга, прибывший
сообщить обитателям Мидлмарча, в чем заключается их долг, - произнес речь
столь пространную, что она вызвала опасения, удастся ли кандидату
что-нибудь к ней добавить. Тем временем толпа становилась гуще, и когда
деятель завершал свою речь, мистер Брук, который по-прежнему вертел в
руках очки, перебирал лежавшие перед ним бумаги и переговаривался с
членами комитета с видом человека, которого не страшит приближающееся
испытание, вдруг утратил всю свою уверенность.
- Я выпью еще рюмку хереса, Ладислав, - с беззаботным видом обратился
он к Уиллу, который стоял у него за спиной и тут же вручил ему сей
бодрящий напиток. Это было ошибкой, ибо вторая рюмка хереса, последовавшая
вскоре после первой, оказала сильное воздействие на организм мистера
Брука, всегда воздержанного в питье, и вместо того чтобы сосредоточить его
силы, распылила их. Посочувствуем ему: сколько английских джентльменов
тяжко страждут, витийствуя по поводу сугубо частных дел! А ведь мистер
Брук желал служить отечеству, войдя в парламент, что, впрочем, также могло
бы остаться его сугубо частным делом, если бы, вступив однажды на этот
путь, он не обязал себя витийствовать при любых обстоятельствах.
Начало речи не тревожило мистера Брука; он не сомневался, что здесь все
будет хорошо, со вступлением он справится шутя, выпалит его гладко, как
стихотворную цитату из Попа. Отчалить от берега будет несложно, но его
страшило плавание в открытом море.
"А вопросы? - напомнил бес, внезапно шевельнувшийся где-то под
ложечкой. - Кто-нибудь может спросить о программе".
- Ладислав, - вслух произнес мистер Брук. - Дайте-ка мне заметки по
поводу нашей программы.
Когда мистер Брук явился на балконе, гул приветствий прозвучал ничуть
не тише, чем вопли, крики, рев и прочие проявления несогласия, оказавшиеся
столь умеренными, что мистер Стэндиш (стреляный воробей) шепнул на ухо
соседу: "Скверный признак, черт побери! Хоули наверняка приготовил
какую-то каверзу". Впрочем, приветствия всегда приятны, и ободренный
мистер Брук выглядел образцовым кандидатом, когда, с торчавшими из
нагрудного кармана заметками, поигрывал очками правой рукой, а левой
опирался на перила. Особенно неотразимы были бледно-желтый жилет, коротко
остриженные светлые волосы и непроницаемое выражение лица. Он начал не без
бойкости:
- Джентльмены... избиратели Мидлмарча!
Начало оказалось столь удачным, что небольшая пауза напрашивалась сама
собой.
- Я невероятно рад, что стою здесь... ни разу в жизни не был я так горд
и счастлив... так счастлив, знаете ли.
Дерзко употребленный мистером Бруком ораторский прием таил в себе
опасность: вступление, которое он собирался выпалить играючи, вдруг
завязло, ведь даже цитата из Попа может, "ускользая, раствориться", если
нас снедает страх и лишняя рюмочка хереса как дымок окутывает мысли.
Ладислав, стоявший за его спиною у окна, подумал: "Сорвалось. Теперь одна
надежда: рывок не вышел, так, может быть, выберется хоть ползком". А тем
временем мистер Брук, растеряв все прочие путеводные нити, обратился к
собственной особе и ее талантам - предмет и выигрышный, и уместный в речи
любого кандидата.
- Я ваш близкий сосед, добрые друзья мои... известен вам как судья... я
неизменно занят общественными вопросами... например, возьмем машины и
следует ли их ломать... многие из вас работают с машинами, и в последнее
время я занимался этим предметом. Машины, знаете ли, ломать не стоит:
пусть все развивается - ремесла, промышленность, коммерция, обмен
товарами... и тому подобное... с времен Адама Смита все это должно
развиваться. Взглянем на глобус. "Взгляд наблюдателя, не зная преград,
должен охватить все, от Китая до Перу" (*145), - сказал кто-то там,
по-моему, Джонсон... "Рассеянный" (*146), знаете ли. Я это в каких-то
пределах осуществил... правда, до Перу не добрался... но за границу все же
ездил... иначе нельзя. Я побывал в Леванте, куда мы посылаем кое-что,
производимое в Мидлмарче... ну, и опять же на Балтийском море. На
Балтийском, да.
Так, блуждая среди воспоминаний, мистер Брук, быть может, благополучно
воротился бы из далеких морей к собственной особе, если бы не дьявольская
выходка его неприятелей. В один и тот же миг ярдах в десяти от мистера
Брука и почти напротив него поднялось над толпой чучело намалеванного на
тряпке оратора: светло-желтый жилет, очки, непроницаемое выражение лица; и
тут же воздух огласили повторяемые голосом Панча слова, которые произносил
мистер Брук. Все посмотрели на открытые окна в домах, расположенных против
балкона: одни были пусты, в других виднелись смеющиеся лица слушателей.
Повторенные даже без злого умысла слова оратора, выступающего с жаром,
непременно звучат издевательски; здесь же, без сомнения, наличествовал
злой умысел - невидимый насмешник либо повторял за мистером Бруком каждое
слово, либо норовил выбрать из речи что-нибудь посмешней. То здесь, то там
слышался смех, и когда голос выкрикнул: "На Балтийском, да", все слушатели
разразились дружным хохотом, и, если бы членов комитета не удерживало
чувство солидарности и преданность великому делу, символом которого волей
судеб стал "Брук из Типтона", они, возможно, засмеялись бы тоже. Мистер
Булстрод возмущенно спросил, чем занята полиция, но голос за шиворот не
схватишь, а попытка изловить чучело кандидата была небезопасной, ибо,
возможно, как раз этого и добивался Хоули.
Что до оратора, он не мог осознать ничего, кроме того, что мысли от
него куда-то ускользают: у него даже немного шумело в ушах, и,
единственный из всех присутствующих, он так и не расслышал вторивший ему
голос и не заметил своего изображения. Не много сыщется эмоций,
поглощающих нас столь же безраздельно, как волнение по поводу того, что мы
собираемся сказать. Мистер Брук слышал смех, но он был готов к тому, что
тори затеют во время его речи суматоху, к тому же его будоражило и
отвлекало в этот миг радостное предчувствие: казалось, затерявшееся в
начале речи вступление вот-вот готово воротиться и вызволить его из
балтийских морей.
- Это напоминает мне, - продолжил мистер Брук, с непринужденным видом
засовывая в карман руку, - если бы я, знаете ли, нуждался в прецеденте...
но когда ты прав, прецеденты не нужны, впрочем, возьмем Чэтема (*147), не
могу утверждать, что я стал бы поддерживать Чэтема или Питта... Питта
Младшего... он не был человек с идеями, а нам, знаете ли, нужны идеи.
- К черту идеи! Нам нужен билль, - выкрикнул в толпе грубый голос.
И тотчас же невидимый Панч, до тех пор копировавший мистера Брука,
повторил: "К черту идеи! Нам нужен билль". Публика расхохоталась еще
громче, а мистер Брук, прервавший в этот миг свою речь, наконец-то
расслышал давно уже вторившее ему эхо. Но поскольку оно передразнивало
того, кто его перебил, и ввиду этого казалось дружественным, он учтиво
отозвался:
- Вы не так уж неправы, мой добрый друг, мы ведь и встретились для
того, чтобы поговорить откровенно... Свобода мнений, свобода печати,
свобода... в этом роде, да? Что касается билля, то вы получите билль. -
Тут мистер Брук, замолкнув на мгновение, надел очки и вытащил из
нагрудного кармана заметки жестом делового человека, намеренного перейти к
подробностям. Панч подхватил:
- Вы получите билль, мистер Брук, путем предвыборной обработки
избирателей, и место за пределами парламента получите, а с вас позвольте
получить круглую сумму - пять тысяч фунтов семь шиллингов и четыре пенса.
Грянул дружный хохот, а мистер Брук, побагровев, уронил очки,
растерянно огляделся и увидел наконец чучело, продвинувшееся ближе к
балкону. Затем он увидел, что оно самым плачевным образом замарано яйцами.
Мистер Брук, вспылив, ощутил подъем душевных сил и поднял голос.
- Шутовские выходки, проказы, издевательства над преданностью истине...
все это прекрасно. - Тут тухлое яйцо угодило в плечо мистеру Бруку, а
голос повторил: "Все это прекрасно", после чего яйца посыпались градом,
нацеленные по большей части в чучело, но иногда, как бы случайно, попадая
и в оригинал. В толпе сновало множество никому не известных людей, свист,
вопли, рев, завывание дудок слились в невообразимый шум, еще более
оглушительный из-за криков тех, кто пробовал унять смутьянов. Перекричать
такой шум было решительно невозможно, и мистер Брук капитулировал.
Поражение казалось бы не столь досадным, если бы вся баталия не выглядела
как ребяческая шалость. Грозное нападение, в результате которого репортер
мог бы сообщить читателям об "опасности, коей подверглись ребра
высокоученого джентльмена", или почтительнейше засвидетельствовать, что
над "перилами мелькнули подметки башмаков этого джентльмена", быть может,
оказалось бы менее огорчительным.
Мистер Брук, вернувшись в комнату, где собрались члены комитета,
небрежно произнес:
- Довольно неудачно вышло, знаете ли. Мало-помалу я завладел бы
вниманием слушателей... но попросту не успел. Я подобрался бы и к биллю, -
добавим он, взглянув на Ладислава. - Впрочем, в день выдвижения кандидата
все наладится.
Но члены комитета не были убеждены, что все наладится; наоборот, они
имели вид довольно мрачный, а политический деятель из Брассинга что-то
бойко строчил, словно строил уже новые планы.
- Это штучки Боуера, - уклончиво заявил мистер Стэндиш. - Уверен в этом
столь же твердо, как если бы его имя было напечатано на афише. Боуер -
великий мастер чревовещания и, черт побери, проявил сейчас незаурядное
мастерство! Хоули недавно угощал его обедом: у Боуера множество всяких
талантов.
- Вы, Стэндиш, знаете ли, никогда не говорили мне о нем, не то я тоже
пригласил бы его обедать, - сказал бедный мистер Брук, то и дело ради
блага родины приглашавший к себе кого-нибудь отобедать.
- Во всем Мидлмарче не найти такого ничтожества, как Боуер, - негодующе
сказал Ладислав, - но, кажется, у нас все зависит от ничтожеств.
Уилл, порядком разгневанный и на себя и на патрона, ушел домой и
заперся, всерьез подумывая распрощаться с "Пионером", а заодно и с
мистером Бруком. Что его удерживает тут? Если ему суждено уничтожить
непреодолимую пропасть между собой и Доротеей, то лишь уехав из Мидлмарча
и добившись совсем иного положения, а отнюдь не прозябая в этом городишке,
где, как прислужник Брука, он пользуется все большим и большим
презрением... и по заслугам. Затем он принялся мечтать об успехах, которых
достигнет... ну, скажем, через пять лет: сейчас, когда общественная
деятельность становится все популярней и распространяется по всей стране,
умение говорить речи и писать статьи на политические темы приобретает
большую ценность, и он сможет завоевать высокое положение в свете,
уравнявшись с Доротеей. Пять лет... если бы только знать, что для нее он -
не то что другие, если бы как-нибудь дать ей понять, что он устраняется
лишь до тех пор, пока не сможет рассказать ей о своей любви, не унижая
себя. О, тогда бы ему ничего не стоило уехать и сделать карьеру,
представлявшуюся вполне осуществимой в двадцать пять лет, когда не
возникает сомнений, что талант влечет за собой славу, а слава -
восхитительнейшее из житейских благ. Он недурно говорит и пишет; какое бы
поприще он ни избрал, он преуспеет на нем и, уж разумеется, употребит весь
свой пыл только ради торжества здравого смысла и справедливости. И так ли
уж невероятно, что в один прекрасный день он вознесется над простыми
смертными, чувствуя себя вполне достойным этого? Без сомнения, ему следует
покинуть Мидлмарч, отправиться в столицу и, изучив юриспруденцию, обрести
славу.
Только не тотчас: сперва необходимо как-то известить о своих намерениях
Доротею. Ему не будет покоя, пока она не поймет, почему он не мог бы на
ней жениться, даже если бы оказался ее избранником. А до этих пор он
останется на месте и еще некоторое время будет терпеть мистера Брука.
Но вскоре у него появились основания подозревать, что мистер Брук готов
предупредить его намерение. Глас народа и внутренний голос, слившись
воедино, побудили этого филантропа принять ради блага человечества более
решительные меры, чем обычно, а именно - отказаться от борьбы в пользу
другого кандидата, передав последнему все средства, коими он пользовался в
борьбе за голоса. Мистер Брук сам назвал эту меру решительной, но при этом
добавил, что его организм оказался более чувствительным к волнениям, чем
он представлял себе вначале.
- У меня возникло неприятное ощущение в груди... следует быть
поосторожней, - сказал он, объясняя Ладиславу положение дел. - Я должен
вовремя остановиться. Пример бедняги Кейсобона - это, знаете ли,
предупреждение. Порой я двигался тяжеловесно, однако проложил дорогу.
Нелегкая это работа - бороться за голоса избирателей, верно, Ладислав?
Полагаю, она вам надоела. Впрочем, наш "Пионер" подготовил почву...
указал, в каком направлении надо двигаться, и тому подобное. Теперь и
более заурядный человек, чем вы, мог бы продолжить вашу работу... более
заурядный, знаете ли.
- Вам угодно, чтобы я отказался от места? - вспыхнув, сказал Уилл,
вскочил из-за стола и сделал несколько шагов, держа руки в карманах. - Я
готов уйти, как только вы пожелаете.
- Что касается моих лично желаний, дорогой Ладислав, то я, знаете ли,
придерживаюсь самого лестного мнения о ваших способностях. А вот по поводу
"Пионера" у меня состоялся разговор кое с кем из наших приверженцев, и они
склонны взять газету в свои руки... в известной мере, компенсировав мне
это... иными словами, они намерены сами заняться "Пионером". А при таком
обороте дела вы, возможно, предпочтете оставить работу в газете...
приискать более подходящее поле деятельности. Эти люди, может быть, не
оценят вас в такой степени, в какой всегда ценил вас я, почитая своим
alter ego, правой рукой... хотя я никогда не сомневался, что вас ждет иная
деятельность. Я собираюсь во Францию. Но я вам напишу всевозможные
рекомендательные письма... к Олторпу (*148), к кому угодно. Я знаком с
Олторпом.
- Чрезвычайно вам обязан, - гордо ответил Ладислав. - Коль скоро вы
расстаетесь с "Пионером", не стану утруждать вас заботой о моих дальнейших
действиях. Возможно, я предпочту остаться тут еще на некоторое время.
Когда мистер Брук ушел, Уилл подумал: "Родственники, как видно,
требуют, чтобы он отделался от меня, и он уже не стремится меня удержать.
Я пробуду здесь так долго, как сумею. Уеду же когда мне вздумается и вовсе
не потому, что они меня испугались".
52
И не было столь низкого служенья,
Чтоб сердцу этому казалось низко.
Уильям Вордсворт
В этот июньский вечер, когда мистер Фербратер объявил своим домашним,
что ему предложили Лоуикский приход, все сияло счастьем в старомодной
гостиной и даже знаменитые юристы на портретах имели довольный вид.
Матушка мистера Фербратера не притронулась ни к чаю, ни к тостам и,
сохраняя всегдашнюю грациозную сдержанность манер, а свое волнение
обнаруживая только румянцем и блеском глаз, внезапно делающими старую
женщину такой, какой она бывала в юности, с убеждением сказала:
- Мне особенно приятно, Кэмден, что ты это заслужил.
- Когда человеку достается хорошее место, матушка, все его заслуги еще
впереди, - ответил сын, не пытаясь скрыть ликования. Радость, сиявшая на
его лице, была столь выразительной, что, казалось, выставляла напоказ и
его внутренний мир: не только восторженное состояние души, но даже мысли
как бы читались в его взгляде.
- Теперь уж, тетушка, - продолжал он, потирая руки и переводя взгляд на
мисс Ноубл, что-то негромко попискивавшую про себя, - на столе у нас
всегда найдутся леденцы, которые вы будете утаивать для детишек, и вы
сможете раздаривать великое множество новых чулок и еще усерднее штопать
свои собственные.
Мисс Ноубл кивнула племяннику с приглушенным робким смешком, ибо в
честь полученного им назначения уже смахнула в корзиночку лишний кусок
сахара.
- Что касается тебя, Уинни, - говорил священник, - я не стану
препятствовать твоему браку с любым из лоуикских холостяков, например, с
мистером Соломоном Фезерстоуном, если окажется, что ты в него влюблена.
Мисс Уинифред, которая весь вечер смотрела на брата, как всегда на
радостях плача от души, сквозь слезы улыбнулась и сказала:
- Ты должен показать мне пример, Кэм: это тебе теперь нужно жениться.
- С удовольствием. Но кто же влюбится в меня? Я такой неказистый и
старый, - сказал священник, встав, отодвигая стул и окидывая себя
взглядом. - Как по-вашему, матушка?
- Ты красивый мужчина, Кэмден, хоть и не такой представительный, как
твой отец, - ответила старая дама.
- Я бы хотела, чтобы ты женился на мисс Гарт, братец, - сказала мисс
Уинифред. - Нам так весело жилось бы с нею в Лоуике.
- Вот прекрасно! По-твоему выходит, невест можно выбирать, как кур на
рынке, стоит мне вымолвить слово, и любая согласится, - сказал мистер
Фербратер, не называя той, кого ему прочили в невесты.
- Нам любая не нужна, - сказала мисс Уинифред. - Но вы-то, матушка, вы
были бы довольны, если бы он женился на мисс Гарт, ведь верно?
- Я всегда одобрю выбор сына, - с величавой скромностью произнесла
миссис Фербратер, - и буду очень рада твоей женитьбе, Кэмден. Когда мы
переедем в Лоуик, тебе придется дома играть в вист, а Генриетта Ноубл -
игрок никудышный. (Миссис Фербратер всегда именовала так торжественно свою
миниатюрную сестру.)
- Я обойдусь теперь без виста, матушка.
- Чего ради, Кэмден? В мое время вист не считался предосудительным
развлечением для духовных лиц, - довольно резко возразила миссис
Фербратер, не ведавшая, какое значение имеет в жизни ее сына вист, и не
одобрявшая новых веяний.
- Мне теперь некогда играть, у меня будет два прихода, - сказал
священник, уклоняясь от обсуждения достоинств этой игры.
Он уже сказал по этому поводу Доротее:
- Я не считаю себя обязанным отказываться от прихода святого Ботольфа,
но возьму в тот приход младшего священника, который будет получать большую
часть денег. Так я выражу свое согласие с теми, кто требует, чтобы одно
духовное лицо не занимало нескольких мест. Главное - не отказываться от
духовной власти, а добросовестно использовать ее.
- Я об этом думала, - сказала Доротея. - Если бы речь шла только обо
мне, то мне легче отказаться и от власти и от денег, чем сохранять их. Мне
кажется, я совершенно недостойна права назначать священника, и в то же
время я чувствую, что не должна передавать это право другим, коль скоро
оно мне поручено.
- Это уж моя обязанность поступать так, чтобы вы не раскаялись в том,
как осуществили свое право, - сказал мистер Фербратер.
Он принадлежал к тем людям, чья совесть становится более чуткой, когда
тяготы жизни перестают их терзать. Не выставляя напоказ свое раскаяние, он
устыдился в глубине души, что вел себя менее достойно, чем иные миряне.
- Я не раз сожалел, что сделался священником, - сказал он как-то
Лидгейту, - но, наверное, лучше не сожалеть, а постараться быть хорошим
священником. Вот как просто все становится, когда получаешь богатый
приход, - добавил он с улыбкой.
Говоря это, мистер Фербратер полагал, что исполнение долга не окажется
обременительным. Однако Долг любит подсовывать неожиданные сюрпризы, он
похож на нескладеху приятеля, которого любезно пригласили в гости, а он
вдруг сломал ногу, входя в ворота.
Не прошло и недели, как Долг нагрянул к нему в кабинет, приняв личину
Фреда Винси, только что возвратившегося домой со степенью бакалавра.
- Неловко вас беспокоить, мистер Фербратер, - сказал Фред, и на его
красивом открытом лице появилось трогательно смущенное выражение, - но вы
единственный из моих друзей, с кем я мог бы посоветоваться. Как-то я уже
делился с вами своими сомнениями, и вы были так добры, что я не удержался
и пришел к вам снова.
- Садитесь и рассказывайте, Фред, я сделаю все, что в моих силах, -
сказал священник и продолжал, готовясь к переезду, упаковывать в свертки
разные вещицы.
- Я хотел вам сказать... - Фред замялся, потом решительно продолжил: -
Я могу сейчас принять сан, и, говоря по правде, ничего другого мне не
остается. У меня нет охоты стать священником, но было бы жестоко сказать
об этом отцу, после того как он потратил столько денег на мое образование.
- Фред опять немного помолчал и повторил: - Ничего другого мне не
остается.
- А я ведь уже разговаривал по этому поводу с вашим отцом, Фред, но
разговор ни к чему не привел. По его мнению, менять что-нибудь поздно.
Впрочем, одну преграду вы уже преодолели. Что еще вас беспокоит?
- Да просто то, что мне это не по душе. Я не люблю богословия,
проповедей, не люблю напускать на себя серьезный вид. Мне нравится ездить
верхом и делать то же, что и все другие. Это совсем не значит, что меня
тянет к недозволенным вещам, но быть таким, как полагается священнику, у
меня нет желания. Ну а что же мне остается еще? Я бы занялся сельским
хозяйством, но отец не может выделить мне капитал. Сделать меня своим
компаньоном он тоже не может. И уж конечно, мне нельзя сейчас начинать
учиться сызнова, чтобы стать адвокатом или врачом, так как отец считает,
что мне уже пора хоть что-нибудь зарабатывать. Легко, конечно, говорить,
что, мол, не следует мне идти в священники; с тем же успехом мне могут
посоветовать уйти в лес и жить среди зверей.
Голос Фреда звучал ворчливо и обиженно, и мистер Фербратер не удержался
бы от улыбки, если бы не старался угадать, о чем умалчивает Фред.
- Вы в чем-нибудь не согласны с догматами... с нашим символом веры? -
спросил он, добросовестно пытаясь выяснить, что беспокоит его гостя.
- Нет, символ веры тут ни при чем. Куда уж мне опровергать его, когда
люди гораздо ученее и умнее меня целиком с ним согласны. По-моему, с моей
стороны было бы довольно глупо высказывать разные сомнения, какой же я
судья в таких делах, - простодушно ответил Фред.
- Если так, то вам, наверно, приходило в голову, что, даже не ощущая
особого призвания, вы могли бы стать хорошим приходским священником?
- Конечно, если мне придется быть священником, я постараюсь исполнять
свои обязанности честно, хотя они едва ли будут мне по нраву. Вы считаете
это достойным осуждения?
- То, что вы примете сан под давлением обстоятельств? Это зависит от
вашей совести, Фред... от того, насколько вы все взвесили и ясно ли себе
представили, чего от вас потребует ваше положение. О себе могу только
сказать, что я был небезупречен, и это меня удручает.
- Но есть еще одно препятствие, - краснея, продолжал Фред. - Я об этом
раньше не рассказывал, но вы, может быть, догадались, я иногда, наверное,
проговаривался. Мне очень нравится одна девушка, я люблю ее с детства.
- Мисс Гарт, я думаю? - спросил священник, очень внимательно
разглядывая какие-то ярлычки.
- Да, она. Если бы Мэри вышла за меня, я бы на все согласился. И я
знаю, с ней я стал бы порядочным человеком.
- Так вы полагаете, что она отвечает вам взаимностью?
- Она никогда этого сама не скажет; а с меня уже давно взяла слово, что
я больше не буду с ней разговаривать на эту тему. Так вот Мэри-то больше
всех настроена против того, чтобы я сделался священником, я это знаю. А я
не могу от нее отказаться. Мне кажется, я ей по сердцу Вчера вечером я
видел миссис Гарт, и она сказала, что Мэри сейчас гостит в Лоуике у мисс
Фербратер.
- Да, она любезно согласилась помочь моей сестре. Вы хотите поехать в
Лоуик?
- Нет, но у меня к вам огромная просьба. Мне неловко вам докучать, но
если вы коснетесь этого вопроса, вас-то Мэри, наверное, выслушает...
словом, насчет того, идти ли мне в священники.
- Довольно щекотливое поручение вы мне даете, милый Фред. Оно
предполагает, что мне известны ваши чувства, и в этом случае заговорить с
мисс Гарт о вашем будущем - все равно что спросить ее, отвечает ли она вам
взаимностью.
- Именно это мне и надо выяснить, - без обиняков подтвердил Фред. - Я
ничего не смогу решить, пока не узнаю, как она ко мне относится.
- То есть от полученного вами ответа зависит, станете ли вы
священником?
- Если Мэри скажет, что не пойдет за меня, кем бы я ни стал, из меня не
выйдет толку.
- Глупости, Фред. Любовь проходит, а последствия опрометчивых решений
остаются.
- Не такая любовь, как моя: сколько я себя помню, я всегда любил Мэри.
Отказаться от надежды для меня все равно что вдруг сделаться безногим
калекой.
- Не обидится ли мисс Гарт на мое непрошеное вмешательство?
- Не обидится, уверен, что не обидится. Вас она больше всех уважает,
она не станет с вами, как со мной, переводить разговор на шутки. Мне бы и
в голову не пришло ни к кому, кроме вас, обращаться с такими разговорами и
просьбами. Ведь вы единственный наш общий добрый друг. - Фред немного
помолчал и жалобно добавил: - Все-таки она не может не признать: я
порядком потрудился, чтобы получить степень. Должна же она наконец
почувствовать, что я всегда буду ради нее стараться, не жалея сил.
После недолгой паузы мистер Фербратер отложил в сторону готовые свертки
и, протянув Фреду руку, сказал:
- Хорошо, мой мальчик. Я исполню вашу просьбу.
В тот же день мистер Фербратер отправился в Лоуик на недавно
приобретенной лошадке. "Я замшелый старый пень, - думал он, - забивает
меня молодая поросль".
Он нашел Мэри в саду, где она обрывала лепестки роз и сбрызгивала их
водой, разложив на простыне. Солнце клонилось к закату, и тень от высоких
деревьев покрыла травянистые тропинки, по которым Мэри ходила без зонтика
и шляпы. Не заметив мистера Фербратера, неслышно подошедшего по траве, она
наклонилась, чтобы сделать выговор черному с рыжими подпалинами терьеру,
который упорно забирался на простыню и нюхал сбрызнутые водой лепестки.
Левой рукой взяв песика за передние лапы, она укоризненно грозила ему
указательным пальцем правой, а он смущенно морщил лоб.
- Жучок, Жучок, мне стыдно за тебя, - строго выговаривала ему Мэри
звучным низким голосом. - Умные собаки так себя не ведут: все подумают,
что ты глупенький молодой джентльмен.
- Вы суровы к молодым джентльменам, мисс Гарт, - проговорил за ее
спиной священник.
Мэри выпрямилась и покраснела.
- С Жучком иначе нельзя, - ответила она, смеясь.
- А с молодыми джентльменами можно?
- С некоторыми, наверное, можно, поскольку некоторые из них со временем
превращаются в очень достойных людей.
- Рад, что вы это признаете, ибо я как раз собираюсь походатайствовать
перед вами за одного молодого джентльмена.
- Надеюсь, не за глупого, - сказала Мэри, снова наклоняясь к розам, и
ее сердце тревожно забилось.
- Нет, хотя главное его достоинство не мудрость, а искренность и
любящее сердце. Впрочем, оба эти свойства даруют человеку больше мудрости,
чем многие думают. Я полагаю, вы уже догадались по приметам, кто этот
юноша?
- По-моему, да, - смело ответила Мэри, и руки у нее похолодели, а лицо
стало серьезным, - мне кажется, это Фред Винси.
- Он попросил меня узнать, как бы вы отнеслись к тому, чтобы он стал
священником? Надеюсь, вы не сочтете, что я позволил себе слишком многое,
обещав выполнить его просьбу.
- Нет, что вы, мистер Фербратер, наоборот, - сказала Мэри, оставив,
наконец, в покое розы и скрестив руки, но все еще не поднимая глаз, -
всякий раз, когда вы со мной говорите, я радуюсь и чувствую себя
польщенной.
- Однако прежде, чем мы приступим к обсуждению этой темы, я хотел
коснуться одного вопроса, о котором мне сообщил по секрету ваш батюшка -
кстати, это случилось в тот самый вечер, когда я в прошлый раз исполнил
просьбу Фреда, сразу же после того, как он уехал готовиться к экзамену.
Мистер Гарт мне рассказал, что произошло в ту ночь, когда умер
Фезерстоун... о том, как вы отказались сжечь завещание. Он сказал, что вас
мучают угрызения совести, так как вы невольно помешали Фреду получить в
наследство десять тысяч фунтов. По этому поводу я хочу вам сообщить одну
вещь, которая, может быть, вас успокоит, убедив, что от вас не требуется
искупительной жертвы.
Мистер Фербратер замолчал и посмотрел на Мэри. Он не собирался лишать
Фреда ни малейших преимуществ, но, приступая к разговору с Мэри, считал,
что и ее необходимо освободить от заблуждений, под влиянием которых иные
женщины выходят замуж, считая, что таким образом они заглаживают свою вину
перед будущим мужем, а сами делают его на всю жизнь несчастным. Мэри
покраснела и не произнесла ни слова.
- Я хочу сказать, что ваш поступок не отразился на судьбе Фреда. Как я
выяснил, предыдущее завещание не имеет силы, если последующее уничтожено.
Его легко было оспорить, и это сделали бы наверняка. Так что вы можете не
тревожиться.
- Благодарю вас, мистер Фербратер, - взволнованно сказала Мэри, - я
очень тронута вашей заботой.
- Ну, а теперь я могу продолжать. Фред, как вам известно, получил
степень бакалавра. С этой задачей он справился, и таким образом возник
вопрос, как он поступит далее? Его положение настолько сложно, что он
готов послушаться отца и стать священником, хотя вам лучше, чем кому-либо,
известно, как решительно он противился этому прежде. Я с ним побеседовал
на эту тему и, признаюсь, не вижу непреодолимых препятствий к тому, чтобы
он принял сан. Фред говорит, что он приложит все старания, чтобы как можно
лучше выполнять свои обязанности, однако при одном условии. Если условие
это окажется исполнимым, я помогу Фреду всем, что в моих силах. Спустя
некоторое время - разумеется, не сразу - он может стать младшим
священником в приходе святого Ботольфа, где у него найдется столько дел,
что положенное ему жалованье будет немногим меньше того, которое я получал
там как приходский священник. Но повторяю: есть одно условие, без
соблюдения которого все эти блага не осуществятся. Он открыл мне свое
сердце, мисс Гарт, и просил походатайствовать за него перед вами.
Выполнение этого условия полностью зависит от ваших чувств.
Мэри казалась столь взволнованной, что мистер Фербратер сказал:
"Давайте немного пройдемся", - и когда они шли по дорожке, добавил:
- Попросту говоря, Фред не предпримет ничего, что помешает ему
сохранить ваше расположение, зато, надеясь стать вашим мужем, он будет
ревностно заниматься любым делом, к которому вы отнесетесь одобрительно.
- Я не могу обещать, мистер Фербратер, что выйду за него замуж, но одно
я знаю твердо: если он станет священником, я не буду его женой. Все, что
вы говорите, свидетельствует о вашем благородстве и доброте, я вовсе не
собираюсь разубеждать вас. Но все девушки насмешницы, у нас свой,
особенный подход, - добавила Мэри немного лукаво, отчего ее застенчивый
ответ прозвучал еще милее.
- Он просит точно передать ему, что вы об этом думаете, - сказал мистер
Фербратер.
- Я не могу любить того, кто смешон, - сказала Мэри, ограничиваясь лишь
этим доводом. - У Фреда достаточно знаний и здравого смысла, чтобы создать
себе доброе имя на каком-нибудь мирском поприще, но стоит мне представить,
как он читает проповедь, благословляет прихожан и наставляет их на путь
истинный или молится у одра больного, и мне кажется, будто передо мной
карикатура. Ведь священником он станет только ради положения в обществе, а
по-моему, нет ничего более низкого, чем доказывать таким дурацким способом
свое благородство. Я всегда так думала, когда глядела на мистера Кроуза,
на его аккуратненький зонтик и ничтожное лицо и слушала его жеманные
сентенции. Какое право имеет такой человек олицетворять христианство,
словно церковь существует для того, чтобы разные олухи могли карабкаться
вверх по общественной лестнице... Словно... - Мэри вдруг замолкла. Она
настолько увлеклась, что заговорила с мистером Фербратером, как с Фредом.
- Молодые девицы строги; в отличие от мужчин они не представляют себе,
как нелегко добывать хлеб насущный, хотя вы, возможно, являетесь
исключением. Надеюсь, к Фреду Винси вы относитесь лучше, чем к тем, о ком
с таким презрением только что говорили?
- Ну разумеется. У него много здравого смысла, но, сделавшись
священником, он не сможет его проявить. Фред будет ненатурален в этой
роли.
- Тогда ответ ваш совершенно ясен. Став священником, он теряет надежду?
Мэри кивнула.
- А если он, не побоявшись трудностей, решится добывать средства к
существованию другим путем... вы не лишите его надежды? Может он
рассчитывать, что вы станете его женой?
- По-моему, незачем повторять снова то, что я однажды уже сказала
Фреду, - ответила Мэри с некоторой досадой. - Я имею в виду, что незачем
ему задавать подобные вопросы, намекая, будто он способен на серьезные
дела, и в то же время ничего серьезного не делать.
Мистер Фербратер некоторое время помолчал и, когда на обратном пути они
остановились в тени клена, проговорил:
- Я понимаю, что вам неприятны всякие попытки связать вас, однако ваше
чувство к Фреду может исключать для вас возможность новой привязанности, а
может и не исключать ее, то есть Фред либо может рассчитывать, что вы
будете его ждать и не выйдете замуж, либо его может постигнуть
разочарование. Простите меня, Мэри, - я когда-то называл вас по имени,
наставляя в вопросах веры, - но если от расположения женщины зависит
счастье чьей-то жизни... может быть, даже не одной... по-моему, она
поступит благородно, отвечая на вопросы откровенно и прямо.
Мэри тоже помолчала, пораженная не настойчивостью мистера Фербратера, а
его тоном, в котором звучало сдержанное волнение.
У нее мелькнула мысль, не говорит ли он и о себе, однако Мэри сочла ее
невероятной и устыдилась. Ей никогда не приходило в голову, что кто-нибудь
может ее полюбить, кроме Фреда, обручившегося с ней кольцом от зонтика еще
в ту пору, когда она носила носочки и ботинки со шнурками; и уж совсем
немыслимо, чтобы на нее обратил внимание мистер Фербратер, самый умный
человек в узком кружке ее знакомых. У нее осталось только ощущение, что
все это очень неправдоподобно и, очевидно, порождено ее фантазией, одно
лишь ясно и определенно - от нее ждут ответа.
- Поскольку вы считаете это моим долгом, мистер Фербратер, я отвечу,
что я слишком привязана к Фреду и не променяю его на другого. Я не смогу
быть счастливой ни с кем, если сделаю несчастным Фреда. Слишком глубоко
укоренилось во мне чувство благодарности за то, что он всегда любил меня
так сильно, так волновался, не ушиблась ли я, еще когда мы были детьми. Я
не могу представить себе, что какое-то новое чувство может вытеснить мою
привязанность к нему. Но мне хотелось бы, чтобы он добился уважения всех
окружающих. Только, пожалуйста, скажите ему, что, пока этого не будет, я
не обещаю выйти за него замуж. Я не хочу, чтобы мои родители огорчались и
стыдились из-за меня. Фред волен выбрать себе другую невесту.
- В таком случае, моя миссия выполнена полностью, - сказал мистер
Фербратер, протягивая руку Мэри, - и я немедленно возвращаюсь в Мидлмарч.
Теперь, когда Фред окрылен радостной надеждой, мы его куда-нибудь
пристроим, и я надеюсь дожить до той поры, когда смогу вас обвенчать. Да
благословит вас бог!
- Пожалуйста, не уезжайте, разрешите напоить вас чаем, - сказала Мэри.
Слезы выступили у нее на глазах, ибо нечто неопределимое, нечто похожее на
сдерживаемую боль послышалось ей в словах мистера Фербратера, и она
почувствовала себя такой же несчастной, какой была однажды, увидев, как
дрожали руки ее отца в минуту душевной тревоги.
- Нет, милая моя, не надо. Мне пора.
Через три минуты священник сидел в седле, совершив подвиг великодушия,
гораздо более тяжкий, чем отказ от игры в вист и даже сочинение проповедей
о пользе раскаяния.
53
То, что кажется со стороны непоследовательностью, может
быть воспринято как неискренность поверхностными
наблюдателями, склонными механически прилагать
всевозможные "если" и "потому" к огромному переплетению
невидимых побегов, существование коих обусловлено взаимным
воздействием и взаимным доверием.
Мистер Булстрод еще в ту пору, когда он только присматривался к Лоуику,
разумеется, очень хотел, чтобы новый приходский священник оказался ему по
нраву. Он счел истинным наказанием свыше, как за свои собственные грехи,
так и за грехи нации в целом, то обстоятельство, что именно тогда, когда
он сделался хозяином Стоун-Корта, мистер Фербратер стал священником
лоуикской церкви и прочел первую проповедь фермерам, работникам и сельским
мастеровым. Мистер Булстрод отнюдь не собирался особенно часто посещать
прелестную лоуикскую церквушку, не собирался он также и подолгу проживать
в Стоун-Корте: он купил эту прекрасную ферму и роскошную усадьбу просто
для того, чтобы иметь удаленное от города прибежище, которое путем
приобретения новых земельных угодий и украшения жилища он, может быть, со
временем превратит в нечто достойное сделаться его резиденцией, куда он
сможет ездить отдохнуть от руководства деловыми операциями и где сможет
способствовать процветанию евангельской истины с особой успешностью, как
владелец расположенных в этой местности земель, площадь которых волею
провидения намеревался по случаю приумножать и впредь. Неопровержимым
доказательством правильности избранного им пути послужила неожиданная
легкость, с которой мистер Булстрод приобрел Стоун-Корт, хотя все
полагали, что мистер Ригг Фезерстоун вцепился в полученное им наследство,
словно это райские кущи. Бедный Питер Фезерстоун тоже рассчитывал на это и
часто представлял себе, как, упокоившись в сырой земле, будет радоваться,
что его жабоподобный наследник роскошествует в старинной уютной усадьбе,
неизменно вызывая изумление и неудовольствие остальных претендентов.
Но не так легко предугадать, что наши ближние считают раем. Мы судим о
вещах, исходя из собственных желаний, ближние же наши не всегда настолько
откровенны, чтобы намекнуть, чего желают они сами. Сдержанный и
рассудительный Джошуа Ригг не дал своему родителю возможности заподозрить,
что Стоун-Корт не является для него величайшим из благ... к тому же он
очень хотел унаследовать ферму. Но как Уоррен Гастингс (*149), глядя на
золото, мечтал приобрести Дейлсфорд, так Джошуа Ригг, глядя на Стоун-Корт,
мечтал обрести золото. Он очень ярко и отчетливо представлял себе, в чем
заключается его величайшее благо, ибо волею обстоятельств унаследованная
им ненасытная жадность приняла особую форму: величайшим благом для него
было стать менялой. Еще мальчиком для посылок в порту, он заглядывал в
окна меняльных лавок, как другие мальчишки заглядывают в витрины
кондитерских; постепенно детские восторги превратились во всепоглощающую
страсть; он многое намеревался сделать разбогатев, в том числе жениться на
барышне из благородных, но он не предавался безудержным мечтам об этих
радостях и развлечениях. Одной радости он жаждал всей душой - открыть в
каком-нибудь оживленном порту меняльную контору, окружить себя
всевозможными запорами и манипулировать денежными знаками всех государств,
холодно и надменно встречая завистливые взгляды, устремляемые на него
сквозь железную решетку бессильной Алчностью. Сила этой страсти подвигла
его искать знаний, потребных для ее удовлетворения. И в то время как все
считали, что он водворится навсегда на унаследованной им ферме, сам Джошуа
считал, что близится тот час, когда он водворится в Северной Гавани
счастливым обладателем хитроумнейших замков и несгораемых шкафов.
Но довольно. Мы рассматриваем совершенную Джошуа Риггом негоцию с точки
зрения мистера Булстрода, а для него она - счастливое событие, а может
быть, и доказательство, что цель, которой он бесплодно добивался до сих
пор, одобрена свыше; он понял это именно так, но, не будучи уверен
полностью, вознес благодарственную молитву в сдержанных выражениях. Его
сомнения не были порождены тревогой по поводу того, как отразится продажа
имения на судьбе Джошуа Ригга, - судьба Джошуа Ригга не значилась ни в
одном из районов, входивших в метрополию провидения, возможно, она
затерялась где-то в колониях; нет, сомнения мистера Булстрода возникали
при мысли, не обернется ли для него достижение заветной цели такой же
карой, какой уже явилось появление в приходе мистера Фербратера.
Эти опасения мистер Булстрод не высказывал вслух с целью обмануть своих
ближних, он действительно так думал, он так же искренне считал наиболее
вероятным это истолкование событий, как вы, придя к иному мнению, убеждены
в вероятности вашей теории. Ибо если наши теории эгоистичны, из этого
совсем не следует, что они неискренни, скорее наоборот: чем больше мы
ублажаем наш эгоизм, тем тверже наша убежденность.
Как бы там ни было, но, то ли вследствие одобрения, то ли - кары свыше,
мистер Булстрод через год с небольшим после смерти Питера Фезерстоуна
сделался владельцем Стоун-Корта, и родственники бывшего владельца утешали
себя, строя многочисленные догадки, что сказал бы по такому поводу
покойный Питер, "буде он сподобился узнать об этом". Козни усопшего
обернулись против него же, и для Соломона Фезерстоуна не существовало
большего удовольствия, чем бесконечно рассуждать о том, как судьба
перехитрила его хитрого братца. Для миссис Уол источником меланхолического
утешения служило доказательство, что фабриковать фальшивых Фезерстоунов и
лишать наследства настоящих - занятие бесперспективное; а сестрица Марта,
когда вести достигли Меловой Долины, сказала: "Ох-ох-хо! Стало быть,
всевышний совсем не так уж одобряет богадельни".
Миссис Булстрод, любящая супруга, радовалась, что покупка Стоун-Корта
благотворно скажется на здоровье ее мужа. Редко выпадал день, когда бы он
не уезжал туда осмотреть то тот, то другой участок своей новой фермы, и
дивны были вечера в сельской тиши, напоенной запахом недавно убранного
сена, с которым смешивалось дыхание роскошного старинного сада. Однажды
вечером, когда солнце еще стояло над горизонтом и золотыми светильниками
горело в просветах между ветвями раскидистого орехового дерева, мистер
Булстрод остановил свою лошадь у ворот, поджидая Кэлеба Гарта, который,
как было условлено, встретился с ним тут, чтобы обсудить устройство стока
в конюшне, а сейчас отправился на ригу дать наставления управляющему.
Сельская тишь и царивший тут мирный покой привели мистера Булстрода в
превосходное расположение духа и навеяли несвойственную ему безмятежность.
Он сознавал, что он весьма недостойный христианин, но можно сознавать это
не испытывая боли, если ощущение своего несовершенства не принимает в
памяти отчетливых очертаний, не обжигает стыдом и не пронзает уколом
совести. Мало того, отвлеченное сознание своей греховности может стать
даже источником величайшего удовлетворения, если глубиной ее мы будем
поверять глубину отпущения, почитая себя орудием божественного промысла.
Память так же переменчива, как настроение, картины прошлого меняются,
словно в диораме. Мистеру Булстроду почудилось в этот миг, что закатное
солнце светит в точности так же, как в те вечера, когда он зеленым юнцом
проповедовал в окрестностях Хайбери. С какой охотой возвратился бы он
сейчас к благочестивым занятиям того времени. Тексты сохранились в памяти,
сохранилось и умение их истолковывать. Но тут его оторвало от грез
возвращение Кэлеба Гарта, который тоже был верхом и только тронул поводья,
собираясь повернуть от ворот вместе с Булстродом, как вдруг воскликнул:
- А это кто? Что еще за личность в черном шагает там по проселку? Я
видел этаких на скачках, подобные субъекты всегда шныряют там в толпе.
Мистер Булстрод повернул лошадь и посмотрел на проселок, но ничего не
ответил. Человека, который шагал по дороге, мы уже немного знаем, это
мистер Рафлс, чья внешность не претерпела никаких изменений, если не
считать того, что он носил теперь черный костюм и траурную ленту на шляпе.
Когда мистер Рафлс приблизился к воротам, лицо его оживилось; не спуская с
мистера Булстрода глаз, он энергически размахивал на ходу тростью и в
конце концов воскликнул:
- Ей-богу, это Ник! Ей же богу, Ник, хотя двадцать пять лет обошлись
весьма неблагосклонно с нами обоими! Как поживаешь, старина? Уж кого-кого,
а меня ты тут не ожидал. Ну что ж, поздороваемся.
Мистер Рафлс не просто был немного возбужден, он кипел от возбуждения.
Мистер Булстрод, как заметил Гарт, поколебался, но все же холодно протянул
Рафлсу руку, сказав:
- Я и впрямь не ожидал вас встретить на этой уединенной ферме.
- Принадлежащей моему пасынку, - ответствовал Рафлс и принял гордую
позу. - Я уже бывал у него здесь. А знаешь, я не особенно-то удивляюсь
тому, что встретил тебя, старина, мне, видишь ли, попало в руки одно
письмо... как ты сказал бы, волею провидения. И все же я рад до смерти,
что на тебя наткнулся. К пасынку можно и не заходить, он не особенно ко
мне привязан, а матушка его, увы, скончалась. По правде говоря, я приехал
лишь ради тебя, любимейший мой друг, намеревался разузнать твой адрес,
потому что... взгляни-ка! - Рафлс вытащил из кармана измятый лист бумаги.
Будь здесь на месте Кэлеба Гарта любой другой человек, он почти
наверняка поддался бы искушению замешкаться, дабы выяснить все, что
удастся, о человеке, как видно, знающем о таких событиях из жизни мистера
Булстрода, о каких и не догадывался никто в Мидлмарче, о делах, полных
таинственности и возбуждавших любопытство. Но не таков был Кэлеб - у него
почти отсутствовали наклонности, в немалой мере свойственные обычным
людям, в том числе и любопытство по поводу дел своих ближних. А уж если он
чувствовал, что может узнать нечто постыдное о человеке, Кэлеб и подавно
предпочитал оставаться в неведении; когда ему приходилось говорить
кому-нибудь из своих подручных о его проступке, он смущался больше, чем
сам провинившийся. Сейчас он пришпорил лошадь и, сказав: "Мне пора домой,
всего вам доброго, мистер Булстрод", рысцой потрусил прочь.
- Ты не указал в этом письме свой полный адрес, - продолжал Рафлс. -
Вот уж не похоже на такого образцового дельца, как ты. "Шиповник"... Это
где угодно можно встретить. Ты живешь где-то здесь неподалеку, верно? С
лондонскими делами расквитался начисто... может быть, стал помещиком...
приобрел усадьбу, куда и пригласишь меня в гости. Господи боже, сколько
лет прошло! Старуха небось давно уже скончалась, безмятежно удалилась в
райскую обитель, так и не узнав, как бедствует ее дочка, верно? Но что
это? Ты такой бледный, прескверный вид у тебя, Ник. Если ты едешь домой, я
провожу тебя.
Всегда бледное лицо мистера Булстрода и впрямь приобрело землистый
оттенок. Пять минут тому назад закатный свет, который озарял его идущий
под уклон жизненный путь, простирал свои лучи и на столь памятное до сих
пор утро жизни грех представлялся отвлеченным понятием, для искупления
которого вполне достаточно молчаливого раскаяния, самоуничижение -
действом, совершаемым втайне, а оценивать его поступки мог только он сам,
сообразуясь со своими понятиями о религии и о божественном промысле. И
вдруг, словно силою какого-то гнусного волшебства, перед ним вырос этот
краснолицый, громкоголосый призрак, цепкий и неуступчивый, - наследие
прошлого, не возникавшее в его представлениях о каре свыше. Впрочем,
мистер Булстрод уже прикидывал в уме, как быть, а необдуманные речи и
поступки не входили в его привычку.
- Я собирался домой, - сказал он. - Но могу немного отложить поездку.
Если угодно, отдохните тут.
- Благодарю, - поморщившись, ответил Рафлс. - Что-то у меня прошла
охота встречаться с пасынком. Я лучше провожу тебя домой.
- Ваш пасынок, если это мистер Ригг Фезерстоун, здесь больше не живет.
Ферма принадлежит теперь мне.
Рафлс вытаращил глаза и изумленно присвистнул, после чего сказал:
- Ну что же, в таком случае не стану спорить. Я и так уж досыта
нашагался по дорогам. Никогда не увлекался пешими прогулками, да и
верховой ездой. Мне больше по душе изящный экипаж и резвая лошадка. В
седле я чувствую себя не совсем ловко. Представляю, как ты рад, что я
нагрянул к тебе в гости, старина! - продолжал он, сворачивая вслед за
мистером Булстродом к дому. - Ты помалкиваешь, да ведь ты привык скрывать
радость, когда удача плывет тебе в руки... вот о руке наказующей ты всегда
говорил с жаром... загребать жар чужими руками ты мастер.
Восхищенный собственным остроумием, мистер Рафлс игриво брыкнул ногой,
чем окончательно вывел из терпения собеседника.
- Если мне не изменяет память, - с холодной яростью произнес мистер
Булстрод, - наши прерванные много лет тому назад отношения не отличались
такой короткостью, как вы стараетесь изобразить, мистер Рафлс. Желаемые
вами услуги будут оказаны охотнее, если вы оставите фамильярный тон, для
которого не служит основанием наше былое знакомство, едва ли сделавшееся
более близким после многолетнего перерыва.
- Тебе не нравится, что я зову тебя Ник? Но я всегда так называл тебя
мысленно, а с глаз долой совсем не значит, что из сердца вон. Богом
клянусь, мое дружеское расположение с годами стало крепче, как выдержанный
коньяк. Кстати, надеюсь, в доме таковой найдется. В прошлый раз, когда я
тут гостил, Джош доверху наполнил мою фляжку.
Мистер Булстрод все еще не осознал, что поиздеваться над ним Рафлсу
хочется даже больше, чем выпить, и что, обнаруживая перед ним свою досаду,
он только подливает масла в огонь. Зато он ясно понял, что спорить с
Рафлсом бесполезно, и со спокойным, решительным видом отдал распоряжение
экономке по поводу устройства гостя.
К тому же его успокаивала мысль, что экономка, прежде служившая у
Ригга, могла подумать, что Рафлс остановился у них в доме просто как
приятель прежнего владельца.
Когда в большую гостиную были принесены графин коньяку и закуска и
посетитель остался с хозяином наедине, мистер Булстрод сказал:
- У нас с вами настолько различные привычки, мистер Рафлс, что общество
друг друга едва ли доставит нам удовольствие. А потому умней всего нам как
можно скорее расстаться. Вы выразили желание встретиться со мной, из чего
я делаю вывод, что вы намерены заключить со мной какую-то сделку. Ввиду
особых обстоятельств я предлагаю вам переночевать в этом доме, а сам
вернусь рано утром еще до завтрака и выслушаю то, что вы имеете мне
сообщить.
- Сердечно рад, - ответил Рафлс, - у тебя весьма уютно... правда
скучновато, долго я бы тут не выдержал, но одну ночь, так и быть,
потерплю, вдохновленный этим славным напитком и надеждой на завтрашнюю
встречу с тобой. Ты гораздо гостеприимнее моего пасынка: Джош злится, что
я женился на его матери, с тобой же у меня всегда были самые дружеские
отношения.
Мистер Булстрод, подумав, что игривость и задиристость Рафлса в
значительной степени порождены возлияниями, решил не вступать с ним в
переговоры, пока гость не протрезвеет. И все-таки по дороге домой он с
пугающей ясностью представил себе, как трудно прийти с таким человеком к
соглашению, которого бы тот не нарушил. Он не мог подавить желание
избавиться от Джона Рафлса, хотя не исключал, что его неожиданное
появление определено свыше. Дух зла мог избрать Рафлса, дабы
воспрепятствовать мистеру Булстроду стать орудием божественного промысла,
но препятствие можно преодолеть, увидев в нем очередную разновидность кары
свыше. Как не похож был этот час мучительных раздумий на те часы, когда он
в безопасности вел с собой диспут, в результате которого пришел к выводу,
что его тайные прегрешения прощены, а служение принято. Ведь эти
прегрешения, даже когда он совершал их... не были ли они уже отчасти
освящены его искренним желанием посвятить себя и все ему принадлежащее
исполнению божественного промысла? Может ли он после этого считать себя
просто камнем преткновения и оплотом зла? Ибо кому дано понять силы,
побуждающие его действовать? Кого не соблазнит возможность очернить всю
его жизнь и истины, которые он защищает?
С юных лет у мистера Булстрода выработалась привычка приписывать свои
самые эгоистические побуждения вмешательству небесных сил. Однако даже
говоря и размышляя о земной орбите и солнечной системе, мы чувствуем и
движемся, сообразуясь с твердой землей и текущим днем. И вот в череду
плавно следующих друг за другом теоретических положений - так же явственно
откуда-то глубоко изнутри дают о себе знать во время отвлеченных
рассуждений о физических муках озноб и боль приближающейся лихорадки - в
его сознание вкралось предвидение бесчестья перед лицом ближних и жены.
Ибо боль, как и степень бесчестья, зависит от вашего восприятия. Если вы
всего-навсего стремитесь избежать уголовного преследования, ничто, кроме
скамьи подсудимых, не послужит для вас бесчестьем. Но мистер Булстрод
стремился стать образцовым христианином.
На следующее утро к половине восьмого он возвратился в Стоун-Корт.
Старинная усадьба никогда не выглядела так приветливо; пышно расцвели
огромные белые лилии, а настурции с красивыми, посеребренными росой
листиками, словно спасаясь бегством, карабкались по низкой каменной стене;
даже шорохи и шумы дышали покоем. Но прелесть усадьбы померкла в глазах ее
владельца, как только он ступил на гравий парадной аллеи и стал дожидаться
сошествия мистера Рафлса, на завтрак с которым был обречен.
Вскоре оба они сидели в гостиной и пили чай с тостами, поскольку Рафлс
не выразил желания позавтракать более плотно в столь ранний час. Вопреки
ожиданию своего собеседника, он не так уж сильно переменился за ночь, -
настроение у него испортилось, и, пожалуй, он с еще большим удовольствием
издевался над Булстродом. В утреннем свете мистер Рафлс производил явно
менее приятное впечатление.
- Не располагая избытком времени, мистер Рафлс, - сказал банкир,
который отхлебнул один лишь глоток чаю и, разломив тост, не притронулся к
нему, - буду признателен, если вы сообщите без отлагательств, по какому
поводу вы пожелали со мной встретиться. Думаю, у вас есть постоянное место
жительства и вам не терпится возвратиться домой.
- Да ведь не бесчувственный же я человек, захотелось повидать старого
друга, Ник... я уж буду называть тебя Ником - все мы называли тебя юным
Ником, когда прослышали, что ты надумал жениться на старой вдове.
Некоторые утверждали, что ты смахиваешь на Старого Ника (*150), вини в том
свою матушку, это ведь она нарекла тебя Никласом. Неужели ты не рад нашей
встрече? А я-то надеялся погостить у тебя в каком-нибудь милом особнячке.
В моем доме все пошло прахом после того, как скончалась жена. По сути
говоря, мне все равно где жить, я и тут согласен поселиться.
- Могу я узнать, почему вы возвратились из Америки? Я считал, что
выраженное вами непреодолимое желание отправиться туда после получения
соответствующей суммы равносильно обязательству не возвращаться.
- Отродясь не слыхивал, что если человек захотел куда-то поехать, это
значит, будто он хочет прожить там всю жизнь. Я и прожил около десяти лет
в Америке, пока не надоело. Но теперь уж я не возвращусь туда, Ник. - Тут
мистер Рафлс, подняв взгляд на Булстрода, хитровато ему подмигнул.
- Вы намерены заняться каким-нибудь делом? К чему вы испытываете
призвание?
- Призвание мое, благодарю, жить в свое полное удовольствие. Я теперь
обойдусь без работы. Разве что возьму на себя комиссию, скажем, по
табачной части, так, чтобы попутешествовать немного и провести время в
приятной компании. Но при этом я должен твердо знать, что человек я
независимый. Вот что мне требуется, силы у меня уже не те, хотя румянец
поярче твоего, дружище Ник. Мне требуется независимость.
- Вы можете рассчитывать и на независимость, если обязуетесь не
появляться более в наших краях, - сказал мистер Булстрод, которому,
пожалуй, не вполне удалось скрыть, как для него желателен такой исход.
- Я поступлю так, как сочту удобным, - холодно ответил Рафлс. - Не
знаю, почему бы мне не обзавестись в ваших краях кое-какими знакомствами.
Свое общество я ни для кого не считаю зазорным. Когда я вышел из почтовой
кареты, я оставил у заставы чемодан... там у меня смена белья,
настоящего... клянусь честью! Не одни манишки и манжеты. Дружба с
человеком в таком элегантном костюме с траурными лентами и всякой всячиной
возвысит тебя в глазах здешних светских господ. - Мистер Рафлс, отодвинув
свой стул от стола, оглядел себя, и в первую очередь штрипки. Его главной
целью было позлить Булстрода, но он и вправду думал, что его внешний вид
производит неотразимое впечатление и что он не только остроумен и красив,
но в траурном облачении выглядит человеком, принадлежащим к высшим кругам.
- Если вы хотите от меня чего-нибудь добиться, мистер Рафлс, -
помолчав, сказал Булстрод, - вам следовало бы считаться с моими желаниями.
- О, разумеется, - с комической любезностью воскликнул Рафлс. - Именно
так я всегда поступаю. При моей помощи ты провернул недурное дельце, а мне
что досталось? Лучше бы я рассказал старухе, что нашел ее дочку и внука,
думал я потом не раз, совесть бы тогда была спокойнее, ведь у меня не
каменное сердце. Но, полагаю, ты уже похоронил старуху и теперь ей все
равно. А ты нажил состояние на этом выгодном богоугодном дельце. Стал
важной птицей, купил землю и живешь тут по-барски. От прежней веры ты не
отступился? Благочестия не поубавилось? Или для солидности перешел в лоно
англиканской церкви?
Рожа, скроенная мистером Рафлсом, который хитровато подмигнул и высунул
язык, показалась мистеру Булстроду страшней кошмарного видения, ибо
неопровержимо свидетельствовала о бедствии, случившемся не во сне, а
наяву. Мистер Булстрод испытал мучительное отвращение и, не проронив ни
слова, прикинул в уме, не дать ли Рафлсу привести свои угрозы в
исполнение, после чего просто назвать его клеветником. Все вскоре
убедятся, что он сомнительная личность, и не придадут значения его словам.
"За исключением тех случаев, когда он будет рассказывать неприглядные
истины о тебе", - шепнула прозорливая совесть. И еще одно: не видя ничего
страшного в том, чтобы спровадить Рафлса в чужие края, мистер Булстрод не
мог без содрогания себе представить, как, отрицая подлинные факты, он тем
самым допустит явную ложь. Одно дело вспоминать об отпущенных ему грехах,
еще проще оправдывать свои поступки общим падением нравов, и совсем другое
- лгать сознательно.
Но поскольку Булстрод ничего не сказал, мистер Рафлс продолжал, дабы не
тратить попусту время:
- Мне, ей-богу, меньше твоего везло! Я порядком хлебнул горя в
Нью-Йорке. Эти янки большие ловкачи, и благородному человеку невозможно
иметь с ними дело. Вернувшись в Англию, я женился на милой женщине,
владелице табачной лавки... очень любила меня... но она мало занималась
торговлей. Когда-то, много лет назад, ее пристроил к делу один приятель,
но за эти годы почти все прибрал к рукам ее сын. Нам с Джошем никогда не
удавалось поладить. Впрочем, наступать себе на ногу я не давал, я привык к
изысканному обществу. У меня все как на ладони, все честно. Ты уж не
обижайся, что я раньше тебя не навестил. Болею, поворотливость не та. Я
думал, ты еще в Лондоне, ведешь торговлю да творишь молитву, но вот не
встретил тебя там. Сам видишь, Ник, я тебе послан... может быть, на благо
нам обоим.
Мистер Рафлс завершил свою речь комически-елейным тоном: религиозное
рвение всегда служило предметом его остроумия. И если лукавство,
воздействие которого направлено на низменные свойства человека, можно
назвать остротою ума, то мистер Рафлс был, пожалуй, неглуп, ибо
двусмысленные шуточки, которые он словно наобум выпаливал, следовали друг
за другом в строгой очередности, как шахматные ходы. Тем временем Булстрод
обдумал ответный ход и как можно решительнее сказал:
- Вам не мешало бы помнить, мистер Рафлс, что человеку, стремящемуся
незаконно воспользоваться своим преимуществом, не следует зарываться. Я
ничем вам не обязан, однако готов назначить вам ежегодную ренту и
выплачивать ее каждые три месяца до тех пор, пока вы не нарушите обещания
не появляться в наших краях. Выбор зависит от вас. Если вы непременно
захотите тут остаться, даже на короткий срок, вы ничего от меня не
получите. В таком случае я не желаю вас знать.
- Ха-ха! - воскликнул Рафлс, делая вид, что умирает от смеха. - В
точности как собачка одного вора, не желавшая знать полицейского.
- Ваши инсинуации не производят на меня впечатления, сэр, - с яростью
сказал Булстрод. - Я не считаюсь нарушителем закона, и ваше вмешательство
тут ничего не может изменить.
- Ты, любезнейший, не понимаешь шуток. Я просто-напросто имел в виду,
что я не в силах отказаться от знакомства с тобой. Впрочем, шутки в
сторону. Пенсия каждые три месяца мне не подходит. Я дорожу своей
свободой.
Мистер Рафлс встал и раза два гордо прошелся по гостиной, взбрыкивая
ногой и изображая глубочайшую задумчивость. Наконец, он остановился перед
Булстродом и произнес:
- Вот как мы поступим! Выложи две сотни фунтов - право же, умеренная
цена, - и я уеду, клянусь честью, возьму чемодан у заставы и уеду. Однако
я не согласен променять свою вольность на какую-то дрянную ренту. Я буду
приезжать и уезжать, когда мне заблагорассудится. Возможно, я сочту
удобным больше здесь не появляться и ограничиться дружеской перепиской, а
может быть, и нет. Деньги у тебя с собой?
- У меня только сто фунтов, - сказал Булстрод, обрадованный
перспективой немедленно избавиться от Рафлса, пусть даже на неопределенный
срок. - Если вы мне сообщите адрес, я тотчас вышлю остаток.
- Нет уж, я дождусь, пока ты привезешь его, - сказал Рафлс. - Я
прогуляюсь, потом перекушу, а тем временем ты возвратишься.
Булстрод, хилый от природы и еще больше ослабевший после перенесенных
за последние часы волнений, чувствовал себя сейчас в унизительной
зависимости от неуязвимого крикуна. Он был рад любой ценой добиться хоть
временной передышки. Он уже встал, намереваясь выполнять распоряжение
Рафлса, как вдруг последний, подняв вверх палец, словно его внезапно
осенило, сказал:
- Я тебе не говорил, но я ведь еще раз попробовал разыскать Сару; такая
молодая и красивая... совесть замучила меня. Я не нашел ее, зато узнал и
записал фамилию ее мужа. Но вот незадача - записную книжку потерял.
Правда, если я эту фамилию услышу, я ее вспомню. Голова у меня работает не
хуже, чем в молодости, только всякие там имена, будь они неладны, вылетают
из памяти. Иногда я точь-в-точь как ведомость сборщика налогов, в которой
не проставлены фамилии. Однако если я узнаю что-нибудь о ней или ее семье,
я сообщу тебе, Ник. Ты, наверное, захочешь ей помочь, падчерицей ведь тебе
приходится.
- Без сомнения, - ответил Булстрод со свойственным ему невозмутимым
выражением светло-серых глаз. - Хотя это, вероятно, вынудит меня сократить
сумму, предназначенную для уплаты вам.
Когда банкир вышел из комнаты, Рафлс с лукавым видом подмигнул ему
вслед, а затем обернулся к окну поглядеть, как отправляется в путь его
жертва. Его губы искривились в улыбке, потом он коротко и торжествующе
рассмеялся.
- Как же их фамилия, дьявол ее забери? - вполголоса проговорил он,
почесывая голову и сосредоточенно сдвинув брови. Он отнюдь не стремился
упражнять свою память, пока ему не пришло в голову поддразнить Булстрода
на новый лад.
- Начинается с буквы "Л", да она, кажется, чуть ли не из одних только
"л" состоит, - продолжал он, чувствуя, что вот-вот вспомнит увертливую
фамилию. Но предчувствие обмануло его, а умственные упражнения вскоре
утомили; мало кто испытывал такую неприязнь к одиночеству и так нуждался в
слушателях, как мистер Рафлс. Он предпочел провести время за приятной
беседой с управляющим и экономкой, от которых выведал все, что ему
хотелось знать о положении мистера Булстрода в Мидлмарче.
После этого ему, однако, пришлось поскучать, а для развлечения
прибегнуть к хлебу с сыром и элю, и, оставшись в гостиной с этими
припасами наедине, он внезапно хлопнул себя по колену и воскликнул:
"Ладислав!" Память бессознательно сработала как раз тогда, когда он
отказался от попыток оживить ее, как обычно и бывает, и, неожиданно
вспомнив забытое, даже ненужное имя, мы испытываем такое же глубокое
удовлетворение, как со вкусом чихнув. Рафлс тотчас вынул записную книжку и
вписал туда диковинную фамилию, не ожидая, что она когда-нибудь ему
пригодится, а просто на всякий случай. Он не собирался сообщать фамилию
Булстроду - пользы для себя он этим не мог извлечь, а люди его склада в
своих действиях всегда руководствуются возможностью извлечь пользу.
Он был доволен достигнутым успехом; к трем часам пополудни взял у
заставы свой чемодан и влез в дилижанс, избавив мистера Булстрода от
печальной необходимости лицезреть уродующее ландшафт его усадьбы черное
пятно, но не избавив его от опасения, что это черное пятно может появиться
вновь и даже превратиться в неотъемлемую принадлежность его домашнего
очага.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ВДОВА И ЖЕНА
54
В ее очах Амора откровенье.
Преображает все ее привет.
Там, где проходит, каждый смотрит вслед;
Ее поклон - земным благословенье.
Вздыхает грешник, шепчет он обет.
Гордыню, гнев ее изгонит свет;
О дамы, ей мы воздадим хваленье.
Смиренномудрие ее словам
Присуще, и сердца она врачует.
Блажен ее предвозвестивший путь.
Когда же улыбается чуть-чуть,
Не выразить душе. Душа ликует:
Вот чудо новое явилось вам!
Данте, "Новая жизнь"
В то восхитительное утро, когда скирды сена в Стоун-Корте с такой
беспристрастной щедростью источали благоухание, словно мистер Рафлс и
впрямь заслуживал воскурения фимиама, Доротея уже возвратилась под кровлю
Лоуик-Мэнора. За три месяца Фрешит порядком ей прискучил: она не могла
часами сидеть в позе святой Екатерины и восторженно любоваться ребенком
Селии, оставаться же безучастной к столь замечательному младенцу бездетной
тетке непозволительно. Появись в том нужда, Доротея с радостью бы пронесла
ребенка на руках хоть целую милю и только полюбила бы его еще сильнее, но
тетушке, не признающей, что ее племянник - Будда, и вынужденной, ничего не
делая, лишь восхищаться им, поведение дитяти представлялось однообразным,
а ее стремление созерцать его имело предел.
Ни о чем подобном не подозревала Селия, уверенная, что появление на
свет крошки Артура (малютку нарекли в честь мистера Брука) заполнило
радостью жизнь бездетной вдовы.
- Додо ведь не из тех, кто стремится иметь что-то свое... даже детей! -
сказала мужу Селия. - И если бы у нее и родился ребенок, то ведь не такая
душка, как Артур, да, Джеймс?
- Да, если бы он походил на Кейсобона, - сказал сэр Джеймс, сознавая,
что несколько уклончиво отвечает на вопрос и сохраняет особое мнение по
поводу совершенств своего первенца.
- Вот именно! Даже подумать страшно! - сказала Селия. - Додо, по-моему,
подходит быть вдовой. Нашего малютку она может любить как родного, и ей
никто теперь не помешает осуществлять все ее затеи.
- Жаль, что она не королева, - сказал рыцарственный сэр Джеймс.
- А кем тогда были бы мы? Ведь тогда бы и мы стали кем-то другими, -
возразила Селия, которой не понравился этот мудреный поворот фантазии. -
Нет, пусть все остается без перемен.
Поэтому, услышав, что Доротея собирается вернуться в Лоуик, Селия
обиженно подняла бровки и, как обычно, с невиннейшим видом пустила
шпильку:
- Чем ты займешься в Лоуике, Додо? Сама же говорила, что там нечего
делать: все арендаторы такие зажиточные и опрятные, хоть плачь. А тут у
тебя столько удовольствий - ходить с мистером Гартом по Типтону и
заглядывать во все дворы, даже самые запущенные. Теперь, когда дядя за
границей, вам с мистером Гартом совсем раздолье, а Джеймс, конечно,
сделает все, что ты велишь.
- Я стану часто приезжать, и мне еще заметней будет, как растет малыш,
- сказала Доротея.
- Но ты не сможешь видеть, как его купают, - возразила Селия, - а ведь
это самое лучшее, что у нас бывает.
Она почти всерьез обиделась: право же, Додо просто бесчувственная, если
по собственной воле расстается с малюткой.
- Киска, голубушка, я специально для этого буду оставаться ночевать, но
сейчас мне нужно пожить одной, в своем доме. К тому же я хочу покороче
познакомиться с семьей Фербратеров, а с мистером Фербратером потолковать о
том, что можно сделать в Мидлмарче.
Теперь Доротея уже не стремилась употреблять всю силу своего характера
на то, чтобы принудить себя покоряться чужой воле. Она рвалась всей душой
в Лоуик и не считала себя обязанной объяснять причины столь внезапного
отъезда. Ее решение вызвало общее недовольство. Глубоко обиженный сэр
Джеймс предложил на несколько месяцев переселиться всем семейством в
Челтенгем, прихватив и священный ковчег, именуемый также колыбелью; ну а
если уж и Челтенгем будет отвергнут, просто непонятно, что еще можно
предложить.
Вдовствующая леди Четтем, вернувшаяся недавно из Лондона, где гостила у
дочери, выразила готовность по крайней мере написать миссис Виго и
попросить ее взять на себя обязанности компаньонки при миссис Кейсобон:
мыслимо ли молодой вдове жить в одиночестве в деревне! Миссис Виго
случалось выступать в роли лектрисы и секретаря при особах королевской
фамилии, а по части образованности и утонченности чувств даже Доротея не
могла иметь к ней претензий.
Миссис Кэдуолледер сказала, оставшись наедине с Доротеей:
- Да вы, милочка, просто рехнетесь там от тоски. Вам станут мерещиться
призраки. Всем нам приходится делать над собой небольшие усилия, чтобы
сохранить рассудок и не расходиться во мнениях с окружающими нас людьми.
Для неимущих женщин и младших сыновей сумасшествие - своего рода
прибежище, способ пристроиться. Но вам-то это зачем? Как я догадываюсь,
вам несколько наскучила наша добрейшая вдовица, но представьте себе, какую
скуку вы сами нагоняли бы на всех, постоянно играя роль трагической
королевы и взирая на окружающих свысока. Уединившись в лоуикской
библиотеке, вы чего доброго вообразите себя центром вселенной. Вам было бы
полезно видеться по временам с людьми, которые не станут принимать на веру
каждое ваше слово. Это хорошее отрезвляющее средство.
- Я никогда не сходилась во мнениях с окружающими меня людьми, -
надменно ответила Доротея.
- Но я надеюсь, вы осознали свои заблуждения, милочка, - сказала миссис
Кэдуолледер, - а это доказательство здравости рассудка.
Колкость была замечена, но не задела Доротею.
- Нет, - ответила она. - Я по-прежнему считаю, что большинство людей
судят ошибочно очень о многом. Так что можно быть в здравом рассудке и ни
с кем не сходиться во мнениях, коль скоро чуть ли не весь свет то и дело
меняет свои мнения.
Миссис Кэдуолледер перестала спорить с Доротеей, но мужу сказала так:
- Ей следовало бы, когда приличия позволят, вторично выйти замуж, но
для этого ее нужно ввести в общество. Четтемы, конечно, будут против. А я
убеждена, что замужество пошло бы ей на пользу. Будь мы побогаче, я
пригласила бы к нам в гости лорда Тритона. Его когда-нибудь сделают
маркизом, и никто не может отрицать, что из миссис Кейсобон получится
образцовая маркиза: в трауре она еще красивей, чем всегда.
- Элинор, друг мой, оставь бедняжку в покое. Из твоих затей не выйдет
ровно ничего, - благодушно проговорил ее муж.
- Ничего не выйдет? Чтобы создать супружескую пару, всегда знакомят
женщину с мужчиной. Досадно, что ее дядюшка именно сейчас сбежал в Европу
и запер Типтон-Грейндж. Туда и во Фрешит надо было бы пригласить как можно
больше подходящих женихов. Лорд Тритон именно то, что ей требуется: у него
уйма планов, как осчастливить нацию, и все планы совершенно безумные. Для
миссис Кейсобон лучшей партии не сыскать.
- Пусть миссис Кейсобон сама выбирает себе жениха, Элинор.
- Вы, умники, вечно чушь городите. Как может она выбирать сама, если
выбирать ей не из кого? Избранник женщины - это обычно единственный
достижимый для нее мужчина. Помяни мое слово, Гемфри. Если о ней не
позаботятся родные, как бы ей не подвернулся кто-нибудь похуже Кейсобона.
- Боже тебя упаси упомянуть об этом при сэре Джеймсе, Элинор. Самая
щекотливая тема. Он до смерти обидится, если ты ее коснешься без особой
нужды.
- Я и не думала ее касаться, - сказала миссис Кэдуолледер и развела
руками. - Селия рассказала мне о завещании, не дожидаясь расспросов, в
первый же день.
- Так-то так, но сейчас им желательно, чтобы об этом как можно меньше
говорилось, к тому же, как я понял, молодой джентльмен уезжает из наших
краев.
На это миссис Кэдуолледер ничего не сказала, только трижды
многозначительно кивнула, и в ее темных глазах появилось саркастическое
выражение.
Невзирая на увещания и уговоры, Доротея мягко настояла на своем. К
концу июня в Лоуик-Мэноре распахнулись ставни всех окон, и утренний свет
безмятежно озарял библиотеку, поблескивая на корешках томов с записями
мистера Кейсобона, как блестит он в унылой пустыне на каменных глыбах,
безмолвных памятниках забытой религии; а напоенные ароматом роз вечера
тихо прокрадывались в зелено-голубой будуар, излюбленное прибежище
Доротеи. Она начала с того, что обошла все комнаты, перебирая в памяти
полтора года своей замужней жизни, и мысленно произносила целые речи,
словно продолжала спор с покойным мужем. Долгое время провела она в
библиотеке и не успокоилась до тех пор, пока не расположила все тома с
записями в таком порядке, который, по ее мнению, избрал бы мистер
Кейсобон. Жалость к мужу, принуждавшая ее быть сдержанной при его жизни,
владела ею и сейчас, даже когда она мысленно с негодованием укоряла его и
обвиняла в несправедливости. Один ее поступок, вероятно, вызвал бы улыбку
у людей рационального склада. Она аккуратно уложила в конверт тетрадь с
надписью "Сводное обозрение". Поручить миссис Кейсобон" и запечатала
вместе со следующей запиской: "Вы напрасно поручили мне это. Неужели Вы не
понимаете, что душа моя не может настолько подчиниться Вашей, чтобы я
посвятила себя делу, в которое не верю? Доротея". Конверт она спрятала в
ящик своего стола.
Этот безмолвный разговор не покажется несерьезным, если вспомнить, что
Доротея начала его и приводила все доводы под влиянием чувства,
являвшегося истинной причиной ее возвращения в Лоуик. Ей очень хотелось
встретиться с Уиллом Ладиславом. С какой целью - она сама не знала,
сделать что-либо для него было не в ее силах: связанная волей мужа, она не
могла исправить нанесенный Ладиславу ущерб, но всей душою жаждала с ним
встретиться. Могло ли быть иначе? Когда во времена волшебников принцесса
замечала в стаде четвероногое существо, которое к ней иногда приближалось,
умоляюще на нее взирая человеческими глазами, о чем она раздумывала,
совершая прогулку, чего ждала, когда мимо проходило стадо? Разумеется, она
ждала этого взгляда и сама его узнавала. Если бы минувшее уходило в
небытие, исчезая бесследно из сердца и памяти, наша жизнь стала бы не
более ценной, чем мишура, сверкающая при свечах и превращающаяся в мусор с
наступлением дня. Доротее и в самом деле хотелось покороче познакомиться с
семьей Фербратеров и, главное, встретиться и поговорить с новым
священником, но ей помнился также рассказ доктора о дружбе Ладислава со
старенькой мисс Ноубл, и она ждала, не наведается ли он к Фербратерам. В
первое же воскресенье, перед тем как войти в церковь, она явственно
увидела его точь-в-точь как в прошлый раз - одиноко сидящим на скамье
священника, но когда она вошла в церковь, скамья оказалась пустой.
По будням, навещая семейство Фербратеров, она тщетно прислушивалась, не
проронит ли хоть одна из дам словечко об Уилле Ладиславе, но миссис
Фербратер, казалось, была готова говорить обо всех жителях округи за одним
исключением.
- Возможно, некоторые из прежних прихожан мистера Фербратера иногда
будут приезжать на его проповеди в Лоуике. Как вы думаете? - сказала
Доротея, презирая себя за то, что задает этот вопрос с тайной целью.
- Если у них есть разум, то будут, - ответила старая дама. - Я вижу, вы
отдаете должное моему сыну. Его дед, мой отец, был превосходный священник,
супруг же мой занимался адвокатурой... Что не мешало ему сохранять
безукоризненную честность - причина, по которой мы не стали богаты.
Говорят, что судьба - женщина, и при этом капризная. Но по временам она
бывает доброй женщиной и воздает достойным по заслугам. Так, например,
случилось, когда вы, миссис Кейсобон, предложили этот приход моему сыну.
Миссис Фербратер вновь принялась за вязание, весьма довольная своей
маленькой речью, но совсем иное хотелось бы услышать Доротее. Бедняжка!
Она не знала даже, по-прежнему ли Уилл Ладислав живет в Мидлмарче, и не
посмела бы спросить об этом никого, кроме Лидгейта. Однако именно сейчас
она смогла бы повидаться с Лидгейтом, только специально послав за ним или
сама отправившись его разыскивать. Возможно, Уилл Ладислав, узнав об
оскорбительной для него приписке к завещанию ее мужа, решил, что им больше
не нужно встречаться, и, быть может, она не права, ища встречи, которая
представляется всем ее близким излишней. И все же неизменное "мне этого
хочется" завершало все ее благоразумные рассуждения столь же
непроизвольно, как прорывается наружу тщетно сдерживаемый плач. Им и
впрямь довелось встретиться, но разговаривали они принужденно и сухо, чего
никак не ожидала Доротея.
Однажды утром около одиннадцати Доротея сидела в будуаре, разложив
перед собой карту поместья и прочие бумаги, которые намеревалась изучить,
чтобы составить представление о положении своих дел и доходе. Она еще не
приступала к работе и сидела, сложив руки на коленях и глядя на луга,
раскинувшиеся вдали за липовой аллеей. Сияло солнце, ни один листок не
шевелился, знакомый ландшафт выглядел столь же неизменным, каким
представлялось Доротее ее будущее существование, бесцельное и полное
покоя... бесцельное, если только она сама не найдет, на что излить свою
кипучую энергию. Вдовий чепец, сшитый по моде тех времен, окружал ее лицо
овальной рамкой и увенчивался стоячей оборкой на маковке. Черное платье,
на которое не пожалели крепа, воплощало глубочайший траур, но суровая
торжественность одежды еще больше оттеняла свежесть молодого лица и
пытливую бесхитростность взгляда.
Ее вывело из задумчивости появление Тэнтрип, пришедшей доложить, что
мистер Ладислав внизу и просит разрешения повидать госпожу, если не
слишком рано.
- Я приму его, - сказала Доротея, тотчас встав, - проводите его в
гостиную.
Из всех комнат в доме гостиная менее всего напоминала ей о тяготах ее
супружеской жизни - на узорчатой ткани обоев красиво выделялась белая с
золотом мебель; в комнате было два высоких зеркала, пустые столы... иными
словами, гостиная была одной из тех комнат, в которых совершенно
безразлично, где сидеть. Она находилась под будуаром, и в ней также
имелось окно-фонарь, выходившее на липовую аллею. Когда Прэтт проводил
Уилла Ладислава в гостиную, окно было открыто и незваные крылатые гости,
которые по временам с жужжанием влетали в комнату, придавали ей обитаемый
и менее официальный вид.
- Рад снова видеть вас здесь, сэр, - сказал Прэтт, задержавшись, чтобы
поправить штору.
- Я пришел только попрощаться, Прэтт, - сказал Уилл, желая известить
даже дворецкого, что гордость не позволяет ему увиваться вокруг миссис
Кейсобон, когда она стала богатой вдовой.
- Очень печально слышать это, сэр, - сказал Прэтт и удалился.
Поскольку прислугу не полагалось посвящать в господские дела, Прэтт,
разумеется, уже был наслышан об обстоятельстве, о котором ничего не ведал
Ладислав, и пришел к определенным выводам. Он, собственно, был согласен со
своей невестой Тэнтрип, заявившей:
- Твой хозяин был ревнив, как бес, и, к слову, напрасно. Не такого
полета птица мистер Ладислав, чтобы хозяйка до него снизошла, уж я-то ее
знаю. Горничная миссис Кэдуолледер говорит, сюда едет какой-то лорд, чтобы
на ней жениться, когда окончится траур.
Уиллу не пришлось в ожидании Доротеи долго расхаживать по комнате со
шляпой в руке. Эта встреча очень отличалась от их первой встречи в Риме,
когда Уилл был охвачен смущением, а Доротея спокойна. На сей раз глубоко
удрученный Уилл был, однако, полон решимости, зато Доротея не могла скрыть
волнения. Перед самым порогом гостиной она ощутила, как нелегка для нее
будет долгожданная беседа, и, когда Уилл к ней приблизился, мучительно
покраснела, что случалось с ней не часто. Сами не зная почему, они оба
молчали. Доротея на мгновение протянула ему руку, затем они сели друг
против друга у окна, на маленьких козетках. Уилл чувствовал себя крайне
неловко: ему трудно было предположить, что Доротея так к нему переменилась
лишь потому, что овдовела. Казалось бы, ничто не могло повлиять на ее
отношение к нему... разве только - эта мысль возникла сразу - родственники
внушили ей дурное мнение о нем.
- Надеюсь, вы не считаете мой визит непозволительной вольностью, -
сказал Уилл. - Покидая эти края и вступая в новую жизнь, я не мог не
попрощаться с вами.
- Вольностью? Конечно, нет. Вы огорчили бы меня, если бы не пожелали со
мной проститься, - ответила Доротея, чья привычка говорить с предельной
искренностью возобладала над неуверенностью и волнением. - И скоро вы
едете?
- Думаю, очень скоро. Я намерен изучить юриспруденцию в столице,
поскольку, как я слышал, это единственный путь к общественной
деятельности. В ближайшее время на политическом поприще предстоит сделать
многое, и я намерен внести свою лепту. Некоторым людям удается достичь
высокого положения, не имея ни связей, ни денег.
- И это еще больше их возвышает, - с жаром сказала Доротея. - К тому же
у вас столько дарований. Дядя рассказывал, какой вы прекрасный оратор, что
ваши речи можно слушать без конца и как отлично вы умеете объяснить все
непонятное. К тому же вы добиваетесь справедливости для всех людей. Это
меня радует. Когда мы встречались в Риме, мне казалось, вас занимает
только поэзия, искусство и все иное, украшающее жизнь обеспеченных людей,
таких как мы. И вот я узнаю, что вас заботит участь всего человечества.
Говоря это, Доротея преодолела смущение и стала такой, как всегда. Она
смотрела на Уилла полным восхищения, доверчивым взглядом.
- Значит, вы довольны, что я уезжаю на многие годы и вернусь, только
добившись положения в свете? - спросил Уилл, в одно и то же время усиленно
стараясь не уронить своего достоинства и растрогать Доротею.
Она не заметила, как долго ему пришлось ждать ответа. Отвернувшись к
окну, она смотрела на розовые кусты, и ей виделись в них долгие - из лета
в лето - годы, которые она проведет здесь в отсутствие Уилла. Опрометчивое
поведение. Но Доротея не привыкла думать о том, как она ведет себя, она
думала только о том, как печальна предстоящая разлука с Уиллом. Когда в
начале разговора он рассказал о своих планах, ей показалось, что она все
понимает: Уилл знает, решила она, о последнем распоряжении мистера
Кейсобона и потрясен им так же, как она сама. Он испытывает к ней лишь
дружеские чувства, он и не помышлял ни о чем таком, что могло дать
основание ее мужу так оскорбить их обоих; эти дружеские чувства он
испытывает к ней и сейчас. Подавив беззвучное рыдание, Доротея проговорила
ясным голосом, который дрогнул под конец, - так он был слаб и мягок:
- Я думаю, вы приняли правильное решение. Я счастлива буду узнать, что
вы добились признания. Но будьте терпеливы. Оно, возможно, придет не
скоро.
Уилл не мог понять, как он удержался от того, чтобы не упасть к ее
ногам, когда нежно дрогнувший голос вымолвил: "не скоро". Впоследствии он
говорил, что мрачный цвет и изобилие траурного крепа на ее платье,
очевидно, помогли ему обуздать этот порыв. Он не шелохнулся и сказал:
- Я ничего не буду знать о вас. А вы меня забудете.
- Нет, - сказала Доротея. - Я никогда вас не забуду. Я не забываю
людей, с которыми меня свела судьба. Моя жизнь бедна событиями и едва ли
изменится. Чем еще заниматься в Лоуике, кроме как вспоминать да
вспоминать, ведь правда?
Она улыбнулась.
- Боже милостивый! - не выдержав, вскрикнул Уилл, встал, все еще держа
в руке шляпу, подошел к мраморному столику и, внезапно повернувшись,
прислонился к нему спиной. Кровь прихлынула к лицу и шее Уилла, казалось,
он чуть ли не взбешен. У него возникло впечатление, что они оба медленно
превращаются в мрамор и только сердца их живы и глаза полны тоски. Но
выхода он не видел. Что она о нем подумает, если он, с отчаянной
решимостью шедший сюда прощаться, закончит разговор признанием, из-за
которого его могут счесть охотником за приданым? Мало того, он не на шутку
опасался, что такое признание произведет неблагоприятное впечатление и на
Доротею.
Она встревоженно всматривалась в него, испугавшись, не обидела ли его.
А тем временем ей не давали покоя мысли, что ему, наверное, нужны деньги,
и она не в состоянии ему помочь. Если бы хоть дядюшка остался здесь, можно
было бы обратиться к нему за содействием! Терзаясь мыслью, что Уилл
нуждается в деньгах, а ей досталась причитающаяся ему доля, и видя, как
упорно он отворачивается и молчит, она предложила:
- Я подумала, не захотите ли вы взять миниатюру, что висит наверху...
ту великолепную миниатюру, где изображена ваша бабушка. Если у вас есть
желание ее иметь, мне кажется, я не вправе оставлять ее у себя. Она
поразительно на вас похожа.
- Вы очень любезны, - раздражительно ответил Уилл. - Нет, я не
испытываю такого желания. Не так уж утешительно иметь при себе
изображение, которое на тебя похоже. Гораздо утешительнее, если его хотят
иметь другие.
- Я подумала, что вам дорога ее память... я подумала... - тут Доротея
осеклась, решив не касаться истории тетушки Джулии, - право же, вам
следовало бы взять эту миниатюру как семейную реликвию.
- Зачем мне брать ее, когда у меня ничего больше нет? Человек, все
имущество которого помещается в чемодане, должен хранить в памяти семейные
реликвии.
Уилл сказал это не думая, просто не сдержал раздражения - кто не
вспылит, если в такую минуту тебе предлагают бабушкин портрет. Но Доротею
больно задели его слова. Она встала и, сдерживая гнев, холодно
проговорила:
- Вы гораздо счастливее меня, мистер Ладислав, именно потому, что у вас
ничего нет.
Уилл испугался. Тон, которым это было произнесено, ясно указывал, что
ему больше нечего здесь делать. Выпрямившись, он направился к Доротее. Их
взгляды встретились, вопросительно и печально. Им не удавалось объясниться
откровенно, и они могли только строить догадки о мыслях друг друга. Уилл,
которому не приходило в голову, что он имеет право на полученное Доротеей
наследство, не сумел бы без посторонней помощи понять чувства, владевшие
ею в эту минуту.
- До сих пор меня не огорчала моя бедность, - сказал он. - Но она
делается хуже проказы, если разлучает человека с тем, что для него всего
дороже.
У Доротеи сжалось сердце, и ее негодование утихло. Она ответила
сочувственно и грустно:
- Беда приходит разными путями. Два года назад я не подозревала об
этом... не знала, как неожиданно может нагрянуть горе, как оно связывает
тебе руки и заставляет молчать, хотя слова рвутся наружу. Я даже презирала
женщин за то, что они не пытаются изменить свою жизнь и не стремятся к
лучшему. Мне очень нравилось поступать по-своему, но от этого занятия я
почти отказалась, - весело улыбаясь, закончила она.
- Я не отказался, но мне редко приходится поступать по-своему, - сказал
Уилл. Он стоял в двух шагах от нее, обуреваемый противоречивыми
стремлениями и желаниями... ему хотелось заручиться неопровержимым
доказательством ее любви, и он с ужасом представлял себе, в каком
положении окажется, получив такое доказательство. - Бывает так, что мы не
можем добиться самого желанного для нас, ибо преграды непреодолимы,
оскорбительны.
Вошел Прэтт и доложил:
- Сэр Джеймс Четтем дожидается в библиотеке, сударыня.
- Попросите сэра Джеймса сюда, - немедленно сказала Доротея.
И Доротею, и Уилла в этот миг словно пронизало электрическим током. В
обоих запылала гордость, и, не глядя друг на друга, они ждали сэра
Джеймса.
Пожав руку Доротее, сэр Джеймс нарочито небрежно кивнул Ладиславу,
который с такой же мерой небрежности ответил на кивок, а затем подошел к
Доротее и сказал:
- Должен проститься с вами, миссис Кейсобон, и, вероятно, надолго.
Доротея протянула в ответ руку и сердечно с ним попрощалась.
Пренебрежительное и невежливое обращение сэра Джеймса с Уиллом задело ее
самолюбие и вернуло ей решительность и твердость; от ее замешательства не
осталось ни следа. А когда Уилл вышел из комнаты, она с таким спокойным
самообладанием взглянула на сэра Джеймса, спросив: "Как Селия?", что он
вынужден был скрыть досаду. Да и что было толку ее обнаруживать?
Представить себе Ладислава в роли возлюбленного Доротеи сэру Джеймсу было
столь неприятно, что он предпочел скрыть свое недовольство и тем самым
отмести возможность подобных предположений. Если бы кто-нибудь спросил,
что именно его так ужасает, очень вероятно, что на первых порах он бы не
дал более полного и внятного ответа, чем нечто вроде "этот Ладислав!"...
хотя, поразмыслив, возможно, сослался бы на приписку к завещанию
Кейсобона, которая, предусматривая для Доротеи особую кару, если она
вздумает выйти замуж за Уилла, делала недопустимыми любые отношения между
ними. Ощущение собственного бессилия только увеличивало его антипатию к
Уиллу.
Сэр Джеймс и не догадывался о важности своей роли. Он вошел в гостиную
как олицетворение сил, побуждающих Уилла расстаться с Доротеей, дабы не
уронить свою гордость.
55
В ней есть изъян? Когда б он был у вас!
Изъян - вина прекрасного броженье,
Изъян - всеочищающий огонь.
Преображающий густую тверди тьму
В хрустальный путь сияющего солнца.
Если молодость называют порой надежд, то часто только потому, что
молодое поколение внушает надежды старшему; ни в каком возрасте, кроме
юности, люди не бывают так склонны считать неповторимым и последним любое
чувство, решение, разлуку. Каждый поворот судьбы представляется им
окончательным лишь потому, что он для них в новинку. Говорят, пожилые
перуанцы так и не приобретают привычки хладнокровно относиться к
землетрясениям, но, вероятно, они допускают, что за очередным толчком
последуют и другие.
Для Доротеи, еще не пережившей ту пору юности, когда опушенные длинными
ресницами глаза, омывшись ливнем слез, сохраняют чистоту и свежесть,
только что раскрывшегося цветка, прощание с Уиллом знаменовало полный
разрыв отношений. Он уезжает бог весть на сколько лет и, если когда и
вернется, то уже совсем иным. Ей неведомо было его истинное умонастроение
- гордая решимость не позволить никому заподозрить в нем корыстного
авантюриста, домогающегося благосклонности богатой вдовы, - и перемену в
его обращении Доротея объяснила тем, что Уилл, как и она сама, счел
приписку к завещанию мистера Кейсобона грубым и жестоким запретом,
наложенным на их дружбу. Никому, кроме них двоих, не интересные беседы,
которыми они наслаждались со всем восторженным пылом молодости, навеки
отошли в прошлое, став драгоценным воспоминанием. И она предалась
воспоминаниям, не сдерживаясь более. В этом горьком наслаждении тоже не
было ни проблеска надежды, и Доротея погрузилась в его сумрачную глубину,
без слез выплакивая боль. Она сняла со стены миниатюру, чего никогда не
делала прежде, и держала перед собой, упиваясь сходством между этой
женщиной, в свое время так же безжалостно осужденной людьми, и ее внуком,
осуждению которого она противилась и сердцем и умом. Сможет ли кто-нибудь,
согретый нежностью женского сердца, упрекнуть ее за то, что она держала на
ладони овальную миниатюру и прижималась к ней щекой, словно надеясь таким
образом утешить безвинно осужденных? Она тогда еще не знала, что это
Любовь посетила ее, как озаренный отблеском рассвета краткий сон накануне
пробуждения, - что это Любовь свою оплакивала она, когда таял перед ее
взором милый образ, изгоняемый суровой явью дня. Она только чувствовала,
что ее судьба непоправимо изменилась, утрачено нечто важное, и еще более
отчетливо, чем прежде, представляла себе свое будущее. Люди с пылким
сердцем в поисках непроторенного пути нередко посвящают жизнь
осуществлению своих призрачных замыслов.
Однажды, когда Доротея наведалась во Фрешит, согласно обещанию
намереваясь там переночевать и присутствовать при купании дитяти, к обеду
явилась миссис Кэдуолледер, чей супруг отправился на рыбную ловлю. Стоял
теплый вечер, и даже в уютной гостиной, из распахнутого окна которой
открывался вид на пологий зеленый берег заросшего лилиями маленького пруда
и яркие клумбы, была такая духота, что Селия, порхающая по комнате в белом
кисейном платьице и с непокрытой кудрявой головкой, призадумалась, каково
же приходится ее сестре во вдовьем чепце и траурном платье. Правда, мысль
эта возникла лишь после того, как кончилась возня с младенцем, и Селия
могла себе позволить думать о постороннем. Она немного посидела,
обмахиваясь веером, затем проворковала:
- Додо, душечка, сними чепец. Как тебе только дурно не делается в таком
наряде!
- Я привыкла к этому чепцу, он для меня все равно что раковина для
улитки, - с улыбкой отозвалась Доротея. - Без него я чувствую себя
неловко, как раздетая.
- Нет, душечка, его необходимо снять: на тебя смотреть и то жарко, -
сказала Селия и, положив веер, подошла к Доротее. Очаровательное зрелище
являла собой эта юная мать в белом кисейном платье, когда, сняв чепец с
высокой, более осанистой сестры, бросила его на кресло. В тот миг, когда
темно-каштановые косы упали, распустившись, на плечи Доротеи, в комнату
вошел сэр Джеймс. Он взглянул на освобожденную от неизменного убора
головку и удовлетворенно сказал: "О!"
- Это я сняла его, Джеймс, - сообщила Селия. - Додо совсем не нужно так
рабски блюсти траур. Вовсе незачем ей носить чепец в кругу семьи.
- Селия, дружок мой, - возразила леди Четтем. - Вдове положено носить
траур по крайней мере год.
- Если она не выйдет за это время замуж, - сказала миссис Кэдуолледер,
любившая иногда ужаснуть подобными высказываниями свою добрую
приятельницу, вдовствующую леди.
Раздосадованный сэр Джеймс, нагнувшись, принялся играть с болонкой
Селии.
- Надеюсь, это бывает весьма редко, - сказала леди Четтем тоном,
предостерегающим от таких крайностей. - Кроме миссис Бивор, никто из наших
родственников не вел себя подобным образом, и лорд Гринзел очень
огорчился, когда она так поступила. Ее первый брак не был удачным, тем
более странно, что она поспешила замуж вторично. Расплата оказалась
жестокой. Говорят, капитан Бивор таскал ее за волосы и целился в нее из
заряженного пистолета.
- Значит, плохо выбирала! - сказала миссис Кэдуолледер, в которую
словно какой-то бес вселился. - Если плохо выбрать мужа, брак не может
быть удачным, не важно, первый он или второй. Не особая заслуга быть
первым мужем у жены, если заслуга эта - единственная. Я предпочла бы
хорошего второго мужа плохонькому первому.
- Ради красного словца вы чего только не наговорите, моя милая, -
сказала леди Четтем. - Не сомневаюсь, что уж вы-то не стали бы
преждевременно вступать в брак, если бы скончался наш милейший мистер
Кэдуолледер.
- О, я зароков не даю, а что, если иначе не сведешь концов с концами?
Закон, по-моему, не запрещает выходить замуж второй раз, мы все же
христиане, а не индусы. Разумеется, если женщина сделала неудачный выбор,
ей приходится мириться с последствиями, а те, кто совершает подобную
оплошность дважды, не заслуживают лучшей участи. Но если жених родовит,
красив, отважен - с богом, чем скорей, тем лучше.
- Я думаю, мы неудачно выбрали тему разговора, - недовольно произнес
сэр Джеймс. - Что, если нам ее переменить?
- Из-за меня не стоит, - сказала Доротея, сочтя момент удобным для
того, чтобы отвести туманные намеки по поводу блестящих партий. - Если вы
хлопочете ради меня, то уверяю вас, трудно найти вопрос, который волновал
бы меня меньше, нежели замужество. Он занимает меня в той же мере, как
разговор о женщинах, принимающих участие в охоте на лисиц: ими можно
восхищаться, но их примеру я не последую. Так пусть же миссис Кэдуолледер
развлекается этим предметом, если для нее он интереснее других.
- Любезнейшая миссис Кейсобон, - сказала леди Четтем самым
величественным своим тоном, - вы, надеюсь, не подумали, что, упоминая
миссис Бивор, я намекала на вас. Мне просто вспомнился этот случай. Она
была падчерицей лорда Гринзела, женатого вторым браком на миссис Теверой.
К вам это не имеет ни малейшего отношения.
- Ну, конечно, - сказала Селия. - Мы совершенно случайно начали этот
разговор - из-за чепца Додо. А миссис Кэдуолледер говорит чистую правду.
Во вдовьем чепце не выходят замуж, Джеймс.
- Тс-с, милочка, - сказала миссис Кэдуолледер, - теперь я буду
осмотрительнее. Я даже не стану поминать Дидону и Зенобию (*151). Только
вот о чем нам разговаривать? Я, к примеру, не позволю обсуждать природу
человеческую, коль скоро это природа и жен священников.
Вечером, после отъезда миссис Кэдуолледер, Селия сказала, оставшись с
Доротеей наедине:
- Право, Додо, как только я сняла с тебя чепец, ты стала такой, как
прежде, и не только по наружности. Сразу же заговорила точь-в-точь, как в
те времена, когда тебя так и тянуло со всеми спорить. Я только не поняла,
Джеймсу ты возражала или миссис Кэдуолледер.
- Ни ему, ни ей, - сказала Доротея. - Джеймс стремился пощадить мои
чувства, но он ошибся, думая, что меня встревожили слова миссис
Кэдуолледер. Я встревожилась бы лишь в том случае, если бы существовал
закон, обязывающий меня выйти замуж за образчик родовитости и красоты,
который мне предложит эта дама или кто-либо другой.
- Это так, только знаешь, Додо, если все же ты выйдешь замуж, то лучше
уж за родовитого и красивого, - сказала Селия, у которой мелькнула мысль,
что мистер Кейсобон не был щедро наделен этими достоинствами, а потому не
мешало бы на сей раз заблаговременно предостеречь Доротею.
- Успокойся, Киска, у меня совсем другие планы. Замуж я больше не
пойду, - сказала Доротея, тронув сестру за подбородок и с ласковой
нежностью глядя на нее. Селия укладывала младенца, и Доротея зашла к ней
пожелать спокойной ночи.
- В самом деле никогда? - спросила Селия. - Ни за кого на свете, даже
если он будет само совершенство?
Доротея медленно покачала головой.
- Ни за кого на свете. У меня замечательные проекты. Я намереваюсь
осушить обширный участок земли и основать небольшую колонию, где все будут
трудиться, и непременно - добросовестно. Я буду знать там каждого, я стану
их другом. Только сперва необходимо все подробно обсудить с мистером
Гартом, он может рассказать мне очень многое из того, что я хочу узнать.
- Ну, если у тебя есть проект, ты будешь счастлива, Додо, - сказала
Селия. - Может быть, маленькому Артуру, когда он вырастет, тоже понравится
составлять проекты, и он станет тебе помогать.
Тем же вечером сэра Джеймса известили, что Доротея и впрямь твердо
решила не выходить больше замуж и намерена посвятить себя "всяческим
проектам", наподобие тех, какие замышляла прежде. Сэр Джеймс на это ничего
не сказал. В глубине души он испытывал отвращение к женщинам, вступающим
вторично в брак, и сватовство любого жениха, домогающегося руки Доротеи,
представлялось ему кощунством. Он понимал, что это чувство выглядит нелепо
в глазах света, в особенности когда речь идет о женщине двадцати лет; свет
на вторичное замужество молодой вдовы смотрит как на дело вполне
дозволенное, с которым, пожалуй, не следует медлить, и понимающе
улыбается, когда вдова поступает соответственно. Однако если бы Доротея
предпочла остаться одинокой, этот выбор более приличествовал бы ей.
56
Взгляните, сколько счастлив тот,
Кто не слуга ни у кого:
Правдивый ум - его оплот,
И честность - ремесло его.
Не знает жажды славы он
И пред опалой не дрожит.
Пускай именья он лишен -
Он сам себе принадлежит.
Генри Уоттон (*152)
Доверие, которым прониклась Доротея к познаниям Кэлеба Гарта, узнав,
что он одобрительно отозвался о ее домах, возросло еще сильней, когда во
время ее пребывания во Фрешите сэр Джеймс уговорил ее объехать вместе с
ним и Кэлебом оба поместья, после чего Кэлеб, преисполнившись столь же
глубоким почтением к ней, сказал жене, что миссис Кейсобон обладает
поразительным для женщины деловым складом ума. Вспомним, что под словом
"деловой" Кэлеб разумел не коммерческие таланты, а умелое приложение
труда.
- Поразительным! - повторил Кэлеб. - Она высказала одну мысль, которая
и мне не давала покоя, когда я еще был молодым пареньком. "Мистер Гарт, -
сказала она, - я буду спокойнее чувствовать себя на старости лет, если в
течение своей жизни осушу и сделаю плодородным большой участок земли и
выстрою на нем множество хороших домов, ибо труд этот полезен тем, кто его
будет выполнять, а результаты принесут людям благо". Именно так она
сказала, таковы ее взгляды.
- Они, надеюсь, не лишают ее женственности, - сказала миссис Гарт,
заподозрив, что миссис Кейсобон не придерживается подобающих даме
принципов субординации.
- Она необыкновенно женственна, - ответил Кэлеб, встряхнув головой. -
Ты бы послушала, как она разговаривает, Сьюзен. Самыми простыми словами, а
голос словно музыка. Боже милостивый! Будто слушаешь "Мессию" (*153) и
"тотчас явилось воинство небесное, восхваляя господа и говоря". Звук ее
голоса ласкает слух.
Кэлеб очень любил музыку и, когда ему выпадала возможность прослушать
какую-нибудь ораторию, возвращался домой полный глубокого преклонения
перед этим монументальным сооружением из звуков и тонов и сидел в
задумчивости, глядя в пол и держа пространные, беззвучные речи,
обращенные, по всей видимости, к собственным ладоням.
При такой общности взглядов неудивительно, что Доротея попросила
мистера Гарта взять на себя ведение всех дел, связанных с тремя фермами и
множеством входящих в Лоуик-Мэнор участков арендуемой земли. Короче
говоря, надежда Кэлеба трудиться в обоих поместьях теперь осуществилась.
"Дело ширилось", употребляя его же слова. Ширились разные дела, и самым
новым из них была постройка железных дорог. Согласно проекту, колею
намеревались проложить по землям Лоуикского прихода, где паслась скотина,
чей покой дотоле не смущали новшества; так случилось, что рождение
железных дорог проникло в сферу деятельности Кэлеба Гарта и определило
жизненный путь двоих участников нашей истории, особо близких его сердцу.
Проложить подводную железную дорогу, вероятно, оказалось бы непросто,
однако дно морское не разделено между множеством землевладельцев,
требующих возмещения всяческих ущербов, в том числе и нематериальных. В
Мидлмарче постройку железной дороги обсуждали с таким же волнением, как
билль о реформе и ужасы холеры, причем самых крайних точек зрения
придерживались женщины и землевладельцы. Женщины, как старые, так и
молодые, почитали путешествие по железной дороге делом опрометчивым и
небезопасным, а их главным доводом служило утверждение, что они ни в коем
случае не согласятся сесть в вагон; доводы землевладельцев рознились между
собой не в меньшей мере, чем Соломон Фезерстоун и лорд Медликоут, впрочем,
все единодушно придерживались мнения, что, продавая землю врагу ли рода
людского или железнодорожным компаниям, владельцы поместий должны
потребовать с них как можно больше денег за наносимый человечеству ущерб.
Тугодумам наподобие мистера Соломона и миссис Уол, живущим на
собственной земле, потребовалось много времени, чтобы сделать этот вывод;
если воображение весьма живо рисовало им, как Большое пастбище разрезано
пополам и противоестественным образом превращено в два треугольных выгона,
то все, что касалось до строительства мостов и прибылей, представлялось им
далеким и маловероятным.
- Все коровы, братец, начнут выкидывать телят - заявила миссис Уол с
глубокой скорбью, - если эту колею проложат через Ближний выгон. То же
самое может случиться и с кобылой. Хорошенькое дело, когда имущество
бедной вдовы расковыряют да раскидают лопатами и закон ее не защитит.
Доберутся до моей земли, да и пойдут кромсать ее как вздумается, и кто им
воспрепятствует? Все знают: я за себя постоять не могу:
- Лучше всего было бы ничего им не говорить, а поручить кому-нибудь
отвадить их хорошенько, когда они тут все вымеряли и шпионили, - сказал
Соломон. - По-моему, так сделали в Брассинге. Я уверен, это выдумки, что,
мол, им больше негде прокладывать дорогу. Копали бы в другом приходе. Да
разве можно возместить ущерб, после того как шайка головорезов вытопчет
весь урожай на твоем поле! Разве такая компания раскошелится?
- Братец Питер, да простит его бог, получил деньги от компании, -
ответила миссис Уол. - Только там был марганец, а не железные дороги,
которые из нас всю душу вытрясут.
- Ну, я одно только скажу тебе, Джейн, - заключил мистер Соломон,
таинственно понизив голос, - чем больше мы будем вставлять компании палок
в колеса тем больше она будет нам платить, если ей и впрямь так нужно,
чтобы эти колеса крутились.
Умозаключение, сделанное мистером Соломоном, возможно, не было столь
безупречным, как ему казалось, ибо предложенная им уловка не в большей
мере сказывалась на постройке железнодорожных путей, чем дипломатические
уловки на общем состоянии солнечной системы Тем не менее он принялся гнуть
свою линию в лучших дипломатических традициях, а именно - распуская
тревожные слухи. Его земли располагались в наиболее удаленной от деревни
части прихода, и кое-кто из его работников жил в одиноко стоящих домишках,
а остальные в поселке под названием Фрик, где имелась мельница и несколько
каменоломен, так что Фрик являлся своего рода центром доморощенной вялой и
сонной промышленности.
Поскольку население Фрика не имело ни малейшего представления о
железных дорогах, общественное мнение склонялось не в их пользу. Жители
этих изобилующих заливными лугами мест не испытывали свойственной многим
их собратьям тяги к неведомому, наоборот относились к нему подозрительно,
полагая, что бедным людям нечего от него ждать, кроме беды. Даже слухи о
реформе не пробудили радужных надежд во Фрике, ибо не сулили никаких
определенных выгод: дарового зерна Хайраму Форду на откорм свиньи,
посетителям "Весов и гирь" - бесплатного пива, батракам трех местных
фермеров - увеличения жалованья ближайшей зимой. Реформа, не обещавшая
такого рода прямых благ, мало чем отличалась от нахваливающих свой товар
разносчиков, а потому внушала подозрения разумным людям. Жители Фрика с
голоду не помирали и были больше расположены к тяжеловесной
подозрительности, чем к легковерному энтузиазму - они скорей готовы были
поверить не в то, что провидение о них печется, сколько в то, что оно
норовит их одурачить о каковом его стремлении свидетельствовала и погода.
Настроенные таким образом обитатели Фрика служили благодатным
материалом для деятельности мистера Соломона Фезерстоуна, обладающего
более плодородными идеями на этот счет, ибо досуг и природные склонности
позволяли ему подвергнуть подозрению все сущее и на земле, и чуть ли не на
небесах. Соломон в ту пору был смотрителем дорог и, совершая объезды на
своем неторопливом жеребчике, не раз наведывался во Фрик поглядеть на
рабочих в каменоломнях и останавливался неподалеку от них с загадочным и
сосредоточенным видом невольно наводившим на мысль, что его задержали
более веские причины, чем простое желание передохнуть. Вдоволь
наглядевшись, как идет работа, Соломон поднимал взгляд и устремлял его на
горизонт, и лишь после этого дернув поводья и слегка тронув жеребца
хлыстом, побуждал его продолжить путь. Часовая стрелка двигалась быстрей
чем мистер Соломон, обладавший счастливым убеждением что ему некуда
спешить. У него была привычка останавливаться по пути возле всех
землекопов и подстригающих живую изгородь садовников и затевать полную
недомолвок и околичностей болтовню, охотно выслушивая даже уже знакомые
ему вести и ощущая свое преимущество перед любым рассказчиком, поскольку
сам он никому из них не доверял. Правда, однажды, вступив в разговор с
возчиком Хайрамом Фордом, он снабдил его кое-какими сведениями Мистер
Соломон полюбопытствовал, встречались ли Хайраму молодчики, которые
шныряют в их краях с планками и всяческими инструментами; говорят, что
будут строить, мол, железную дорогу, а на самом деле пес их разберет, кто
они такие и что затевают. И уж во всяком случае, они и виду не подают, что
собираются перевернуть вверх дном весь Лоуикский приход.
- Э-э, да ведь тогда люди ездить друг к другу не станут, - сказал
Хайрам, тут же вспомнив о своем фургоне и лошадях.
- Ну еще бы, - сказал мистер Соломон. - К тому же они расковыряют нам
всю землю, а в приходе у нас отменная земля. Шли бы лучше в Типтон, говорю
я. Да ведь как знать, чего ради они все это затеяли. Толкуют о поездках, а
кончится-то тем, что испортят землю и принесут вред бедным людям.
- Лондонский народ, видать, - сказал Хайрам, смутно представлявший себе
Лондон как средоточие враждебных деревне сил.
- Да уж конечно: Говорят, когда они шныряли в окрестностях Брассинга,
местные жители набросились на них, переломали ихние трубки на треногах, а
самих вытолкали в шею, так что они навряд ли придут еще раз.
- То-то весело, наверно, было, - сказал Хайрам, которому редко выпадал
случай повеселиться.
- Я сам бы не стал впутываться в такие дела, - продолжал Соломон. - Но
говорят, для наших мест наступают скверные дни: было знамение, что разорят
тут все эти молодчики, которые шастают взад и вперед по округе и хотят
изрезать ее железными колеями; а стараются они ради того, чтобы захватить
в свои руки все перевозки, и уж тогда не останется у нас ни единой
упряжки, не услышишь даже, как щелкает кнут.
- Раньше чем до этого дойдет, я так щелкну кнутом, что у них уши
позакладывает, - сказал Хайрам, а мистер Соломон, дернув поводья,
продолжил свой путь.
Крапиву сеять нет нужды. Пагубное влияние железной дороги обсуждалось
не только в "Весах и гирях", но и на лугах, где в пору сенокоса оказалось
столько собеседников, сколько редко собирается в деревне.
Однажды утром, вскоре после того как Мэри Гарт призналась мистеру
Фербратеру в своих чувствах к Фреду Винси, у ее отца случилось дело на
ферме Йодрела, неподалеку от Фрика: нужно было измерить и оценить
принадлежащий к Лоуик-Мэнору дальний участок, и Кэлеб рассчитывал
произвести эту операцию как можно выгоднее для Доротеи (следует
признаться, что, ведя переговоры с железнодорожными компаниями, Кэлеб
упорно стремился выторговать у них побольше). Он оставил у Йодрела
двуколку и, направляясь со своим подручным и межевой цепью туда, где ему
предстояло работать, наткнулся на землемеров железнодорожной компании,
устанавливающих ватерпас. Кэлеб перебросился с ними несколькими словами и
двинулся дальше, подумав что они теперь все время будут наступать ему на
пятки. Стояло серенькое утро, из тех, какие бывают после небольшого
дождика и сулят чарующую погоду к полудню, когда поредеют облака и от
пролегающих между живыми изгородями проселков сладко повеет свежим запахом
земли.
Запах этот показался бы еще слаще Фреду Винси ехавшему верхом по
дороге, если бы он не истерзал себя бесплодными попытками придумать, что
предпринять когда, с одной стороны, отец ждет не дождется, чтобы он принял
сан, а, с другой стороны, Мэри грозится оставить его в таком случае,
причем в мире деловых людей как видно, никому не нужен не умеющий ничего
делать и не располагающий капиталом молодой человек. Особенно угнетающе на
Фреда действовало то, что довольный его покорностью отец впал в благодушие
и отправил его сейчас к знакомому помещику с приятной миссией посмотреть
борзых. Даже когда он выберет для себя определенное занятие, нелегко будет
сообщить об этом отцу. Следовало впрочем, признать, что выбор занятия,
который должен был предшествовать объяснению с отцом, являлся более
трудной задачей: существует ли для молодого человека чья родня не в
состоянии подыскать ему "место", мирская профессия, которая в одно и то же
время приличествует джентльмену, прибыльна и не требует специальных
познаний? В таком унылом настроении, оглядывая обсаженные живыми
изгородями луга, он направлялся к Фрику где придержал немного лошадь в
раздумье, не свернуть ли к дому приходского священника и повидаться с
Мэри. Внезапно его внимание привлек шум, и в дальнем конце расположенного
слева от него луга Фред заметил человек шесть-семь мужчин, одетых в
рабочие блузы и воинственно наступавших с вилами в руках на четырех
землемеров готовых отразить нападение, в то время как Кэлеб Гарт вместе с
подручным уже поспешал к ним на выручку. Фреду, замешкавшемуся, чтобы
отыскать калитку в изгороди, не удалось опередить людей в блузах, каковые,
подкрепившись в обед пивом, работали не слишком-то усердно, зато сейчас,
воинственно размахивая вилами гнали перед собой людей, одетых в сюртуки.
Подручный Кэлеба парнишка лет семнадцати, успевший по его указанию
захватить ватерпас, недвижно "лежал на земле, сбитый с ног Владельцы
сюртуков бегали проворнее, чем их притеснители, к тому же Фред прикрыл их
отступление, появившись перед блузами и столь внезапно их атаковав, что
внес в их ряды смятение.
- Что вы затеяли, чертовы олухи? - завопил Фред преследуя своих
разбегающихся в разные стороны противников и вовсю орудуя хлыстом. - Я
против каждого из вас дам свидетельство под присягой. Свалили паренька на
землю и, кажется, убили насмерть. Всех вас повесят после следующей сессии
суда, с вашего позволения, - заключил Фред, который от души потом смеялся,
вспоминая свои речи.
Когда косари оказались по ту сторону изгороди, Фред осадил коня, и вот
тут-то Хайрам Форд, сочтя расстояние безопасным, вернулся к калитке и
бросил вызов, прозвучавший гомерически, о чем сам он, разумеется, понятия
не имел:
- Трус ты, вот ты кто. Слезай с лошади, господинчик, да посмотрим, кто
кого. Валяй, попробуй, подойди ко мне без лошади и без хлыста. Я из тебя
душу вытрясу, право слово.
- Погодите там немного, я скоро приду и отколочу вас всех по очереди,
если вам приспичило, - сказал Фред, уверенный в своей способности учинить
кулачную расправу над горячо любимыми собратьями. Однако прежде ему
хотелось вернуться к Кэлебу и распростертому на земле юноше.
Тот вывихнул лодыжку и мучительно страдал от боли, но поскольку у него
не оказалось других повреждений, Фред усадил его на свою лошадь, на
которой паренек мог добраться до фермы Йодрела, где ему бы оказали помощь.
- Пусть поставят лошадь в конюшню и скажут землемерам, что можно
возвращаться, - заявил Фред. - Путь свободен.
- Нет, нет, - возразил Кэлеб. - Их инструменты не в порядке. Им
придется пропустить денек, да ничего не поделаешь. Прихвати с собой их
вещи, Том. Они тебя увидят и вернутся.
- Я рад, что встретился вам в нужную минуту, мистер Гарт, - сказал
Фред, когда Том удалился. - Еще неизвестно, чем бы все это кончилось, если
бы кавалерия не подоспела вовремя.
- Да, да, нам повезло, - несколько рассеянно ответил Кэлеб, поглядывая
в ту сторону, где он работал, когда пришлось бежать на выручку к
землемерам. - Но вот... прах их побери... с дураками ведь только свяжись -
мне сегодня тоже не удастся поработать. Без помощника мне не управиться с
межевой цепью. Вот дела! - Словно позабыв о Фреде, он с огорченным видом
двинулся с места и вдруг повернулся и быстро спросил: - Ты сегодня чем-то
занят, молодой человек?
- Ничем не занят, мистер Гарт. Я помогу вам с удовольствием, если
позволите, - сказал Фред, чувствуя, что как бы оказывает внимание Мэри,
предлагая помощь ее отцу.
- Почему же, только тебе придется много нагибаться, упаришься порядком.
- Это пустяки. Только сперва я разделаюсь с верзилой, который меня
вызвал на кулачный бой. Его нужно проучить. Это займет не более пяти
минут.
- Чушь! - решительно воскликнул Кэлеб. - Я сейчас сам с ними поговорю.
Люди они невежественные. Наслушались сплетен. Где же бедным дурням
разобраться что к чему.
- Тогда я пойду с вами, - сказал Фред.
- Этого вовсе не нужно; оставайся где стоишь. Горячие головы там не
нужны. Я о себе сам позабочусь.
Обладавшему огромной силой Кэлебу почти неведом был страх, он боялся
только двух вещей: как бы не обидеть кого и как бы ему не пришлось
говорить речь. Но на сей раз он счел себя обязанным произнести некое
воззвание. Кэлеб не испытывал сентиментальной жалости к трудовому люду,
но, когда доходило до дела, всегда был снисходителен, и эта кажущаяся
непоследовательность объяснялась очевидно тем, что он сам всю жизнь не
покладая рук трудился. Он считал основой благополучия этих людей труд
ежедневный и добросовестный, без которого и сам не чувствовал себя
счастливым; впрочем, мысленно он не отделял себя от них. Когда Кэлеб
подошел к косарям, они еще не принялись за работу и стояли, как обычно
стоят деревенские зеваки, каждый повернувшись боком к соседу и на
расстоянии двух-трех шагов от него. Довольно угрюмо уставились они на
Кэлеба, который быстро приближался к ним, держа одну руку в кармане, а
другую сунув за борт жилета, и, как всегда благодушный и кроткий,
остановился перед ними.
- Это что же получается, ребята? - начал он по своему обычаю отрывисто,
ощущая, что за каждой коротенькой фразой скрыто множество мыслей, подобно
огромному пучку корней у растения, верхушка которого едва виднеется над
водной гладью. - Как могли вы сотворить такую глупость? Кто-то наговорил
вам небылиц, а вы подумали, что эти люди явились сюда со злым умыслом.
- Ага! - откликнулся нестройный хор голосов, ибо каждый помешкал с
ответом в меру своей медлительности.
- Вздор! Ничего подобного! Они ищут, где лучше проложить железную
дорогу. А помешать строить дорогу вы, братцы, не можете, у вас не спросят,
нравится вам это или нет. Зато будете смуту устраивать - попадете в беду.
Эти люди имеют законное право ходить здесь. Запретить им это
землевладельцы не могут, и, если вы будете им мешать, вам придется иметь
дело с полицией, с судьей Блексли и кончится все наручниками и
мидлмарчской тюрьмой. Вы там довольно скоро можете оказаться, если
кто-нибудь из землемеров пожалуется на вас.
Тут Кэлеб сделал паузу, и, быть может, величайший оратор не выбрал бы
лучшего времени для паузы и более красноречивых доводов, чем он.
- Но ведь вы не замышляли ничего дурного. Кто-то вам сказал, что
железные дороги принесут беду. Этот человек солгал. Железная дорога
кое-где кое-кому и может чем-то повредить, точно так же может повредить и
солнце в небе. Но вообще железная дорога нужна.
- Ага! Нужна! Важным птицам она нужна, чтобы денег загребать побольше,
- заговорил старый Тимоти Купер, который не участвовал в потехе и во время
перепалки с землемерами ворошил сено на лугу. - Чего только я не
нагляделся за свою жизнь, и войну видел, и мир, и каналы, и старого короля
Георга, и регента, и нового короля Георга, и еще одного нового короля,
позабыл, как его звать... а бедному человеку все едино. Много было ему
проку от каналов? Не прибавилось ни мяса, ни сала, деньжат самую малость
отложить и то сумеешь только, коли живешь впроголодь. Когда я молодым был,
бедным людям получше жилось. Возьмем опять же эти самые дороги. От них
бедному человеку еще больший разор. Только вот на рожон прут одни дураки,
я тут уже говорил ребятам. Все на этом свете для важных птиц. Вот и вы для
них стараетесь, мистер Гарт, а как же.
Тимоти, жилистый старик, обломок прошлого, какие изредка еще
встречались в те времена, жил одиноко в своем домишке, держал накопленные
деньги в чулке, никоим образом не поддавался воздействию слов, не будучи
проникнут духом феодализма, а судя по его недоверчивости, он ничего не
знал и о "Веке Разума", и о "Правах Человека" (*154). Кэлебу приходилось
нелегко, как всякому, кто без помощи чуда пытается вразумить темных
поселян, располагающих истиной, на их взгляд непреложной, ибо они ощутили
ее всем нутром и готовы сокрушить словно дубинкой самые стройные и
разумные доводы лишь потому, что истинность этих доводов они нутром не
ощутили. Кэлеб не приготовил на этот случай отговорок, да и не стал бы
прибегать к ним - он привык встречать трудности, честно "делая свое дело".
Он ответил:
- Если ты дурного мнения обо мне, Тим, спорить не стану: это не важно.
Бедным людям, возможно, плохо - положение у них и впрямь тяжелое, только я
не хочу, чтобы эти ребята сами сделали свое положение еще тяжелее. Когда
телега перегружена, волам не станет легче оттого, что они выбросят в
придорожный ров поклажу, - ведь они тащат и свой собственный корм.
- Мы хотели только малость поразвлечься, - сказал Хайрам, почуяв, чем
пахнет дело. - Больше мы ничего не хотели.
- Ну ладно, обещайте мне, что не станете впредь затевать ничего
подобного, а я уговорю землемеров не жаловаться на вас.
- Чего мне обещать, я к ихним затеям непричастный, - сказал Тимоти.
- Это верно, но я говорю об остальных. И на том покончим, у меня нынче
не меньше, чем у вас, работы, тратить время даром я не могу. Обещайте, что
уйметесь без вмешательства полиции.
- Мы их не тронем... пусть делают что хотят, - так формулировали косари
свои обещания, заручившись каковыми, Кэлеб поспешил к Фреду, дожидавшемуся
его у ворот.
Они принялись за работу, и Фред старался что есть сил. Он пришел в
отличное настроение и веселился от души, когда, поскользнувшись на сырой
земле, выпачкал свои щегольские летние панталоны. Привела ли его в
ликующее состояние одержанная над косарями победа, или он радовался тому,
что помогает отцу Мэри? Ни то ни другое. Отчаявшись найти подходящее
занятие, он после утренних событий увидел перспективу, привлекательную для
него по ряду причин. Вполне возможно, новая идея осенила Фреда потому, что
и в душе мистера Гарта завибрировали смолкнувшие было струны. Стечение
обстоятельств, которое наталкивает нас на внезапное удачное решение, ведь
не более чем искра, упавшая на смоченную керосином паклю. Фреду такой
искрой с тех пор представлялась железная дорога. Впрочем, они с Кэлебом
нарушали молчание только тогда, когда нужно было что-нибудь сказать по
делу. И лишь когда они покончили с работой и возвращались к ферме Йодрела,
мистер Гарт сказал:
- Для такого занятия не обязательно быть бакалавром, а, Фред?
- Сожалею, что не принялся за него прежде, чем мне вздумалось стать
бакалавром, - ответил Фред. Помолчав, он уже менее решительно добавил: -
Вы полагаете, я слишком стар для того, чтобы обучиться вашему делу, мистер
Гарт?
- В нашем деле много чего нужно знать, мой мальчик, - улыбаясь, сказал
мистер Гарт. - Большая часть того, что я усвоил, постигается только
опытом: в книгах этого не вычитать. Но ты еще достаточно молод, чтобы
заложить основу.
Кэлеб произнес с жаром завершающую фразу и вдруг осекся. В последнее
время у него сложилось впечатление, что Фред хочет стать священником.
- Вы полагаете, выйдет толк, если я попытаюсь? - несколько оживившись,
спросил Фред.
- Там видно будет, - ответил Кэлеб, склонив голову набок и благоговейно
понизив голос. - Необходимы два условия: любить свою работу и не думать,
как бы поскорее с ней разделаться и приняться за развлечения. И второе:
нельзя ее стыдиться и считать, что другая была бы почетнее. Нужно
гордиться своим делом, гордиться тем, как ты искусен в нем, а не твердить:
"Мне бы то, да это... занимался бы я тем, я бы себя показал". Кем бы ни
был человек, я за него не дам и двух пенсов, - Кэлеб, презрительно скривив
губы, щелкнул пальцами, - двух пенсов за него не дам, будь он
премьер-министр или батрак, если он дурно выполняет дело, за которое
взялся.
- Вероятно, такое случится со мной, если я стану священником, - сказал
Фред, желая подвести разговор ближе к сути.
- Тогда отступись, мой мальчик, - решительно сказал Кэлеб, - иначе у
тебя никогда не будет легко на душе. А коли будет, значит, грош тебе цена.
- Мэри примерно так же считает, - покраснев, заявил Фред. - Я думаю, вы
знаете, как я отношусь к Мэри, мистер Гарт, что я люблю ее всю жизнь и
никого не полюблю так сильно, и надеюсь, вас это не сердит.
Пока Фред говорил, лицо Кэлеба заметно смягчилось. Однако он с
торжественной медлительностью покачал головой и сказал:
- Дело становится еще серьезнее, если ты решил взять на себя заботу о
счастье моей дочери.
- Я это знаю, мистер Гарт, - пылко ответил Фред, - и готов на все для
Мэри. Она сказала, что не выйдет за меня, если я стану священником:
потеряв надежду на ее руку, я буду несчастнейший на свете человек. Право,
найти бы только какое-нибудь занятие, к которому я пригоден, и я бы так
старался... я бы заслужил ваше доброе мнение. Мне нравится работать под
открытым небом. Я уже много чего знаю и о земле, и о скоте. Одно время,
видите ли, я считал - вам это, вероятно, покажется глупым, - что я сам
стану землевладельцем. Я уверен, что без труда научусь разбираться в
сельском хозяйстве, особенно если вы возьметесь мной руководить.
- Не торопись, мой мальчик, - сказал Кэлеб, перед внутренним взором
которого замаячил образ Сьюзен. - Ты уже говорил по этому поводу с отцом?
- Пока нет; но непременно поговорю. Я сперва хотел решить, каким делом
мне заняться. Мне очень не хочется огорчать отца, но когда человеку уже
двадцать четыре года, он вправе сам решать свои дела. Как мог я знать в
пятнадцать лет, какое занятие мне подходит? Меня учили не тому, чему
нужно.
- Но послушай, Фред, - сказал Кэлеб. - Ты уверен, что нравишься Мэри и
она согласна выйти за тебя?
- Я попросил мистера Фербратера поговорить с ней, потому что мне она
запретила, а ничего другого я не мог придумать, - виновато ответил Фред. -
Он считает, что у меня есть все основания для надежды, если я смогу
добиться приличного положения... то есть не принимая сана, разумеется.
Вас, наверное, сердит, что я к вам пристаю с этими разговорами, хотя сам
еще ничего не сделал. Разумеется, я не имею ни малейшего права, я и так у
вас в долгу, и этот долг останется неоплатным даже после того, как я верну
деньги.
- Нет, мой мальчик, у тебя есть право, - с глубоким волнением сказал
Кэлеб, - молодые вправе рассчитывать на помощь старших. Я и сам был молод,
и не очень-то мне помогали; а помощь мне была нужна, хотя бы просто для
того, чтобы не чувствовать себя одиноким. Но сперва я должен все обдумать.
Приходи завтра в девять часов ко мне в контору. Запомни, в контору, а не
домой.
Мистер Гарт еще ни разу не предпринял серьезного шага, не
посоветовавшись с Сьюзен, однако следует признать, что сейчас он уже по
дороге домой знал, как поступит. В очень многих вопросах, в которых другие
мужчины проявляют неуступчивость и упрямство, Кэлеб Гарт являлся самым
покладистым человеком на свете. Ему было безразлично, какое предпочесть
мясное блюдо, и, если бы Сьюзен предложила ради экономии поселиться в
четырехкомнатном домишке, он ответил бы без дальних слов: "Ну что ж". Но
когда разум и чувство убедительно свидетельствовали в пользу какого-либо
решения, он не терпел возражений, и все близкие Кэлеба знали, что,
несмотря на свою мягкость и щепетильность, в исключительных случаях он
непоколебим. Правда, Кэлеб никогда не проявлял такой властности, если речь
шла о его интересах. В девяноста девяти случаях из ста дела решала миссис
Гарт, зато в сотом она сразу сознавала, что ей предстоит невыносимо тяжкий
подвиг - покориться мужу, осуществляя свои же собственные принципы
субординации.
- Вышло так, как я и думал, Сьюзен, - сказал Кэлеб, когда вечером они
остались наедине. Он уже рассказал о приключении, из-за которого ему
пришлось прибегнуть к помощи Фреда, но умолчал пока о дальнейших
последствиях их встречи. - Дети и впрямь полюбили друг друга - я говорю о
Фреде и Мэри.
Миссис Гарт опустила на колени рукоделие и встревоженно устремила на
мужа испытующий взгляд.
- Когда мы кончили работу, Фред мне все рассказал без утайки. У него и
у самого не лежит душа к тому, чтобы принять сан, а тут еще Мэри сказала,
что не выйдет за него, если он станет священником; мальчику хотелось бы
пойти ко мне в подручные и посвятить себя нашему делу. Вот я и надумал
взять его к себе и сделать из него человека.
- Кэлеб! - сказала миссис Гарт звучным контральто, выражавшим кроткое
изумление.
- Дело это доброе, - продолжал мистер Гарт, поудобнее оперевшись на
спинку кресла и крепко берясь за ручки. - С ним придется повозиться, но
толк, надеюсь, выйдет. Он любит нашу Мэри, а истинная любовь к хорошей
женщине может много чего сделать, Сьюзен. Не одного шалопая вывела она на
верный путь.
- Мэри говорила с тобой об этом? - поинтересовалась миссис Гарт, в
глубине души несколько уязвленная тем, что узнает новость от мужа.
- Ни слова. Как-то я заговорил с нею о Фреде, хотел предостеречь. Но
она меня уверила, что никогда не выйдет замуж за своевольного и
избалованного бездельника, вот и все. Однако, кажется, потом Фред упросил
мистера Фербратера поговорить о нем с Мэри, потому что самому Фреду она
запретила разговаривать с ней об этом, и мистер Фербратер выяснил, что она
любит Фреда, только не хочет, чтобы он стал священником. Я вижу. Фред всей
душой предан Мэри, и это располагает меня к нему, и потом... ведь мы с
тобой его любим, Сьюзен.
- Бедняжка Мэри, жаль ее, - сказала миссис Гарт.
- Почему жаль?
- Потому, Кэлеб, что она могла бы выйти замуж за человека, который
стоит двадцати Фредов Винси.
- Как это? - удивленно спросил Кэлеб.
- Я твердо убеждена, что мистер Фербратер испытывает склонность к нашей
дочери и намеревался сделать ей предложение; разумеется, сейчас, когда ему
пришлось вести переговоры от имени Фреда, эта перспектива рухнула. -
Миссис Гарт сурово отчеканивала каждое слово. Она испытывала разочарование
и досаду, но предпочитала воздержаться от бесполезных жалоб.
Кэлеб помолчал, охваченный противоречивыми чувствами. Он глядел в пол
и, судя по движениям головы и рук, вел сам с собой какой-то разговор.
Наконец, он сказал:
- Я был бы горд и счастлив, если бы этот брак осуществился. Сьюзен, и
особенно порадовался бы за тебя. Мне всегда казалось, что ты должна
принадлежать к более высоким кругам. Но ты выбрала меня, а я незнатный
человек.
- Я выбрала лучшего и умнейшего человека из всех, кого знаю, - сказала
миссис Гарт, убежденная, что уж она-то не полюбила бы того, кто лишен этих
достоинств.
- Да, но другие, возможно, считали, что ты могла сделать партию
получше. Пострадал бы от этого я. Поэтому я так горячо сочувствую Фреду.
По натуре он славный малый, да и не глуп, так что ему требуется только,
чтобы его подтолкнули в нужную сторону; к тому же он безмерно любит нашу
дочь, преклоняется перед ней, а она его вроде бы обнадежила, в случае если
он исправится. Я чувствую: душа этого юноши в моих руках, и я сделаю для
него все, что смогу. Бог свидетель! Это долг мой, Сьюзен.
Миссис Гарт была не из плаксивых, однако крупная слеза медленно
скатилась по ее щеке. Ее выжало переплетение различных чувств, среди
которых преобладала нежность к мужу, но ощущалась и примесь досады.
Торопливо смахнула она слезу, говоря:
- Мало сыщется людей, подобно тебе готовых взвалить на себя еще и такие
хлопоты, Кэлеб.
- Мне все равно, что думают другие. Внутренний голос ясно подсказывает
мне, как поступить, и я его послушаюсь. Надеюсь, сердцем ты будешь со
мною, Сьюзен, и мы вдвоем сделаем все, чтобы счастливее жила наша Мэри,
бедное дитятко наше.
Откинувшись на спинку кресла, Кэлеб с робкой мольбой посмотрел на жену.
Она встала и поцеловала его со словами:
- Бог да благословит тебя, Кэлеб! У наших детей хороший отец.
Но уйдя из комнаты, она наплакалась вволю, возмещая то, что не решилась
высказать вслух. Миссис Гарт не сомневалась, что поведение ее мужа будет
истолковано превратно, о Фреде же судила трезво и не возлагала на него
надежд. Чье мерило окажется более надежным - ее рационализм или пылкое
великодушие Кэлеба?
Фред, явившись на следующее утро в контору, подвергся испытанию,
которого никак не ожидал.
- Сейчас, Фред, - сказал Кэлеб, - ты займешься канцелярской работой.
Самому мне приходится очень много писать, но все равно я не могу обойтись
без помощника, и поскольку я намерен научить тебя вести счетные книги и
ознакомить с ценами, ты поработаешь у меня конторщиком. Итак, приступим.
Как ты пишешь и в ладах ли с арифметикой?
У Фреда заныло сердце - о канцелярской работе он и не помышлял, но,
настроенный решительно, не собирался отступать.
- Арифметики я не боюсь, мистер Гарт, она всегда мне легко давалась. А
как я пишу, вы, по-моему, знаете.
- Что ж, посмотрим, - сказал Кэлеб, достал перо, внимательно оглядел
его, обмакнул в чернила и протянул Фреду вместе с листом линованной
бумаги. - Перепиши-ка из этого оценочного листа одну-две строчки с цифрами
в конце.
В те времена существовало мнение, что писать разборчиво и иметь почерк,
как у писца, не приличествует джентльмену. Требуемые строчки Фред
переписал с благородной неряшливостью, достойной виконта или епископа той
поры: все гласные походили одна на другую, согласные различались только
закорючками, идущими где вверх, где вниз, каждый росчерк пера служил новым
звеном в массивной цепочке каракулей, буквы почитали для себя зазорным
держаться ровно на строке - словом, это было одно из тех рукописных
творений, которые так легко прочесть, когда заранее знаешь, что имел в
виду автор.
Лицо Кэлеба, наблюдавшего за этим процессом, становилось все мрачней, и
когда Фред протянул ему бумагу, он, издав какое-то урчание, яростно
оттолкнул листок прочь. Когда Кэлеб видел работу, исполненную столь дурно,
от его кротости не оставалось и следа.
- Кой черт! - рявкнул он. - Ничего себе государство, где, потратив на
образование сотни и сотни, получают такие плоды! - Затем более
проникновенным тоном, сдвинув на лоб очки и уставившись на злополучного
писца: - Боже, смилуйся над нами, Фред, не могу я с этим примириться!
- Что же мне делать, мистер Гарт? - сказал Фред, весьма удрученный не
только из-за оценки его почерка, но и оттого, что был поставлен в один ряд
с простым конторщиком.
- Что делать? Научиться как следует выводить буквы и не съезжать со
строки. Стоит ли писать, если никто не в состоянии понять, что ты там
намарал? - в сердцах спрашивал Кэлеб, думая только о том, как можно
работать столь дурно. - Разве людям делать нечего, что приходится
рассылать им по почте головоломки? Но так уж у нас учат. Я тратил бы уйму
времени на письма некоторых моих корреспондентов, если бы Сьюзен не
помогала мне в них разбираться. Омерзительно. - И Кэлеб отшвырнул листок.
Незнакомец, который заглянул бы в этот момент в контору, подивился бы,
чем прогневил ее владельца обиженно кусавший губы красивый молодой человек
с разгоревшимся от волнения лицом. Фред совершенно растерялся. Доброта и
благожелательность Кэлеба в начале их беседы глубоко растрогали его,
пробудили радужные надежды, и тем горше оказалось разочарование. Стать
писцом Фред не намеревался, по правде говоря, он, как большая часть
молодых джентльменов, предпочитал занятия, в которых не было ничего
неприятного. Неизвестно, к каким последствиям привел бы неожиданный
поворот дела, если бы Фред не пообещал себе непременно съездить в Лоуик к
Мэри и сообщить ей, что он определился на службу к ее отцу. Тут Фред не
собирался нарушить данное самому себе слово.
- Мне очень жаль, - вот все, что он выдавил из себя. Но мистер Гарт уже
смягчился.
- Не надо падать духом, Фред, - проговорил он, успокоившись. - Каждый
может научиться писать. Я без посторонней помощи овладел этим уменьем.
Возьмись за дело прилежно, сиди по ночам, если не хватит дня. Не станем
спешить, мой мальчик. Пока ты учишься, Кэлем по-прежнему будет вести
счетные книги. А сейчас мне пора, - сказал Кэлеб, вставая, - расскажи о
нашем уговоре отцу. Знаешь, когда ты станешь писать как следует, это
поможет мне сэкономить жалованье, которое я выплачиваю Кэлему; потому я
смогу тебе назначить восемьдесят фунтов в первый год, а впоследствии
больше.
Фред открылся родителям, и их отклик на его признание поразил его и
заполнился надолго. Прямо из конторы мистера Гарта он направился на склад,
ибо безошибочное чутье подсказало ему, что огорчительное сообщение
приличнее всего преподнести отцу как можно более лаконично и сдержанно. Да
и серьезность его намерений станет более очевидной, если беседа с отцом
состоится в деловой обстановке, а наиболее деловитым тот бывал в конторе
склада.
Фред прямо приступил к делу и коротко объявил, что предпринял и что
намерен предпринять, а под конец выразил сожаление, что ему приходится
разочаровывать отца, в чем винил только себя. Сожаление было искренним и
подсказало Фреду сильные и простые слова.
Мистер Винси выслушал его с глубоким изумлением, не проронив ни звука,
и эта несвойственная его вспыльчивому нраву молчаливость свидетельствовала
о незаурядном душевном волнении. Дела в тот день не ладились, и суровая
складка у его губ обозначилась еще отчетливее. Когда Фред замолчал,
последовала почти минутная пауза, во время которой мистер Винси спрятал в
ящик стола счетную книгу и резко повернул ключ. Затем в упор взглянул на
сына и сказал:
- Итак, вы, наконец-то, приняли решение, сэр?
- Да, отец.
- Прекрасно, будь по-вашему. Мне больше нечего сказать Вы пренебрегли
полученным вами образованием и опустились на общественной лестнице
ступенькой ниже, хотя я предоставил вам возможность подняться вверх; ну
что ж.
- Меня очень огорчает наше несогласие, отец. По-моему, можно оставаться
джентльменом как в сане священника, так и выполняя избранное мною дело. Но
я благодарен вам за все ваши заботы.
- Прекрасно; мне больше нечего сказать. Надеюсь только, ваш собственный
сын когда-нибудь лучше отплатит вам за потраченные на него труды.
Его слова больно задели Фреда. Отец воспользовался тем сомнительным
преимуществом, каким пользуется каждый из нас, когда, став жертвой
обстоятельств, считает, что пожертвовал всем. В действительности планы
мистера Винси, связанные с будущностью сына, отличала немалая доля спеси,
легкомыслия и эгоизма. Тем не менее вызвать разочарование отца - проступок
немаловажный, и Фред склонился под тяжестью его гнева.
- Надеюсь, вы не возражаете, сэр, против моего дальнейшего пребывания в
доме, - сказал он, поднявшись и собираясь уходить, - мне назначено
достаточное жалованье, чтобы оплачивать мой стол, и, разумеется, я так и
сделаю.
- К черту стол! - воскликнул мистер Винси, которого сразу же привела в
чувство возмутительная мысль, что Фред может перестать кормиться в
родительском доме. - Разумеется, твоя мать захочет, чтобы ты остался. Но
лошади я, как понимаешь, теперь не буду для тебя держать, и своему
портному, будь любезен, плати сам. Теперь, когда костюмы тебе станут шить
на твой же счет, их, вероятно, будет прибавляться хоть штуки на две меньше
в год.
Фред медлил, он еще не все сказал. Наконец, он решился.
- Надеюсь, вы пожмете мне руку, отец, и простите огорчение, которое я
вам доставил.
Мистер Винси метнул снизу вверх быстрый взгляд на сына, подошедшего к
его стулу, затем протянул руку, торопливо пробормотав:
- Ладно, ладно, хватит об этом.
Разговор и объяснение с матерью заняли гораздо больше времени, но
миссис Винси осталась безутешной, ибо, в отличие от мужа, которому не
приходила в голову такая мысль, она тотчас же представила себе, что Фред,
несомненно, женится теперь на Мэри Гарт, что жизнь ее отныне омрачится
постоянным присутствием Гартов и всего гартовского, а ее милый мальчик,
красивый, изящный (у кого еще в Мидлмарче есть такой сын?), приобретет
свойственную этому семейству заурядную внешность и небрежную манеру
одеваться. Ей казалось, Гарты коварно заманили ее бесценного Фреда в
ловушку, но распространяться по этому поводу она не смела - Фред при
малейшем намеке сразу на нее "набрасывался". Кроткий нрав не позволял ей
гневаться, но ее душевному спокойствию был нанесен удар, и в течение
нескольких дней, едва взглянув на Фреда, миссис Винси принималась плакать,
словно ей напророчили о нем нечто зловещее. К ней, быть может, быстрее бы
воротилась привычная веселость, не предупреди ее Фред, что не следует
вновь касаться больного вопроса в разговорах с отцом, коль скоро тот
согласился с решением сына и простил его. Если бы мистер Винси с яростью
обрушился на Фреда, мать, разумеется, не удержалась бы и вступилась за
своего любимца. И лишь в конце четвертого дня муж сказал ей:
- Люси, голубушка, не надо так убиваться. Ты всегда баловала мальчика,
так уж балуй его и впредь.
- Я еще ни разу так не огорчалась, Винси, - ответила супруга, и ее
нежная шейка и подбородок вновь затрепетали от сдерживаемых слез. - Разве
только когда он болел.
- Будет тебе, будет, не унывай. С нашими детками не обойтись без
волнений. Так приободрись же, хотя бы ради меня.
- Хорошо, - сказала миссис Винси, вдохновленная этой просьбой, и слегка
встряхнулась, словно птичка, оправляющая взъерошенные перышки.
- Стоит ли так тревожиться из-за одного, - сказал мистер Винси, желая
одновременно и утешить спутницу жизни, и поворчать. - Кроме Фреда, у нас
есть и Розамонда.
- Да, бедняжка. Я, конечно, очень горевала из-за ребенка, но Рози
справилась с собой, держится молодцом.
- Что ребенок! Лидгейт испортил отношения с пациентами и, как я слышал,
влезает в долги. Не сегодня-завтра ко мне явится Розамонда и будет
жаловаться на их бедственное положение. Только денег им моих не видать,
нет уж. Пусть его родня помогает. Мне никогда не нравился этот брак. Но
что толку говорить об этом. Позвони, пусть принесут лимоны, и не будь
такой унылой. Люси. Завтра я повезу вас с Луизой в Риверстон.
57
Лишь восемь было им, и книга эта
В их души чувства новые влила.
Так почка пробуждается, согрета
Благой волной весеннего тепла.
С ней к ним чудак Бредуордин явился,
И верный Эван Дху, и Вих Иан Вор.
Мирок их детства вдруг преобразился
В чудесный край утесов и озер.
Веселый смех и слезы состраданья -
Вот Вальтер Скотта им бесценный дар.
Потом настало с книгой расставанье,
Но не угас любви и веры жар.
Они начать решили в тот же час
О Тулли-Веолане свой рассказ (*155).
В тот вечер, когда Фред Винси предпринял пешую прогулку в Лоуик (он уже
начал понимать, что в этом мире даже бравым молодым джентльменам иногда
приходится шагать пешком, если в их распоряжении нет лошади), он
отправился в путь в пять часов и по дороге заглянул к миссис Гарт, желая
удостовериться, сколь благосклонно она отнеслась к его сватовству.
Всю семью, включая кошек и собак, он нашел в саду под большой яблоней.
Для миссис Гарт день был праздничным, ибо в дом на неопределенный срок
приехал ее старший сын Кристи. Кристи, мечтавший остаться в университете,
изучить литературу всех народов, стать новым Порсоном (*156) и служивший
живым укором бедняге Фреду, своего рода наглядным примером, на которых
маменьки воспитывают нерадивых детей. Сам Кристи - копия миссис Гарт
мужского пола, широкоплечий, с квадратным лбом и невысокий, всего лишь
Фреду по плечо, из-за чего еще труднее было относиться к нему с почтением,
- всегда держался очень просто, и равнодушие Фреда к наукам тревожило его
не больше, чем равнодушие к ним жирафа. Вот росту Фреда он завидовал, это
его занимало. Он лежал на траве, возле кресла матери, надвинув на глаза
соломенную шляпу, а сидевший по другую сторону от кресла Джим читал вслух
автора, даровавшего многим столько счастья в их юные годы. Это был
"Айвенго", и Джим сейчас читал о состязании лучников, но его все время
прерывал Бен, притащивший свой старый лук и стрелы и, по мнению Летти,
смертельно надоевший всем непрестанными требованиями взглянуть, как он
стреляет не целясь, которым не внимал никто, за исключением Черныша,
легкомысленной собачонки, оживленно носившейся по саду, в то время как
седоватый старик ньюфаундленд грелся на солнышке с ленивым равнодушным
видом. Сама Летти, чьи губы и передничек свидетельствовали, что и она
участвовала в сборе вишен, лежавших горкой на чайном столе, сидела на
траве и, забыв обо всем на свете, слушала чтение.
Приход Фреда отвлек внимание от книги. Когда присев на табурет, он
сказал, что идет в Лоуик, Бен, державший теперь вместо лука недовольного
котенка, взобрался верхом на ногу Фреда и сказал:
- Я пойду с тобой!
- Ой, и я тоже, - подхватила Летти.
- Ты не умеешь ходить так быстро, как мы с Фредом, - возразил Бен.
- Умею. Мама, ну скажи, что я тоже пойду, - взмолилась Летти, которой
то и дело приходилось отстаивать свою равноправность перед братьями.
- А я останусь с Кристи, - заявил Джим, словно желая показать, что
выбрал более приятное занятие, чем эти дурачки. Летти потерла рукой
затылок, недоверчиво и нерешительно поглядывая то на Бена, то на Джима.
- Давайте-ка все пойдем к Мэри, - сказал Кристи, широко раскинув руки.
- Нет, сынок, не следует врываться гурьбой в дом к мистеру Фербратеру.
Да и костюм на тебе такой старенький. К тому же скоро вернется отец. Пусть
Фред идет один. Он расскажет Мэри, что ты здесь, и она сама придет к нам
завтра.
Кристи оглядел свои потершиеся на коленях штанины, затем великолепные
белые панталоны Фреда. Одежда Фреда демонстрировала несомненное
преимущество английского университета перед шотландским, он даже смахивал
носовым платочком волосы со лба и изнывал от жары как-то особенно
грациозно.
- Дети, бегите-ка в сад, - сказала миссис Гарт. - Не нужно докучать
гостям, когда так жарко. Покажите брату кроликов.
Смекнув, в чем дело, Кристи немедленно увел детей. Фред понял, что
миссис Гарт предоставляет ему возможность поговорить с ней обо всем, о чем
он собирался, но сперва пробормотал лишь:
- Вы, наверное, очень рады приезду Кристи!
- Да, я не ждала его так скоро. Он приехал дилижансом в девять, сразу
же после того, как вышел из дому отец. Мне не терпится, чтобы Кэлеб
послушал, каких замечательных успехов добился наш Кристи. Он покрыл все
свои расходы за прошлый год, давая частные уроки, и в то же время
продолжал усердно учиться. Он надеется вскоре получить место гувернера и
уехать за границу.
- Молодчина, - сказал Фред, глотая, словно пилюли, расточаемые Кристи
похвалы, - и никому с ним нет хлопот. - Он помолчал и добавил: - А вот со
мной у мистера Гарта, боюсь, будет порядком хлопот.
- Кэлеб любит хлопотать, он всегда делает больше, чем от него ожидают.
- Миссис Гарт вязала и могла смотреть на Фреда, лишь когда ей вздумается -
преимущество в тех случаях, если ведешь непростой разговор с
душеспасительной целью, и хотя миссис Гарт намеревалась проявить должную
сдержанность, ей все же хотелось что-нибудь ввернуть, дабы Фред не
зазнавался.
- Я знаю, вы считаете меня очень недостойным человеком, миссис Гарт, и
совершенно правы, - сказал Фред. Он несколько ободрился, почувствовав, что
миссис Гарт намеревается его пожурить. - У меня почему-то выходит, что
особенно скверно я веду себя с людьми, к которым чувствую симпатию. Но
если уж такие люди, как мистер Гарт и мистер Фербратер, не отступаются от
меня, вероятно, и мне не следует от себя отступаться. - Фред решил, что,
может быть, упоминание об этих лицах благотворно подействует на миссис
Гарт.
- О, разумеется, - многозначительно произнесла она. - Юноша, о котором
пекутся два достойнейших человека, будет просто преступником, если сделает
напрасными их жертвы.
Фред несколько подивился столь высокому стилю, но сказал лишь:
- Я надеюсь, со мной ничего такого не случится, миссис Гарт. Мэри ведь
меня немного обнадежила, и я рассчитываю на ее согласие. Мистер Гарт вам
рассказал? Вы, думаю, не удивились? - Задавая последний вопрос,
простодушный Фред имел в виду лишь свои чувства, как видно не являвшиеся
секретом ни для кого.
- Удивилась ли я, что вас обнадежила Мэри? - повторила миссис Гарт, по
мнению которой Фреду не мешало бы понять, что, вопреки домыслам Винси,
родители Мэри отнюдь не мечтали об этой помолвке. - Да, признаюсь, я была
удивлена.
- Она вовсе не давала мне понять... ну, ни единым словечком, когда я
сам с ней разговаривал, - сказал Фред, стремясь оправдать Мэри, - но когда
я попросил походатайствовать за меня мистера Фербратера, Мэри позволила
мне передать, что надежда есть.
Но миссис Гарт еще не высказала все, что накипело у нее на сердце.
Несмотря на свою сдержанность, она не могла смириться с тем, чтобы этот
цветущий юноша достиг благополучия, разбив надежды человека более
глубокого и умного, чем он, - насытился жарким из соловья, даже не ведая
об этом, - а его родня тем временем возомнит, будто Гарты так уж жаждали
заполучить этого молокососа в лоно своей семьи; ей тем труднее было унять
свое негодование, что она тщательно скрывала его при муже. Образцовые жены
порой подыскивают таким образом козлов отпущения. Она сказала твердо:
- Вы совершили огромную ошибку, Фред, попросив ходатайствовать за вас
мистера Фербратера.
- Вот как? - сказал Фред и тотчас покраснел. Он встревожился, хотя не
имел представления, на что намекает его собеседница, и виновато добавил: -
Мистер Фербратер ведь наш самый добрый друг; к тому же я знал, что Мэри
внимательно его выслушает; кроме того, он так охотно согласился.
- Да, молодые люди часто не видят ничего, кроме своих желаний, и не
могут даже представить себе, чего стоит другим исполнение этих желаний, -
сказала миссис Гарт. Решив ограничиться отвлеченной сентенцией, но все еще
продолжая негодовать, она грозно нахмурилась и без малейшей к тому нужды
стала распускать вязанье.
- Не могу себе представить, каким образом моя просьба причинила мистеру
Фербратеру боль, - сказал Фред, в сознании которого, впрочем, уже
замаячила удивительная догадка.
- Вот именно, не можете себе представить, - сказала миссис Гарт,
отчетливо произнося каждое слово.
Встревоженный Фред устремил взгляд на горизонт, затем быстро обернулся
и спросил чуть ли не резко:
- Вы хотите сказать, миссис Гарт, что мистер Фербратер влюблен в Мэри?
- И если так, вы менее других должны этому удивляться, - отрезала
миссис Гарт, положив рядом с собой вязанье и скрестив руки. Только в
минуты сильного волнения она решалась выпустить из рук работу. Обуревавшие
ее эмоции были двоякого рода: она радовалась, что хорошенько отделала
Фреда, но опасалась, не зашла ли слишком далеко. Фред взял трость и шляпу
и быстро встал.
- Стало быть, вы считаете меня препятствием между мистером Фербратером
и Мэри? - спросил он запальчиво.
Миссис Гарт замешкалась с ответом. Она попала в затруднительное
положение человека, готового высказать то, что накипело на душе, и в то же
время убежденного в необходимости скрыть это. А ведь ей, как никому
другому, было унизительно признаться в несдержанности. К тому же Фред
после своей неожиданной вспышки счел нужным добавить:
- Мне показалось, мистер Гарт доволен, что Мэри мне симпатизирует. О
том, о чем вы говорили, он, наверное, не знает.
Его слова больно задели миссис Гарт, для которой была невыносима мысль,
что Кэлеб может усомниться в правильности ее выводов. Стремясь
предотвратить последствия своей ошибки, она ответила:
- Это просто мое предположение. Возможно, Мэри ни о чем подобном не
подозревает.
Но, не привыкшая принимать одолжения, она не решалась обратиться к
Фреду с просьбой не упоминать о разговоре, который сама же затеяла без
всякой к тому нужды; а пока она раздумывала, под яблоней у чайного стола
завершились непредусмотренными последствиями события совсем иного рода:
Бен, по пятам за которым мчался Черныш, выскочил из-за деревьев и, увидев
котенка, тащившего за нитку распускающееся вязанье, закричал и захлопал в
ладоши, Черныш залаял, котенок в ужасе вскочил на стол и опрокинул молоко,
затем спрыгнул и смахнул на землю половину вишен, а Бен, отняв у котенка
недовязанный носок, напялил его ему на голову, отчего тот снова обезумел,
и подоспевшая в этот миг Летти воззвала к матери... словом, разыгралась
история столь же волнующая, как с тем домом, который построил Джек. Миссис
Гарт пришлось вмешаться, тем временем подошли другие дети, и ее беседа с
Фредом прервалась. Фред постарался удалиться как можно скорей, и миссис
Гарт, прощаясь с ним, сказала: "Да благословит вас бог", - единственное,
чем она сумела ему намекнуть, что раскаивается в своей жестокости.
Ей не давало покоя чувство, что она вела себя "как одна из безумных"
(*157) - сперва проболталась, затем стала просить не выдавать ее. Правда,
она не просила об этом Фреда и потому решила повиниться перед Кэлебом в
тот же вечер, прежде чем он сам ее обвинит. Забавно, что добродушный Кэлеб
в тех случаях, когда ему выпадала роль судьи, представлялся своей супруге
судьей грозным и суровым. Впрочем, миссис Гарт намеревалась подчеркнуть,
что разговор пойдет на пользу Фреду.
Он и впрямь порядком его растревожил. Жизнерадостный, склонный к
оптимизму Фред, пожалуй, никогда еще не испытывал такой обиды, какую
причинило ему предположение, что он помешал Мэри сделать поистине завидную
партию. Уязвляло его также, что - изъясняясь его стилем - он, как олух,
обратился за содействием к мистеру Фербратеру. Впрочем, влюбленному, а
Фред был влюблен, несвойственно терзать себя иными сомнениями, когда он
усомнился в главном - в чувствах своей избранницы. Невзирая на уверенность
в благородстве мистера Фербратера, невзирая на переданные ему слова Мэри,
Фред не мог не ощущать, что у него появился соперник: обстоятельство, к
которому он не привык и отнюдь не желал привыкать, не испытывая ни
малейшей готовности отказаться от Мэри ради ее блага, а, наоборот, готовый
с кем угодно за нее сразиться. Но сражаться с мистером Фербратером можно
было только в метафорическом смысле, что для Фреда было куда труднее.
Новое испытание оказалось нисколько не менее тяжким, чем огорчение по
поводу дядюшкиного завещания. Меч еще не коснулся его сердца, но Фред
довольно явственно вообразил себе, сколь болезненным окажется
прикосновение его острия. Ему ни разу не пришло в голову, что миссис Гарт
могла ошибиться относительно чувств мистера Фербратера, но он подозревал,
что она могла неправильно судить о чувствах Мэри. В последнее время та
жила в Лоуике, и мать, возможно, очень мало знала о том, что у нее на
душе.
Ему не стало легче, когда он увидел ее веселое личико в гостиной, где
находились и все три дамы. Они оживленно толковали о чем-то и умолкли при
появлении Фреда. Мэри четким бисерным почерком переписывала ярлычки,
наклеенные на неглубокие ящики, лежавшие перед нею. Мистер Фербратер ушел
в деревню, а сидевшие в гостиной дамы не подозревали об особых отношениях,
связывающих Фреда с Мэри; он не мог предложить ей прогуляться с ним вместе
по саду и подумал, как бы ему не пришлось вернуться восвояси, ни словечком
не перекинувшись с ней наедине. Сперва он рассказал Мэри о приезде Кристи,
затем о том, что поступил в помощники к ее отцу; и был утешен, обнаружив,
что второе известие произвело на нее большое впечатление.
- Я так рада, - сказала она торопливо и склонилась над столом, чтобы не
видели ее лица.
Но миссис Фербратер не могла оставить такую тему без внимания.
- Вы ведь не хотите сказать, милая мисс Гарт, будто рады, что юноша,
готовившийся стать служителем церкви, отказался от своего намерения; вы,
как я понимаю, радуетесь только тому, что если уж так вышло, он хотя бы
нашел себе такого превосходного руководителя, как ваш отец.
- Нет, право же, миссис Фербратер, боюсь, я радуюсь и тому и другому, -
ответила Мэри, незаметно смахнув непослушную слезинку. - Увы, я мирянка до
мозга костей. Ни разу в жизни мне не нравился ни один служитель церкви,
кроме "Векфилдского священника" и мистера Фербратера.
- Но почему же, моя милая? - спросила миссис Фербратер, опустив большие
деревянные спицы и удивленно взглянув на Мэри. - Ваши суждения всегда
разумны и обоснованны, но сейчас вы меня удивили. Мы, разумеется, не
говорим о тех, кто проповедует новые доктрины. Но как можно не любить
священников вообще?
- Ох, - сказала Мэри, задумалась на минуту, и лицо ее просияло лукавой
улыбкой. - Мне не нравятся их шейные платки.
- Но тогда платок Кэмдена вам тоже не нравится, - встревоженно сказала
мисс Уинифред.
- Нет, нравится, - возразила Мэри. - Платки других священников не
нравятся мне из-за их владельцев.
- Как это странно! - воскликнула мисс Ноубл, усомнившись в здравости
собственного рассудка.
- Вы шутите, моя милая. Полагаю, у вас есть более основательные причины
пренебрежительно относиться к столь уважаемому сословию, - величественно
произнесла миссис Фербратер.
- Мисс Гарт выказывает такую требовательность, когда судит, кем кому
следует стать, что на нее нелегко угодить, - сказал Фред.
- Ну, я по крайней мере рада, что она делает исключение для моего сына,
- произнесла старая дама.
Заметив недовольство Фреда, Мэри призадумалась, но тут в гостиную вошел
мистер Фербратер и дамы сообщили ему, что у мистера Гарта появился новый
помощник. Выслушав их, он одобрительно произнес: "Это хорошо", - затем
взглянул на работу Мэри и похвалил ее почерк. Фред жестоко страдал от
ревности... конечно, отрадно, что его соперник столь достойный человек, а
впрочем, жаль, что он не толст и не уродлив, как многие сорокалетние
мужчины. Чем закончится дело, не приходилось сомневаться, коль скоро Мэри
не скрывала своего преклонения перед Фербратером, а его семейство,
несомненно, одобряло их взаимную склонность. Фред все больше убеждался,
что ему не удастся поговорить с Мэри, как вдруг мистер Фербратер сказал:
- Фред, помогите мне перенести эти ящики в кабинет. Вы ведь еще не
видели мой роскошный новый кабинет. Мисс Гарт, пожалуйста, пойдемте вместе
с нами. Мне хотелось показать вам удивительного паука, которого я нашел
сегодня утром.
Мэри сразу поняла его намерение. После того памятного вечера мистер
Фербратер неизменно обращался с ней по-старому, как добрый пастырь, и
возникшие у нее на миг сомнения исчезли без следа. Мэри не привыкла тешить
себя розовыми надеждами и любое лестное для ее тщеславия предположение
считала вздорным, ибо опыт давно ее убедил в несбыточности таких
предположений. Все получилось, как она предвидела: после того как Фред
полюбовался кабинетом, а она - пауком, мистер Фербратер сказал:
- Подождите меня здесь минутку. Я хочу найти одну гравюру и попросить
Фреда, благо он достаточно высок, повесить ее в кабинете. Через несколько
минут я вернусь. - Тут он вышел. Это не помешало Фреду обратиться к Мэри с
такими словами:
- Что я ни делаю, все без толку, Мэри. Вы все равно в конце концов
выйдете за Фербратера. - В его голосе звенела ярость.
- Что вы имеете в виду, Фред? - с негодованием воскликнула Мэри, густо
покраснев и от изумления утратив свойственную ей находчивость.
- Не могу поверить, чтобы вы меня не поняли... Вы всегда так понятливы.
- Я понимаю только, что вы ведете себя очень дурно, говоря подобным
образом о мистере Фербратере, который так усердно ради вас старался. Да
как вам в голову взбрела такая чушь!
Фред, невзирая на волнение, не утратил ясность мысли. Если Мэри и
впрямь ни о чем подобном не догадывается, вовсе незачем ей рассказывать о
предположении миссис Гарт.
- А как же иначе, - откликнулся он. - Когда все время у вас перед
глазами человек, который гораздо достойней меня и которого вы надо всеми
превозносите, где мне с ним тягаться!
- Какой же вы неблагодарный, Фред, - сказала Мэри. - Мне бы следовало
сказать мистеру Фербратеру, что я и знать вас не желаю.
- Не называйте меня неблагодарным: я был бы счастливейшим человеком на
свете, если бы не это. Я рассказал все вашему отцу, и он был очень добр,
он обошелся со мной как с сыном. Я бы с усердием принялся за работу, я и
писал бы, и делал все что угодно, если бы не это.
- Не это? Да что это? - спросила Мэри, вдруг решив, что Фред узнал о
чем-то неизвестном ей.
- Если бы я не был убежден, что Фербратер возьмет надо мной верх.
Тут Мэри стал разбирать смех, и ей расхотелось сердиться.
- Фред, - сказала она, пытаясь поймать его взгляд, который он угрюмо
отводил в сторону, - до чего же вы смешной, вы просто чудо. Не будь вы
такой уморительный дуралей, я поддалась бы искушению вас помучить и не
стала бы разуверять, что никто, кроме вас, за мной не ухаживает.
- Мэри, я правда нравлюсь вам больше всех? - спросил Фред, устремляя на
нее полный нежности взгляд и пытаясь взять ее за руку.
- Вы мне совсем сейчас не нравитесь, - сказала Мэри, сделав шаг назад и
пряча руки за спину. - Я сказала только, что ни один смертный, кроме вас,
за мной не ухаживал. И из этого отнюдь не следует, что за мной начнет
ухаживать очень умный человек, - весело закончила она.
- Мне бы хотелось от вас услышать, что вы о нем не думаете и впредь не
будете думать, - сказал Фред.
- Не смейте даже упоминать об этом, Фред, - отрезала Мэри, вновь
становясь серьезной. - Уж не знаю, глупость вы проявляете или
неблагодарность, не замечая, что мистер Фербратер намеренно оставил нас
наедине, чтобы мы могли поговорить свободно. Меня огорчает, что вы не
сумели оценить его деликатность.
Больше они ни слова не успели сказать друг другу, поскольку в кабинет
вошел мистер Фербратер, держа в руке гравюру. Фред возвратился в гостиную,
все еще мучимый ревностью, но в то же время успокоенный словами и всем
обращением Мэри. Зато Мэри огорчил и встревожил их разговор, мысли ее
невольно приняли новое направление, и все увиделось в новом свете. Если
опасения Фреда обоснованны, то она пренебрегает мистером Фербратером,
человеком, к которому относится с почтением и благодарностью... какая
женщина не потеряет в таком случае решимость! Она с облегчением вспомнила,
что на следующий день ей нужно поехать домой, ибо всей душой стремилась
утвердиться в убеждении, что любит Фреда. Когда нежная склонность
накапливается годами, мысль о замене непереносима - нам кажется, она
лишает смысла всю нашу жизнь. Мы учреждаем тогда строгий надзор над своими
чувствами и постоянством, как и над любым своим достоянием.
"Фред утратил все надежды; пусть у него останется хоть эта", - с
улыбкой подумала Мэри. Ей не удалось отогнать от себя мимолетные видения
совсем иного рода - новое положение в свете, признание и почет, отсутствие
которых она не раз ощущала. Но если Фред будет отторгнут от нее, одинок и
удручен тоскою, подобные соблазны ее не искусят.
58
Твои глаза не могут ненавидеть.
Как мне узнать, что изменилась ты?
В других обман и фальшь легко увидеть -
Ложь в сердце искажает их черты.
Но повелело небо, чтоб одна лишь
Любовь твоим глазам дарила свет.
Пусть ты коварство прячешь, пусть лукавишь -
Твой ясен взор, и в нем притворства нет.
Шекспир, "Сонеты"
В то время когда мистер Винси изрек мрачное пророчество по поводу
Розамонды, сама она вовсе не подозревала, что будет вынуждена обратиться с
просьбой к отцу. Розамонда еще не столкнулась с денежными затруднениями,
хотя поставила дом на широкую ногу и не отказывала себе в развлечениях. Ее
дитя появилось на свет преждевременно, и вышитые распашонки и чепчики были
упрятаны надолго. Беда случилась потому, что Розамонда, невзирая на
возражения мужа, отправилась кататься верхом; впрочем, не подумайте, что
она проявила несдержанность в споре или резко заявила о своем намерении
поступить как ей заблагорассудится.
Непосредственной причиной, пробудившей в ней желание поупражняться в
верховой езде, был визит третьего сына баронета, капитана Лидгейта,
которого, как ни прискорбно говорить об этом, презирал его родственник
Тертий, называя "пошлым фатом с дурацким пробором от лба до затылка" (сам
Тертий не следовал этой моде), и который, как все невежды, был убежден в
своей способности судить о любом предмете. Лидгейт клял себя за
безрассудство, поскольку сам навлек этот визит на свою голову,
согласившись навестить во время свадебного путешествия дядюшку, и вызвал
неудовольствие Розамонды, высказав ей эту мысль. Ибо, грациозно сохраняя
безмятежность, Розамонда чуть не прыгала от радости. Пребывание в ее доме
кузена, являющегося сыном баронета, настолько будоражило ее, что ей
казалось, все окружающие непременно должны сознавать огромную важность
этого обстоятельства. Знакомя капитана Лидгейта с другими гостями, она
испытывала приятную убежденность, что высокое положение в свете - свойство
столь же ощутимое, как запах. Это было так отрадно, что Розамонде стала
представляться менее плачевной участь женщины, вышедшей замуж за врача:
замужество, казалось ей теперь, возвысило ее над уровнем мидлмарчского
света, а грядущее сулило радужные перспективы обмена письмами и визитами с
Куоллингемом, в чем она почему-то усматривала залог успешной карьеры
супруга. А тут еще миссис Менгэн, замужняя сестра капитана (как видно,
подавшего ей эту идею), возвращаясь в сопровождении горничной из столицы
домой, заехала в Мидлмарч и прогостила у них двое суток. Так что было для
кого и музицировать, и старательно подбирать кружева.
Что до капитана Лидгейта, то низкий лоб, крючковатый, кривой нос и
некоторое косноязычие могли бы показаться недостатками в молодом
джентльмене, если бы не военная выправка и усы, придававшие ему то, что
белокурые изящные, как цветок, создания восторженно определяют словом
"стиль". К тому же он обладал особого рода аристократизмом: в отличие от
представителей среднего класса, пренебрегал соблюдением внешних приличий и
был великим ценителем женской красоты. Его ухаживание доставляло сейчас
Розамонде еще больше удовольствия, чем в Куоллингеме, и капитану
разрешалось флиртовать с ней чуть ли не по целым дням. Да и вообще этот
визит оказался одним из самых приятных в его жизни приключений, прелесть
которого, пожалуй, только увеличивалась от сознания, что чудаковатому
кузену не по душе его приезд, хотя Тертий, который (говоря гиперболически)
скорее умер бы, чем оказался негостеприимным, скрывал свою неприязнь и
делал вид, будто не слышит слов галантного офицера, предоставляя отвечать
на них Розамонде. Он отнюдь не был ревнивым мужем и предпочитал оставлять
докучливого молодого джентльмена наедине с женой, дабы избегнуть его
общества.
- Тебе следовало бы во время обеда больше говорить с капитаном, Тертий,
- сказала Розамонда как-то вечером, когда знатный гость уехал в Лоумфорд
навестить квартировавших там знакомых офицеров. - Право же, у тебя иногда
такой рассеянный вид - кажется, будто ты не на него глядишь, а сквозь его
голову на что-то сзади.
- Рози, милая моя, да неужели же я должен вести пространные беседы с
этим самодовольным ослом, - непочтительно ответил Лидгейт. - А на его
голову я посмотрю с интересом лишь в том случае, если ее проломят.
- Не понимаю, почему ты так пренебрежительно говоришь о своем кузене, -
не отрываясь от работы, возразила Розамонда с кроткой сдержанностью,
прикрывавшей презрение.
- Наш приятель Ладислав тоже считает твоего капитана прескучным. С тех
пор как он здесь поселился, Ладислав почти не бывает у нас.
Розамонда полагала, что отлично знает, почему Ладислав невзлюбил
капитана: он ревновал, и эта ревность была ей приятна.
- На людей со странностями трудно угодить, - ответила она. - Но,
по-моему, капитан Лидгейт безупречный джентльмен, и я думаю, что из
уважения к сэру Годвину ты не должен обходиться с ним пренебрежительно.
- Конечно, милая; но мы устраиваем в его честь обеды. А он уходит и
приходит когда вздумается. Он вовсе не нуждается во мне.
- И все же когда он находится в комнате, ты бы мог оказывать ему больше
внимания. В твоем представлении, он, вероятно, не мудрец, у вас разные
профессии, но, право, было бы приличнее, если бы ты хоть немного говорил с
ним о том, что его занимает. Я считаю его вполне приятным собеседником. И
уж во всяком случае, у него есть правила.
- Иначе говоря, ты хотела бы, Рози, чтобы я немного больше походил на
него, - буркнул Лидгейт не сердито, но с улыбкой, которая едва ли была
нежной и несомненно - не была веселой. Розамонда промолчала и перестала
улыбаться; впрочем, ее красивое личико и без улыбки выглядело милым.
Вырвавшаяся у Лидгейта горькая фраза отметила, подобно дорожной вехе,
сколь значительный путь проделал он от царства грез, в котором Розамонда
Винси казалась ему образцовой представительницей нежного пола, своего рода
благовоспитанной сиреной, расчесывающей волосы перед зеркальцем и поющей
песнь исключительно для услаждения слуха обожаемого, мудрого супруга.
Сейчас он уже видел разницу между этим померещившимся ему обожанием и
преклонением перед талантом, придающим мужчине престиж, словно орден в
петлице или предшествующее имени слово "достопочтенный".
Можно предположить, что и Розамонда проделала немалый путь с тех пор,
когда банальная беседа мистера Неда Плимдейла казалась ей на редкость
скучной; впрочем, большая часть смертных подразделяет глупость на два
вида: невыносимую и вполне терпимую - как иначе прикажете сохранять
общественные связи? Глупость капитана Лидгейта источала тонкий аромат
духов, изысканно себя держала, говорила с хорошим прононсом и приходилась
близкой родней сэру Годвину. Розамонда находила ее очень милой и переняла
у нее множество словечек и фраз.
Вот почему, будучи, как мы знаем, большой любительницей верховой езды,
она охотно согласилась возобновить это занятие, когда капитан Лидгейт,
приехавший в Мидлмарч с двумя лошадьми и лакеем, которого он поселил в
"Зеленом драконе", предложил ей прогулку на серой кобыле, заверив, что у
этой Лошади кроткий нрав и она обучена ходить под дамским седлом, - он,
собственно, купил ее для сестры и вел в Куоллингем. Первую прогулку
Розамонда совершила, ничего не сказав мужу, и вернулась, когда он еще не
пришел домой; но поездка оказалась такой удачной, так благотворно повлияла
на нее, что Розамонда сообщила о ней мужу, ничуть не сомневаясь, что он
позволит ей кататься и впредь.
Однако Лидгейт не просто огорчился - его совершенно поразило, что жена,
даже не посоветовавшись с ним, решилась сесть на незнакомую лошадь.
Выразив свое изумление рядом негодующих восклицаний, он ненадолго умолк.
- Хорошо хоть, все благополучно обошлось, - сказал он твердо и
решительно. - Больше ты не будешь ездить верхом, Рози, это разумеется само
собой. Даже если бы ты выбрала самую смирную на свете лошадь, на которой
ездила много раз, то и тогда не исключен несчастный случай. Ты отлично
знаешь, именно поэтому я попросил тебя перестать ездить на нашей гнедой.
- Несчастные случаи не исключаются и в доме, Тертий.
- Не говори вздор, милая, - умоляюще произнес Лидгейт. - Предоставь уж
мне судить о таких делах. Я запрещаю тебе ездить верхом, и, по-моему, тут
больше не о чем разговаривать.
Розамонда причесывалась к обеду, и Лидгейт, который, сунув руки в
карманы, расхаживал из угла в угол, заметил в зеркале лишь, как слегка
повернулась ее прелестная головка. Он выжидательно остановился возле
Розамонды.
- Подколи мне косы, милый, - попросила она и со вздохом уронила руки,
чтобы мужу стало совестно за то, что он так груб. Лидгейт не раз уже
оказывал жене эту услугу, проявляя редкостную для мужчины умелость. Легким
движением красивых крупных пальцев он приподнял шелковистые петли кос и
вколол высокий гребень (чего только не приходится делать мужьям!); а уж
теперь нельзя было не поцеловать оказавшийся у самых его глаз нежный
затылок. Но, повторяя нынче точно то, что делали вчера, мы часто делаем
это не по-вчерашнему: Лидгейт все еще сердился и не забыл причину спора.
- Я скажу капитану, чтобы впредь он не приглашал тебя на такие
прогулки, - заключил он, поворачиваясь к дверям.
- А я прошу тебя не делать этого, Тертий, - возразила Розамонда, как-то
особенно взглянув на него. - Получится, что ты обращаешься со мной как с
ребенком. Обещай предоставить все мне.
В ее словах была доля истины. Лидгейт с угрюмой покорностью буркнул:
"Ну, хорошо", и спор кончился тем, что он дал обещание Розамонде, а не она
- ему.
Она, собственно, и не собиралась давать обещаний. Розамонда не
растрачивала силы в спорах, и эта тактика неизменно приносила успех.
Нравилось ей что-то - значит, так и нужно делать, и она пускалась на все
уловки, стремясь добиться своего. Прекращать верховые прогулки она вовсе
не намеревалась и, воспользовавшись первой же отлучкой мужа, вновь
отправилась кататься, устроив так, чтобы он не успел ее задержать. Соблазн
и впрямь был велик: ездить верхом вообще приятно, а на породистой лошади,
когда рядом на породистой же лошади скачет капитан Лидгейт, сын сэра
Годвина, каждая встреча (кроме встречи с мужем) доставляет блаженство,
какое представлялось Розамонде лишь в мечтах перед свадьбой, к тому же она
укрепляла таким образом связи с Куоллингемом, что было разумно.
Но впечатлительная серая кобыла, внезапно услыхав треск дерева,
срубленного в этот миг на опушке Холселлского леса, напугалась сама и еще
сильней напугала Розамонду, в результате чего та лишилась ребенка. Лидгейт
не позволил себе обнаружить гнев перед женой, зато неделикатно обошелся с
капитаном, который, разумеется, в скором времени отбыл.
При всех последующих разговорах Розамонда сдержанным и кротким тоном
уверяла, что прогулка не принесла вреда и, если бы она осталась дома,
произошло, бы то же самое, ибо она уже и раньше чувствовала временами
некоторое недомогание.
Лидгейт сказал лишь: "Бедняжка моя, бедняжка!", но в душе ужаснулся
поразительному упорству этого кроткого существа. С изумлением он все
сильнее ощущал свою полнейшую беспомощность. Вопреки ожиданиям, Розамонда
не только не преклонялась перед его образованностью и умом, она попросту
отмахивалась от них при решении всех практических вопросов. Прежде он
полагал, что ум Розамонды, как и всякой женщины, проявляется в
восприимчивости и отзывчивости. Сейчас он начал понимать, что представляет
собой ее ум, в какую форму он себя облекает, ограждая собственную
независимость. Розамонда удивительно быстро умела обнаружить причины и
следствия, когда дело касалось ее интересов: она сразу поняла, насколько
Лидгейт выше всех в Мидлмарче, а воображение ей подсказало, что талант
позволит ему продвинуться по общественной лестнице намного дальше; но,
мечтая об этом продвижении, Розамонда придавала врачебной деятельности и
научным исследованиям мужа не больше значения, чем если бы он случайно
изобрел какую-то дурно пахнущую мазь. Во всем, что не касалось этой мази,
о которой Розамонда не желала ничего знать, она, разумеется, предпочитала
полагаться не на мнение мужа, а на свое. Любовь к мужу не сделала ее
уступчивой. Лидгейт с изумлением обнаружил это при бесчисленных размолвках
по пустячным поводам, а теперь убедился, что и в серьезных делах она
желает поступать по-своему. В ее любви он не сомневался, и у него не
возникало опасений, что Розамонда может к нему перемениться. Так же твердо
был он убежден в неизменности собственных чувств, мирился с ее
строптивостью, но - увы! - он ощущал с тревогой, что в его жизни
появляется нечто новое, столь же губительное для него, как сток нечистот
для существа, привыкшего дышать, плескаться и гоняться за серебристой
добычей в чистейших водах.
А Розамонда вскоре стала выглядеть еще милей, сидя за рабочим столиком
или катаясь в отцовском фаэтоне, и уже подумывала о поездке в Куоллингем.
Она знала, что украсит тамошнюю гостиную гораздо лучше, чем хозяйские
дочки, и, уповая на вкус джентльменов, опрометчиво упускала из виду, что
леди едва ли стремятся уступить ей пальму первенства.
Лидгейт, перестав тревожиться о жене, впал в угрюмость - это слово
возникало в мыслях у Розамонды каждый раз, когда он думал о чем-то к ней
не относящемся, озабоченно хмурился и раздражался по любому ничтожному
поводу. В действительности его "угрюмость", словно стрелка барометра,
свидетельствовала о том, что он огорчен и встревожен. Об одном из
обстоятельств, порождавших его тревогу, он из ложно понимаемого
благородства не упоминал при Розамонде, опасаясь, что это дурно повлияет
на ее настроение и здоровье. Они оба совсем не умели читать мысли друг
друга, что случается даже с людьми, постоянно думающими один о другом.
Лидгейту казалось, что из любви к Розамонде он постоянно приносит в жертву
свой труд и самые заветные надежды; он терпеливо сносил ее прихоти и
капризы, главное же - не выказывая обиды, сносил все более откровенное
безразличие к его научным изысканиям, которым сам он предавался с
бескорыстным и горячим энтузиазмом, долженствующим, по его мнению,
вызывать почтительное восхищение идеальной жены. Но невзирая на свою
сдержанность, Лидгейт все же испытывал недовольство собой и - признаемся
честно - не без оснований. Ведь бесспорно, что, не будь мы столь мелочны,
обстоятельства не имели бы над нами такой власти, а это самое
огорчительное во всех неурядицах, включая супружеские. Лидгейт понимал,
что, уступая Розамонде, он сплошь и рядом просто проявляет слабость,
предательскую нерешительность, поддавшись которым может охладеть ко всему,
не связанному с обыденной стороной жизни. Он бы не чувствовал себя так
унизительно, если бы его сломила серьезная беда, тяжкое горе, а не
постоянно гложущая мелкая забота из числа тех, что выставляют в комическом
свете самые возвышенные усилия.
Вот эту-то заботу он до сих пор старался скрыть от Розамонды,
удивляясь, как она сама не догадается о его затруднениях. Печальные
обстоятельства были слишком очевидны, и даже сторонние наблюдатели давно
сделали вывод, что доктор Лидгейт запутался в долгах. Его не оставляла
мысль, что с каждым днем он все глубже погружается в болото, прикрытое
заманчивым ковром цветов и муравы. Поразительно, как быстро увязаешь там
по шею и, как бы величественны ни были прежде твои замыслы, думаешь лишь о
том, как выбраться из трясины.
Полтора года назад Лидгейт был беден, но не тревожился о том, у кого бы
раздобыть мизерную сумму, и презирал снедаемых подобными заботами людей.
Сейчас ему не просто не хватало денег - он очутился в тягостном положении
человека, накупившего множество ненужных ему вещей, за которые он не в
состоянии расплатиться, в то время как кредиторы настойчиво требуют
платежа.
Как это получилось, понять легко, даже не зная арифметики и
прейскурантов. Когда человек, вступая в брак, обнаруживает, что покупка
мебели и прочие траты на обзаведение превышают на четыреста или пятьсот
фунтов его наличный капитал; когда к концу года оказывается, что расходы
на домашнее хозяйство, лошадей et caeteras [и так далее (лат.)] достигли
чуть ли не тысячи, в то время как доход от практики, который, по его
расчетам, должен был равняться восьми сотням в год, усох до пятисот",
причем большая часть пациентов с ним до сих пор не расплатилась, он, как
это ни прискорбно, неизбежно делается должником. В ту пору жили менее
расточительно, чем в наше время, а в провинции вообще довольно скромно, но
если у врача, который недавно купил практику, почитает необходимым держать
двух лошадей, не скупится на стол и к тому же выплачивает страховые взносы
и снимает за высокую цену дом и сад, сумма расходов вдвое превысит сумму
доходов, это ничуть не удивит того, кто снизойдет до рассмотрения
названных обстоятельств. Розамонда, выросшая в даме, где все было
поставлено на широкую ногу, полагала, что хорошая хозяйка должна
заказывать только самое лучшее - иначе неудобно. Лидгейт тоже считал, что
"если уж делать, то делать как следует", другого образа действий он себе
не представлял. Если бы каждая хозяйственная трата обсуждалась заранее,
он, вероятно, говорил бы по поводу любой из них: "да что там, пустяки!", а
если бы ему предложили проявить бережливость в каком-нибудь отдельном
случае, скажем, заменить дорогую рыбу более дешевой, он назвал бы это
мелочной, грошовой экономией. Розамонда охотно приглашала гостей не только
во время визита капитана Лидгейта, и муж не возражал, хотя они ему
надоедали. Он считал, что врачу полагается держать открытый дом и при этом
не скаредничать. Правда, самому ему нередко приходилось посещать дома
бедняков, где он назначал больным диету, сообразуясь с их скромными
средствами. Но, бог ты мой! Что же тут удивительного? Разве, наблюдая
уклад жизни окружающих нас людей, мы когда-нибудь сравниваем его со своим?
Расточительность - так же как заблуждения и невзрачность - измеряется
иными мерками, когда речь идет о нас самих, и мы оцениваем ее, памятуя об
огромной разнице между нашей собственной персоной и прочими людьми.
Лидгейт думал, что он равнодушен к одежде, и презирал склонных к
щегольству мужчин. Обширность собственного гардероба нисколько его не
смущала: костюмы ведь заказывают целыми дюжинами, как же еще? Не надо
забывать, что до сих пор он был свободен от долгов и руководствовался не
рассуждениями, а привычкой. Но этой свободе пришел конец.
Кабала была особенно невыносимой оттого, что он познал ее впервые. Его
возмутило, его потрясло, что обстоятельства, настолько чуждые всем его
целям, никоим образом не связанные с тем, что его занимало, застигли его
врасплох и всецело себе подчинили. А ведь в том положении, в котором он
очутился, сумма долга непременно возрастет. Двое поставщиков мебели из
Брассинга, чьи счета он не оплатил перед женитьбой и расплатиться с
которыми потом ему помешали непредвиденные текущие расходы, то и дело
напоминали о себе, присылая неприятные письма. Труднее, чем кому-либо,
было смириться с этим Лидгейту, непомерно гордому и не любившему
одалживаться и просить. Ему казалось унизительным рассчитывать на помощь
мистера Винси, и даже если бы ему не намекали разными способами, что дела
тестя не процветают и от него не следует ждать поддержки, Лидгейт
обратился бы к нему только в случае крайней нужды. Иные охотно возлагают
надежды на отзывчивость родственников; Лидгейту никогда не приходило на
ум, что он будет вынужден к ним обратиться, - он еще не раздумывал,
приятно ли просить взаймы. Сейчас, когда у него возникла такая идея, он
понял, что предпочтет вынести все что угодно, только не это. А денег не
было, и надежды получить их - тоже, врачебная же практика не становилась
доходнее,
Стоит ли удивляться, что Лидгейту не удавалось скрыть тревогу, и
теперь, когда Розамонда полностью оправилась, он подумывал о том, чтобы
посвятить в свои затруднения жену. Новое отношение к счетам поставщиков
заставило его на многое взглянуть по-новому: он по-новому теперь судил о
том, без чего невозможно обойтись, а без чего возможно, и осознал
необходимость перемен. Да, но как их осуществить без согласия Розамонды? В
скором времени ему представилась возможность сообщить жене об их плачевных
обстоятельствах.
Секретным образом наведя справки, какое обеспечение может представить
находящийся в его положении человек, Лидгейт выяснил, что он располагает
вполне надежным обеспечением, и предложил его одному из наименее
настойчивых своих кредиторов, мистеру Дувру, серебряных дел мастеру и
ювелиру, согласившемуся также переписать на себя счет от обойщика и на
определенный срок удовольствоваться получением процентов. Таким
обеспечением послужила закладная на мебель, и, заполучив ее, кредитор на
время успокоился, поскольку его счет не превышал четырехсот фунтов; к тому
же мистер Дувр собирался еще уменьшить его, приняв от доктора назад часть
столового серебра и любых других предметов, не попортившихся от
употребления. Под "любыми другими предметами" деликатно подразумевались
драгоценности, а говоря еще точнее - лиловые аметисты, купленные Лидгейтом
за тридцать фунтов в качестве свадебного подарка.
Не все, вероятно, сойдутся во мнениях по поводу подобного подарка: иные
сочтут его галантным знаком внимания, вполне естественным для такого
джентльмена, как Лидгейт, а в последующих неурядицах обвинят скаредную
ограниченность провинциальной жизни, крайне неудобную для тех, чье
состояние несоразмерно вкусам, попеняют также Лидгейту за смехотворную
щепетильность, помешавшую ему обратиться за помощью к родне.
Как бы там ни было, этот вопрос не показался ему важным в то прекрасное
утро, когда он отправился к мистеру Дувру окончательно договориться
относительно заказа на столовое серебро; рядом с остальными
драгоценностями, стоящими огромных денег, еще один заказ, добавляемый к
многим другим, сумма которых не подсчитана точно, всего лишь тридцать
фунтов за убор, словно созданный, чтобы украсить плечи и шею Розамонды, не
выглядел излишним расточительством, тем более что за него не надо было
платить наличными. Но оказавшись в критических обстоятельствах, Лидгейт
невольно подумывал, что аметистам неплохо бы возвратиться в лавку мистера
Дувра, хотя не представлял себе, как предложить такое Розамонде. Наученный
опытом, он мог предугадать последствия беседы с Розамондой и заранее
готовился (отчасти, а отнюдь не в полной мере) проявить твердость,
подобную той, какой он вооружался при проведении экспериментов.
Возвращаясь верхом из Брассинга, он собирался с духом перед нелегким
объяснением с женой.
Домой он добрался к вечеру. Он чувствовал себя глубоко несчастным -
этот сильный, одаренный двадцатидевятилетний человек. Он не твердил себе,
что совершил ужасную ошибку, но сознание ошибки не отпускало его ни на
миг, как застарелая болезнь, омрачая любую надежду, замораживая любую
мысль. Подходя к гостиной, он услышал пение и звуки фортепьяно.
Разумеется, у них сидел Ладислав. Прошло несколько недель с тех пор,
как он простился с Доротеей, но он все еще оставался в Мидлмарче, на
прежнем посту. Лидгейт вообще не возражал против его визитов, но именно
сейчас его раздражило присутствие постороннего. Когда он показался в
дверях, Уилл и Розамонда взглянули в его сторону, но продолжили дуэт, не
считая нужным прерывать пение из-за его прихода. Измученный Лидгейт,
вошедший в дом с сознанием, что ему предстоят еще и новые тяготы после
тяжелого дня, не испытал умиления при виде разливающегося трелями дуэта.
Его бледное лицо нахмурилось, и, молча пройдя через комнату, он рухнул в
кресло.
Они допели оставшиеся три такта и повернулись к нему.
- Как поживаете, Лидгейт? - спросил Уилл, направляясь к нему
поздороваться.
Лидгейт пожал Уиллу руку, но не счел нужным отвечать.
- Ты пообедал, Тертий? Я ждала тебя гораздо раньше, - сказала
Розамонда, уже заметившая, что муж в "ужасном настроении". Произнеся эти
две фразы, она опустилась на свое всегдашнее место.
- Пообедал. Мне бы хотелось чаю, - отрывисто ответил Лидгейт, продолжая
хмуриться и подчеркнуто глядя на свои вытянутые ноги.
Уиллу не понадобилось дальнейших намеков. Он взял шляпу и сказал:
- Я ухожу.
- Скоро будет чай, - сказала Розамонда. - Не уходите, прошу вас.
- Лидгейт сегодня не в настроении, - ответил Уилл, лучше понимавший
Лидгейта, чем Розамонда, и не обиженный его резкостью, ибо вполне
допускал, что у доктора могло быть много неприятностей за день.
- Тем более вам следует остаться, - кокетливо возразила Розамонда своим
самым мелодичным голоском. - Он весь вечер не будет со мной разговаривать.
- Буду, Розамонда, - прозвучал глубокий баритон Лидгейта. - У меня к
тебе важное дело.
Отнюдь не так намеревался он приступить к разговору о деле, но его
вывел из терпения безразличный тон жены.
- Ну вот, видите! - сказал Уилл. - Я иду на собрание по поводу
организации курсов механиков (*158). До свидания. - И он быстро вышел.
Розамонда, так и не взглянув на Лидгейта, вскоре встала и заняла свое
место у чайного подноса. Она подумала, что никогда еще муж не выглядел
таким несимпатичным. А он внимательно следил, как она разливает чай
изящными движениями тонких пальчиков, бесстрастно глядя только на поднос,
ничем не выдавая своих чувств и в то же время выражая неодобрение всем
неучтивым людям. На миг он позабыл о своей боли, пораженный редкостным
бесчувствием этого грациозного создания, прежде казавшегося ему
воплощением отзывчивости. Глядя на Розамонду, он вдруг вспомнил Лауру и
мысленно спросил себя: "А она могла бы меня убить за то, что я ей надоел?"
- и ответил: "Все женщины одинаковы". Но стремление обобщать, благодаря
которому человек ошибается гораздо чаще, чем бессловесные твари, внезапно
встретило помеху - Лидгейт вспомнил, как удивительно вела себя другая
женщина, - вспомнил, как тревожилась за мужа Доротея, когда Лидгейт начал
посещать их дом, вспомнил, как горячо она молила научить ее, чем утешить,
ублажить этого человека, ради которого подавляла все в своей душе, кроме
преданности и сострадания. Эти ожившие в его памяти картины быстро
проносились перед ним, пока заваривался чай. Продолжая грезить, он под
конец закрыл глаза и услышал голос Доротеи: "Дайте мне совет. Научите
меня, что делать. Он трудился всю жизнь и думал только о завершении своего
труда. Ничто другое его не интересует. И меня тоже..."
Этот голос любящей, великодушной женщины он сохранил в себе, как хранил
веру в свой бездействующий, но всесильный гений (нет ли гения возвышенных
чувств, также властвующего над душами и умами?); голос этот прозвучал,
словно мелодия, постепенно замирая, - Лидгейт на мгновение вздремнул,
когда Розамонда с мягкой отчетливостью, но безучастно произнесла: "Вот
твой чай, Тертий", поставила поднос на столик рядом с ним и, не взглянув
на мужа, вернулась на прежнее место. Лидгейт ошибался, осуждая ее за
бесчувственность; Розамонда была достаточно чувствительна на свой лад и
далеко не отходчива. Сейчас она обиделась на мужа, и он ей стал неприятен.
Но в подобных случаях она не хмурилась, не повышала голоса, как и положено
женщине, всегда убежденной в своей безупречности.
Быть может, никогда еще между ними не возникало такого отчуждения, но у
Лидгейта были веские причины не откладывать разговор, даже если бы он не
объявил о нем сразу же по приходе. Преждевременное сообщение вырвалось у
него не только от досады на жену и желания вызвать ее сочувствие, но и
потому, что, собираясь причинить ей страдание, он прежде всего страдал
сам. Впрочем, он подождал, пока унесут поднос, зажгут свечи и в комнате
воцарится вечерняя тишь. Тем временем нежность вновь вступила в свои
права. Заговорил он ласково.
- Рози, душенька, отложи работу, подойди сюда и сядь рядом со мной, -
нежно произнес он, отодвинув столик и подтаскивая для нее кресло поближе к
своему.
Розамонда повиновалась. Когда она приближалась к нему в платье из
неяркого прозрачного муслина, ее тоненькая, но округлая фигура выглядела
еще грациозней, чем всегда; а когда она села возле мужа, положила на ручку
его кресла руку и взглянула, наконец, ему в глаза, в ее нежных щеках и
шее, в невинном очертании губ никогда еще не было столько целомудренной
прелести, какой трогает нас весна, младенчество и все юное. Тронули они и
Лидгейта, и порывы его первой влюбленности в Розамонду перемешались со
множеством иных воспоминаний, нахлынувших на него в этот миг глубокого
душевного волнения. Он осторожно прикрыл своей крупной рукой ее ручку и с
глубокой нежностью сказал:
- Милая!
И Розамонда еще не освободилась от власти прошлого, и муж все еще
оставался для нее тем Лидгейтом, чье одобрение внушало ей восторг. Она
отвела от его лба волосы свободной рукой, положила ее на его руку и
почувствовала, что прощает его.
- Мне придется огорчить тебя, Рози. Но есть вещи, о которых муж и жена
должны думать вместе. Тебе, наверное, уже приходило в голову, что я
испытываю денежные затруднения.
Лидгейт сделал паузу; но Розамонда, отвернув головку, разглядывала вазу
на каминной доске.
- Я не мог расплатиться за все, что пришлось приобрести перед свадьбой,
а впоследствии возникли новые расходы. Все это привело к тому, что я
сильно задолжал поставщикам из Брассинга - триста восемьдесят фунтов - и
должен вернуть эту сумму как можно скорей, а положение наше с каждым днем
становится все хуже - ведь пациенты не стали более исправно платить из-за
того, что меня теребят кредиторы. Я старался скрыть это от тебя, пока ты
была нездорова, однако сейчас нам придется подумать об этом вдвоем, и ты
должна будешь мне помочь.
- Но что могу я сделать, Тертий? - спросила Розамонда, снова взглянув
на него.
Эта коротенькая, состоящая из шести слов фраза на любом языке выражает
в зависимости от модуляции всевозможные оттенки расположения духа - от
беспомощной растерянности до фундаментально обоснованной убежденности, от
глубочайшего самоотверженного участия до холодной отчужденности. Розамонда
проронила эти слова, вложив в них столько холода, сколько они были
способны вместить. Они заморозили пробудившуюся нежность. Лидгейт не
вспылил - слишком грустно стало у него на сердце. И когда он вновь
заговорил, он просто принуждал себя довести начатое до конца.
- Ты должна узнать об этом потому, что я был вынужден на время выдать
закладную и завтра к нам придут делать опись мебели.
Розамонда густо покраснела.
- Ты не просил денег у папы? - задала она вопрос, когда смогла
говорить.
- Нет.
- Ну тогда я у него попрошу, - сказала Розамонда, высвобождая руку,
затем встала и отошла шага на два.
- Нет, Рози, это поздно делать, - решительно возразил Лидгейт. - Опись
начнут составлять уже завтра. Это всего лишь закладная, не забывай;
временная мера: в нашей жизни она ничего не изменит. Я настаиваю, чтобы ты
ни слова не говорила отцу, пока я сам не решу, что пора, - добавил он
повелительным тоном.
Это, конечно, было грубо, но Розамонда пробудила в нем мучительные
опасения, что, не вступая по обыкновению в споры, ослушается его
приказания. Ей же эта грубость показалась непростительной, и хотя она не
любила плакать, у нее задрожали подбородок и губы и хлынули слезы.
Лидгейту, угнетенному, с одной стороны, настойчивостью кредиторов, с
другой - ожиданием унизительных для его гордости последствий, трудно было
представить себе, чем явилось это неожиданное испытание для избалованного
юного существа, привыкшего к одним лишь удовольствиям и мечтавшего только
о новых, еще более изысканных. Но ему больно было огорчать жену, и при
виде ее слез у него заныло сердце. Он растерянно замолк, но Розамонда
сумела справиться с собой и, не сводя глаз с каминной доски, вытерла
слезы.
- Не надо падать духом, дорогая, - сказал Лидгейт, глядя на жену.
Оттого, что в минуту душевной тревоги она отпрянула от него, ему было
труднее с ней говорить, но он не мог молчать. - Мы должны собраться с
силами и сделать все необходимое. Виновен во всем я: мне следовало видеть,
что мы живем не по средствам. Правда, мне очень не повезло с пациентами,
и, собственно говоря, мы ведь только сейчас оказались на мели. Я могу еще
поправить наши дела, но нам придется временно сократить расходы - изменить
образ жизни. Мы справимся, Рози. Договорившись о закладной, я выгадаю
время, чтобы осмотреться, а ты такая умница, что научишь меня
бережливости, если займешься хозяйством. Я был преступно расточителен и
беспечен, но прости меня, душенька, сядь подле меня.
Призвав на помощь все свое благоразумие, Лидгейт покорно гнул шею, как
пернатый хищник, наделенный не только когтями, но и разумом, побуждающим к
кротости. Когда он умоляющим тоном произнес последние слова, Розамонда
снова села рядом с ним. Его смирение пробудило в ней надежду, что он
прислушается к ее мнению, и она сказала:
- Почему бы не отложить эту опись? Отошли этих людей, когда они придут
к нам описывать мебель.
- Не отошлю, - ответил Лидгейт, к которому тотчас вернулась прежняя
непреклонность. Все его разъяснения, как видно, были ни к чему.
- Если мы уедем из Мидлмарча, нам все равно придется продать
обстановку.
- Но мы не собираемся отсюда уезжать.
- Право, Тертий, для нас это наилучший выход. Почему бы нам не
поселиться в Лондоне? Или близ Дарема, где хорошо знают твою семью.
- Нам некуда переезжать без денег, Розамонда.
- Твои родственники не позволят тебе остаться без денег. А эти мерзкие
поставщики, если ты им все как следует растолкуешь, образумятся и
подождут.
- Вздор, Розамонда, - сердито ответил. Лидгейт. - Тебе давно пора бы
научиться полагаться на мое суждение о делах, в которых ты сама не
смыслишь. Я сделал нужные распоряжения, их следует теперь исполнить. Что
до моих родственников, то я ничего от них не жду и ничего не собираюсь
просить.
Розамонда не шелохнулась. Она думала о том, что если бы знала заранее,
каким окажется ее муж, то ни в коем случае не вышла бы за него.
- Ну, не будем больше тратить времени на бесполезные слова, - заговорил
как можно мягче Лидгейт. - Нам еще нужно обсудить кое-какие подробности.
Дувр предлагает взять у нас назад часть столового серебра и те
драгоценности, которые мы пожелаем возвратить. Право, он ведет себя очень
порядочно.
- Значит, мы будем обходиться без ложек и вилок? - спросила Розамонда
таким тонким голоском, что, казалось, у нее и губы стали тоньше. Она
решила не спорить больше и не настаивать ни на чем.
- Разумеется, нет, душенька! - ответил Лидгейт. - А теперь взгляни
сюда, - добавил он, вытаскивая из кармана лист бумаги и разворачивая его.
- Это счет мистера Дувра. Видишь, если мы возвратим то, что я отметил в
списке, общая сумма долга сократится более чем на тридцать фунтов.
Драгоценностей я не отмечал.
Вопрос о драгоценностях был особенно неприятен Лидгейту, но, повинуясь
чувству долга, он преодолел себя. Он не мог предложить Розамонде вернуть
какой-нибудь из полученных от него во время сватовства подарков, но считал
себя обязанным рассказать ей о предложении ювелира и надеялся на ее полное
сочувствие.
- Мне незачем смотреть на этот список, Тертий, - невозмутимо произнесла
Розамонда. - Можешь возвратить все, что тебе угодно.
Она упорно смотрела в сторону, и Лидгейт, покраснев до корней волос,
опустил руку, в которой держал счет от ювелира. Тем временем Розамонда с
безмятежным видом вышла из комнаты. Лидгейт растерялся. Вернется ли она?
Она держала себя с ним так отчужденно, словно они существа разной породы и
между ними нет ничего общего. Тряхнув головой, он с вызывающим видом сунул
руки глубоко в карманы. Что ж, у него остается наука, высокие цели, ради
которых стоит трудиться. Сейчас, когда у него не осталось других радостей,
он должен удвоить усилия.
Но тут дверь отворилась, и снова вошла Розамонда. Она принесла кожаный
футляр с аметистами и крохотную корзиночку с остальными футлярами; положив
то и другое на кресло, где только что сидела, она с достоинством
произнесла:
- Здесь все драгоценности, которые ты мне дарил. Можешь вернуть
поставщику все, что захочешь, и из этих украшений, и из столового серебра.
Разумеется, я не останусь завтра дома. Я уеду к папе.
Многие женщины предпочли бы гневный взгляд тому, который устремил на
жену Лидгейт: он выражал безысходную убежденность, что отныне они чужие.
- И когда же ты возвратишься? - спросил он с горечью.
- К вечеру. Маме я, конечно, ничего не скажу.
Не сомневаясь, что ведет себя самым безупречным образом, Розамонда
вновь уселась за рабочий столик. Поразмыслив минуту-другую, Лидгейт
обратился к жене, и в его голосе прозвучала нотка былой нежности:
- Теперь, когда мы связаны с тобою, Рози, не годится тебе оставлять
меня без помощи при первой же невзгоде.
- Конечно, нет, - сказала Розамонда, - я сделаю все, что мне подобает.
- Неприлично поручать такое дело слугам и просить их исполнить его
вместо нас. Мне же придется уехать... в котором часу, я не знаю. Я
понимаю, для тебя и унизительны, и неприятны все эти денежные дела. Но,
Розамонда, милая, наша гордость - а ведь моя задета так же, как твоя, -
право же, меньше пострадает, если мы возьмем на себя это дело и
постараемся по возможности не посвящать в него слуг. Раз ты моя жена, то
почему тебе не разделить и мой позор, если это позорно?
Розамонда не ответила сразу, но немного погодя сказала:
- Хорошо, я останусь дома.
- Забери свои драгоценности, Рози. Я ни одной из них не возьму. Зато я
составлю список столового серебра, без которого мы можем обойтись, и его
нужно немедленно упаковать и возвратить серебряных дел мастеру.
- Слуги узнают об этом, - не без сарказма заметила Розамонда.
- Что поделаешь, такие неприятности неизбежны. Где чернила, хотел бы я
знать? - спросил Лидгейт, поднявшись и бросив счет ювелира на большой
стол, за которым намеревался писать.
Розамонда принесла чернильницу и, поставив ее на стол, хотела отойти,
но тут Лидгейт ее обнял, привлек к себе и сказал:
- Постой, милая, не уходи так. Ведь нам, я надеюсь, недолго придется
ограничивать себя и экономить. Поцелуй меня.
Его природное добросердечие не так легко было поколебать, к тому же
истинному мужчине свойственно чувствовать свою вину перед неопытной
девушкой, которая, став его женой, обрекла себя на невзгоды. Розамонда
слабо ответила на его поцелуй, и между ними временно возобновилась
видимость согласия. Но Лидгейт с ужасом думал о неминуемых будущих спорах
по поводу излишних трат и необходимости полностью изменить образ жизни.
59
Когда-то говорили, что душа
Сама как человек, но лишь воздушный -
И может тело вольно покидать.
Взгляните, рядом с девичьим лицом
Парит почти неуловимый образ,
Шепча подсказки в нежное ушко.
Слухи распространяются столь же бездумно и поспешно, как цветочная
пыльца, которую (сами не ведая о том) разносят пчелы, когда с жужжанием
снуют среди цветов, разыскивая нужный им нектар. Наше изящное сравнение
применимо к Фреду Винси, который, посетив дом лоуикского священника,
присутствовал там вечером при разговоре дам, оживленно обсуждавших
новости, услышанные старухой служанкой от Тэнтрип, о сделанной мистером
Кейсобоном незадолго до смерти странной приписке к завещанию по поводу
мистера Ладислава. Мисс Уинифред изумило, что ее брату давно уже все
известно, - поразительный человек Кэмден, сам, оказывается, все знает и
никому не говорит. Мэри Гарт заметила, что, может быть, рассказ о
завещании затерялся среди рассказов об обычаях и нравах пауков, которые
мисс Уинифред никогда не слушает. Мисс Фербратер усмотрела связь между
интересной новостью и тем, что мистер Ладислав всего лишь раз побывал в
Лоуике, а мисс Ноубл все время что-то жалостливо попискивала.
Фред, который ничего не знал, да и знать не хотел ни о Ладиславе, ни о
Кейсобонах, тотчас же забыл весь этот разговор и припомнил его, лишь
когда, заехав по поручению матери к Розамонде, в дверях столкнулся с
уходившим Ладиславом. Сейчас, когда замужество Розамонды положило конец ее
пикировке с братом, им почти не о чем было беседовать друг с другом,
особенно после того, как Фред предпринял неразумный и даже
предосудительный, по ее мнению, шаг, отказавшись от духовного сана и
сделавшись подручным мистера Гарта. Фред поэтому, предпочитая говорить о
постороннем и "a propos [кстати (фр.)], об этом Ладиславе", упомянул
услышанную им в Лоуике новость.
Лидгейт, как и мистер Фербратер, знал намного больше, чем рассказал
сестре Фред, а воображение увело его и того дальше. Он решил, что Доротею
и Уилла связывает взаимная нежная страсть, и не счел возможным сплетничать
по поводу столь серьезных обстоятельств. Припомнив, как был рассержен
Уилл, когда он упомянул при нем о миссис Кейсобон, Лидгейт постарался
держаться с ним как можно осмотрительнее. Дополнив домыслами то, что он
доподлинно знал, он еще более дружелюбно и терпимо стал относиться к
Ладиславу и уже не удивлялся, почему тот, объявив о своем намерении
уехать, не решается покинуть Мидлмарч. Знаменательно, что у Лидгейта не
возникло желания говорить об этом с Розамондой, - супруги очень отдалились
друг от друга, к тому же он просто побаивался, как бы жена не проболталась
Уиллу. И оказался прав, хотя не представлял себе, какой повод изберет
Розамонда, чтобы затеять этот разговор.
Когда она пересказала Лидгейту услышанную от Фреда новость, он
воскликнул:
- Будь осторожна, не намекни об этом Ладиславу. Он безумно оскорбится.
Обстоятельства и впрямь щекотливы.
Розамонда отвернулась и с равнодушным видом стала поправлять прическу.
Но когда Уилл пришел к ним в следующий раз, а Лидгейта не оказалось дома,
она лукаво напомнила гостю, что, вопреки своим угрозам, он так и не уехал
в Лондон.
- Ля все знаю. Не скажу от кого, - проговорила она, приподняв вязанье и
кокетливо поверх него поглядывая. - В нашей местности имеется
могущественный магнит.
- Конечно. Вам это известно лучше всех, - не задумываясь, галантно
ответил Уилл, хотя ему не понравился новый оборот разговора.
- Нет, действительно, какой очаровательный роман: ревнивый мистер
Кейсобон предвидит, что есть некий джентльмен, женой которого охотно стала
бы миссис Кейсобон, а этот джентльмен столь же охотно женился бы на ней, и
тогда, чтобы им помешать, он устраивает так, что его жена лишается
состояния, если выйдет за этого джентльмена... и тогда... и тогда... и
тогда... о, я не сомневаюсь: все окончится необычайно романтично.
- Великий боже! Что вы имеете в виду? - сказал Уилл, у которого
багровой краской запылали щеки и уши и судорожно исказилось лицо. -
Перестаньте шутить. Объясните, что вы имеете в виду?
- Как, вы в самом деле ничего не знаете? - спросила Розамонда, весьма
обрадовавшись возможности пересказать все по порядку и произвести как
можно большее впечатление.
- Нет! - нетерпеливо отозвался он.
- Вы не знаете, что мистер Кейсобон так распорядился в завещании, что
миссис Кейсобон лишится всего, если выйдет за вас замуж?
- Откуда вам это известно? - взволнованно спросил Уилл.
- Мой брат Фред слышал об этом у Фербратеров.
Уилл вскочил и схватил шляпу.
- Не сомневаюсь, что миссис Кейсобон предпочтет вас поместью, - лукаво
произнесла Розамонда.
- Бога ради, больше ни слова об этом, - так хрипло и глухо проговорил
Уилл, что трудно было узнать его обычно мелодичный голос. - Это гнусное
оскорбление для миссис Кейсобон и для меня. - Затем он сел с отсутствующим
видом, глядя прямо перед собой и ничего не видя.
- Ну вот, теперь вы на меня же и рассердились, - сказала Розамонда. -
Как не совестно. Ведь вы от меня все узнали и должны быть мне благодарны.
- Я вам благодарен, - отрывисто отозвался Уилл как человек в
гипнотическом сне, отвечающий на вопросы не просыпаясь.
- Надеюсь, мы скоро услышим о свадьбе, - весело прощебетала Розамонда.
- Никогда! О свадьбе вы не услышите никогда!
Выпалив эти слова, он встал, протянул руку Розамонде все с тем же
сомнамбулическим видом и ушел.
Оставшись одна, Розамонда встала с кресла, прошла в дальний конец
комнаты и прислонилась к шифоньеру, с тоской глядя в окно Она опечалилась
и испытывала досаду, предшествующую тривиальной женской ревности, лишенной
почвы и оснований - если не считать основанием эгоистические причуды и
капризы, - но в то же время способной побудить к поступкам, не только к
словам. "Право же, не стоит расстраиваться", - мысленно утешила себя
бедняжка, думая о том, что куоллингемская родня ей не пишет, что Тертий,
вероятно, придя домой, начнет ей досаждать нотациями о расходах. Тайно она
уже ослушалась его и попросила отца о помощи, на что тот решительно
ответил: "Того гляди, мне самому понадобится помощь".