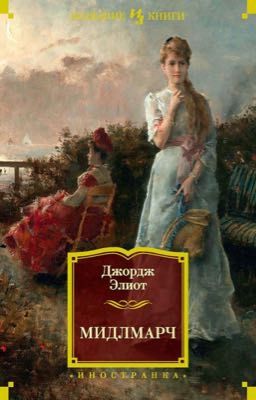«Мидлмарч» Джордж Элиот. Главы 40-49
40
Усерден он, прилежен был,
Свою работу знал;
О вере спор не заводил,
Страной не управлял.
Хоть скромен и безвестен он,
Где без его труда
Искусства были б, и закон,
И наши города?
Наблюдая действие хотя бы даже электрической батареи, нередко бывает
необходимо переменить место и исследовать данную смесь или сочетание
элементов на некотором расстоянии от точки, где возникло интересующее нас
движение. Сочетание элементов, к которым я обращаю взгляд теперь, это
семья Кэлеба Гарта, завтракающая в большой комнате с картами на стенах и
письменным столом в углу, - отец, мать и пятеро детей. Мэри в ожидании
места жила пока дома, а Кристи, старший из мальчиков, получал недорогое
образование и ел всухомятку в Шотландии, так как, к большому разочарованию
отца, предпочел книги его возлюбленному "делу".
Пришла почта - девять дорогих писем, за которые почтальону было
уплачено по три и по два пенса. Мистер Гарт отодвинул чай и жареный хлеб и
принялся читать их одно за другим, укладывая затем стопкой. Иногда он
покачивал головой, а иногда кривил губы во внутреннем споре, и все же не
забыл срезать большую красную сургучную печать, которую Летти тотчас
схватила с быстротой терьера.
Остальные продолжали спокойно разговаривать - когда Кэлеб бывал чем-то
поглощен, он замечал окружающих, только если они толкали стол, на котором
он писал.
Два письма из девяти предназначались Мэри. Она прочитала их и передала
матери, а сама рассеянно поигрывала ложечкой, пока вдруг не вспомнила про
рукоделье, которое лежало у нее на коленях.
- Ой, Мэри, да не начинай ты снова шить! - воскликнул Бен, ухватив ее
локоть. - Лучше вылепи мне павлина! - И он протянул ей комочек хлебного
мякиша, который нарочно для этого разминал.
- Нет уж, баловник! - ласково ответила Мэри и чуть-чуть кольнула
иголкой его руку. - Вылепи его сам. Ты же столько раз видел, как я это
делаю. И мне надо докончить платок. Розамонда Винси выходит замуж на
будущей неделе, и без этого платочка свадьбе не бывать! - весело докончила
Мэри, которую эта фантазия очень насмешила.
- А почему не бывать, Мэри? - спросила Летти, серьезно заинтригованная
этой тайной, и так близко придвинулась к сестре, что Мэри приставила свою
грозную иглу к ее носу.
- Потому что он входит в дюжину и без него платков будет только
одиннадцать, - с самым серьезным видом объяснила она, и Летти
удовлетворенно отодвинулась.
- Ты что-нибудь решила, деточка? - спросила миссис Гарт, откладывая
письма.
- Я поеду в Йорк, - ответила Мэри. - В школьные учительницы я все-таки
гожусь больше, чем в домашние. Учить целый класс мне приятнее. А
учительницей так или иначе я стать должна, ведь ничего другого мне найти
не удалось.
- По-моему, в мире нет более чудесного занятия, чем учить, - произнесла
миссис Гарт с легким упреком. - Я бы еще могла понять такое нежелание,
Мэри, если бы ты была невежественна или не любила детей.
- Наверное, мы неспособны понимать, почему другим не нравится то, что
нравится нам, - сказала Мэри довольно резко. - Я недолюбливаю тесные
классные комнаты. Мир за их окнами влечет меня гораздо больше. Такой уж у
меня неудобный недостаток.
- А наверное, очень скучно без конца учить девчонок, - сказал Альфред.
- Они все такие пустышки и ходят парами, как в пансионе миссис Боллард.
- И ни в одну стоящую игру играть не умеют, - сказал Джим. - Ни
бросать, ни прыгать. Конечно, Мэри это не нравится.
- Э? Что Мэри не нравится? - спросил Кэлеб, откладывая письмо, которое
собирался вскрыть, и глядя на дочь поверх очков.
- Возиться со всякими пустышками, - ответил Альфред.
- Тебе предлагают место, Мэри? - мягко сказал Кэлеб, глядя на дочь.
- Да, папа. В одном пансионе в Йорке. Я решила согласиться. Условия
намного лучше, чем в остальных местах. Тридцать пять фунтов в год и
дополнительная плата за уроки музыки - учить малышек барабанить по
клавишам.
- Бедная девочка! Я бы предпочел, чтобы она осталась дома с нами,
Сьюзен, - сказал Кэлеб, бросая жалобный взгляд на жену.
- Мэри может быть счастлива, только исполняя свой долг, -
нравоучительно произнесла миссис Гарт в полном убеждении, что она свой
долг исполнила.
- Какое же это счастье - исполнять такой дрянной долг! - воскликнул
Альфред, и Мэри с отцом беззвучно засмеялись, но миссис Гарт сказала
строго:
- Милый Альфред, постарайся найти более пристойное слово, чем
"дрянной", для всего того, что ты находишь неприятным. А ты подумал, что
Мэри таким образом будет зарабатывать деньги и для того, чтобы ты мог
поступить к мистеру Хэнмеру?
- По-моему, это очень плохо. Но сама она друг что надо! - сказал
Альфред, встал со стула, обнял Мэри за шею и поцеловал.
Мэри порозовела и засмеялась, но не сумела скрыть навернувшиеся на
глаза слезы. Кэлеб поглядел на нее поверх очков, поднял брови с
выражением, в котором радость мешалась с огорчением, и опять взял
невскрытое письмо. А миссис Гарт довольно улыбнулась и не сделала
замечания Альфреду за вульгарное выражение, несмотря даже на то, что Бен
немедленно его подхватил и принялся распевать: "Она друг что надо, что
надо, что надо!", отбивая кулачком бойкий ритм на плече Мэри.
Впрочем, миссис Гарт было теперь не до него: она не сводила глаз с
углубившегося в письмо мужа, встревоженная растерянным изумлением на его
лице. Однако Кэлеб не любил, чтобы его отрывали от чтения, и она с
беспокойством ждала, но он вдруг весь задрожал от веселого смеха, снова
заглянул в начало письма, прищурился над очками и сказал негромко:
- Ну, что ты скажешь, Сьюзен?
Она подошла к нему, положила руки ему на плечи, и они прочли письмо
вместе. Сэр Джеймс Четтем осведомлялся, не согласится ли мистер Гарт взять
на себя управление его фамильными землями во Фрешите и других местах, и
добавлял, что имеет поручение от мистера Брука узнать, не захочет ли
мистер Гарт одновременно вновь стать управляющим Типтон-Грейнджа. Баронет
в весьма лестных выражениях объяснял, что сам он очень желал бы, чтобы
земли Фрешита и Типтон-Грейнджа находились в ведении одного лица, и
выражал надежду, что условия такого двойного управления окажутся
приемлемыми для мистера Гарта, которого он будет рад видеть во
Фрешит-Холле в двенадцать часов на следующий день.
- Он пишет очень любезно, так ведь, Сьюзен? - спросил Кэлеб, поднимая
глаза на жену, которая прижалась подбородком к его затылку и ущипнула его
за ухо. - А Брук сам меня просить не захотел, - добавил он, беззвучно
рассмеявшись.
- Вашему отцу воздали должное, дети, - сказала миссис Гарт в ответ на
взгляд пяти пар устремленных на нее глаз. - К нему обращаются с просьбой
вернуться те самые люди, которые много лет назад отказали ему от места, а
это значит, что он исполнял свои обязанности хорошо и без него не могут
обойтись.
- Как без Цинцинната! Ура! - завопил Бен и оседлал свой стул в твердой
уверенности, что сейчас ему за это ничего не будет.
- А они за ним приедут, мама? - спросила Летти, представляя себе мэра и
олдерменов в парадных мантиях.
Миссис Гарт погладила Летти по голове и улыбнулась, но тут же, заметив,
что ее муж собирает письма и вот-вот укроется в святилище "дела", она
сильнее оперлась на его плечи и сказала твердо:
- Только, Кэлеб, настаивай на справедливых условиях.
- Ну, разумеется, - ответил Кэлеб с глубочайшей убежденностью, словно
ничего другого от него нельзя было и ждать. - Что-нибудь около
четырех-пяти сотен за оба вместе... - Он вдруг встрепенулся. - Да, Мэри!
Напиши в этот пансион и откажись. Оставайся дома и помогай матери. Вот
теперь я доволен, что твой Панч.
Сходства между Кэлебом и Панчем, торжествующим победу над врагами, не
было ни малейшего, но он не обладал умением красиво говорить, хотя в
письмах всегда тщательно подбирал слова и восхищался правильной речью
жены.
Мальчики пришли в неистовый восторг, и Мэри умоляюще протянула матери
батистовый платочек с недоконченной вышивкой, потому что братья потащили
ее плясать. Миссис Гарт, радостно улыбаясь, принялась составлять посуду, а
Кэлеб отодвинулся на стуле, словно собираясь перейти к письменному столу,
однако не встал, а продолжал сидеть с письмом в руке, задумчиво глядеть в
пол и перебирать пальцами левой руки, что имело для него какой-то свой
скрытый смысл. Наконец он сказал:
- А жаль, Сьюзен, что Кристи не захотел заняться делом. Мне ведь со
временем понадобится помощник. А Альфред пойдет по инженерной части, это я
твердо решил! - Он снова ненадолго погрузился в задумчивость, только
красноречиво перебирая пальцами, и затем продолжал: - Я заставлю Брука
заключить новые соглашения с арендаторами и введу правильный севооборот. И
бьюсь об заклад, из глины в овраге Ботта можно жечь превосходный кирпич.
Надо будет попробовать: тогда починка обойдется дешевле. Замечательная
работа, Сьюзен. Холостой человек был бы рад выполнять ее без всякой платы.
- Но ты смотри, от платы не отказывайся! - сказала жена, грозя ему
пальцем.
- Нет-нет. Только ведь истинное счастье для человека, когда он хорошо
изучил дело и вдруг может привести, как говорится, в порядок какой-нибудь
уголок страны - научить земледельцев хозяйничать экономичнее, поправить
запущенное, заменить обветшалые лачуги добротными строениями, так, чтобы и
тем, кто сейчас жив, и тем, кто их сменит, жилось лучше! Мне это дороже
всякого богатства. Более почтенной работы и вообразить нельзя. - Тут Кэлеб
положил письма, всунул пальцы в прорези жилета, выпрямился и продолжал с
благоговением в голосе, чуть наклонив голову: - Это великая милость
господня, Сьюзен.
- Да, Кэлеб, - ответила его жена столь же взволнованно. - И для твоих
детей счастье иметь отца, который совершит такую работу, отца, чей благой
труд сохранится, пусть имя его и будет забыто. - И она больше не стала
говорить с ним о плате.
Под вечер, когда Кэлеб, утомившись за день, молча сидел, положив на
колени раскрытую записную книжку, миссис Гарт и Мэри были заняты шитьем, а
Летти в уголке шепотом беседовала с куклой, на дорожке под яблонями, где
золотые блики заходящего августовского солнца ложились среди теней на
метелки травы, показался мистер Фербратер. Мы знаем, что Гарты были его
прихожанами и он питал к ним симпатию, а Мэри считал достойной того, чтобы
рассказать о ней Лидгейту. Как священник, он позволял себе привилегию
пренебрегать мидлмарчскими сословными предрассудками и постоянно повторял
матери, что миссис Гарт с куда большим правом можно назвать леди, чем
любую из городских дам. Тем не менее, как вам известно, он предпочитал
проводить вечера в доме мистера Винси, где хозяйка, хотя и менее леди,
принимала гостей в прекрасно освещенной гостиной среди столиков для виста.
В те дни общение людей между собой определялось не только уважением.
Однако мистер Фербратер искренне уважал Гартов, и его визит не поверг их в
недоумение. Впрочем, священник счел нужным объяснить его причину, еще не
кончив здороваться.
- Я прихожу к вам послом, миссис Гарт, - сказал он. - У меня к вам и
Гарту поручение от Фреда Винси. Дело в том, что бедняга... - тут он сел, и
живой взгляд его умных глаз скользнул по лицам старших Гартов и Мэри, -
что он был со мной вполне откровенен.
Сердце Мэри забилось чаще. Как далеко зашел Фред в своей откровенности?
- Мы уже несколько месяцев не видели мальчика, - заметил Гарт. - Я
никак не мог понять, что с ним сталось.
- Он где-то гостил, - ответил священник. - Дома ему приходилось
нелегко, а Лидгейт сказал его матушке, что ему еще рано садиться за
занятия. Но вчера он пришел ко мне излить душу. Я очень рад, что он мне
доверился. Ведь я помню его еще четырнадцатилетним мальчуганом, и у них в
доме я настолько свой, что смотрю на детей почти как на собственных
племянников и племянниц. Однако в подобном случае трудно давать советы. Но
как бы то ни было, он попросил меня зайти к вам и сказать, что он уезжает,
а мысль, что он не может уплатить вам долг, так его терзает, что он не
решается побывать у вас, даже чтобы проститься.
- Передайте ему, что все это пустяки, - сказал Кэлеб, махнув рукой. -
Были у нас нелегкие минуты, но мы справились. - А уж теперь я буду богат,
как ростовщик.
- Другими словами, - сказала миссис Гарт, улыбаясь священнику, - у нас
будет довольно денег, чтобы дать мальчикам образование и чтобы Мэри могла
остаться дома.
- Какой же клад вы нашли? - осведомился мистер Фербратер.
- Я буду управляющим двух поместий во Фрешите и Типтоне, а может быть,
еще и в Лоуике - тут ведь семейные связи, а стоит одному воспользоваться
твоими услугами, как и другим они тоже нужны. Я очень счастлив, мистер
Фербратер, - Кэлеб чуть откинул голову и положил локти на ручки кресла, -
что опять смогу заняться землей и испробовать кое-какие улучшения. Я часто
жаловался Сьюзен, как тяжело бывает, когда едешь верхом по проселку,
заглянешь за изгороди, увидишь, что там творится, и знаешь, что ты тут
бессилен. Каково же людям, которые занимаются политикой! Мне вот стоит
увидеть, до чего довели какую-нибудь сотню акров, и я уже сам не свой.
Кэлеб редко произносил такие длинные речи, но счастье подействовало на
него точно горный воздух: его глаза блестели, слова текли легко и
свободно.
- От всего сердца поздравляю вас, Гарт, - сказал священник. - И я знаю,
как обрадуется Фред Винси: его ведь особенно мучит ущерб, который он вам
причинил. Он все время повторял, что из-за него вы лишились денег, которые
предназначали совсем для другой цели, что он вас ограбил. Очень жаль, что
Фред такой лентяй. В нем много хорошего, а отец с ним излишне строг.
- Куда же он едет? - довольно холодно спросила миссис Гарт.
- Он намерен еще раз попытаться получить диплом и решил подзаняться до
начала семестра. Собственно, он тут последовая моему совету. Я вовсе не
уговариваю его принять сан - наоборот. Однако, если он будет заниматься и
сдаст экзамен, это хотя бы покажет, что у него есть энергия и воля. А
другого выбора у него нет. Так он хотя бы угодит отцу, а я обещал тем
временем попытаться примирить мистера Винси с мыслью, что его сын изберет
себе какое-нибудь другое поприще. Фред откровенно признается, что
неспособен быть священником, а я готов сделать все, лишь бы удержать
человека от такого рокового шага, как неверный выбор профессии. Он
пересказал мне ваши слова, мисс Гарт, - вы помните их? (Прежде мистер
Фербратер называл ее просто Мэри, однако по свойственной ему деликатности
он начал обходиться с ней почтительнее с тех пор, как ей пришлось, по
выражению миссис Винси, самой зарабатывать свой хлеб.)
Мэри смутилась, но решила обратить все в шутку и поспешила ответить:
- Я говорила Фреду много всяких колкостей - мы ведь с ним играли
детьми.
- Вы, по его словам, сказали, что он будет одним из тех нелепых
священников, которые делают смешным все духовное сословие. Право же, это
замечено так остро, что я и сам был немножко задет.
Кэлеб засмеялся.
- Свой язычок она унаследовала от тебя, Сьюзен, - сказал он не без
удовольствия.
- Только не его несдержанность, папа, - поторопилась возразить Мэри,
боясь, что ее мать рассердится. - И Фред поступил очень нехорошо,
пересказывая мистеру Фербратеру мои дерзости.
- Ты правда говорила не подумав, девочка, - сказала миссис Гарт, в
глазах которой неуважительное замечание по адресу тех, кто был облечен
достоинством сана, было серьезнейшим проступком. - Мы не должны меньше
почитать нашего священника оттого, что причетник соседнего прихода смешон.
- Но кое в чем она права, - возразил Кэлеб, стремясь воздать должное
проницательности Мэри. - Из-за одного плохого работника не доверяют всем,
кто трудится вместе с ним. Судят-то целое, - добавил он, опустил голову и
смущенно зашаркал ногами по полу, потому что его слова не могли угнаться
за мыслями.
- Да, конечно, - с улыбкой поддержал его мистер Фербратер. - Показывая
себя достойными презрения, мы располагаем людей к презрению. Я всецело
разделяю точку зрения мисс Гарт, даже если и сам не без греха. Но если
говорить о Фреде Винси, то у него есть некоторое извинение: надежды,
которые обманчиво внушал ему старик Фезерстоун, дурно влияли на него. А
потом не оставить ему ни фартинга - в этом есть поистине нечто
дьявольское. Но у Фреда достало выдержки не касаться этого. Больше всего
его гнетет мысль, что он утратил ваше расположение, миссис Гарт. Он
полагает, что вы никогда не возвратите ему своего доброго мнения.
- Фред меня разочаровал, - решительно сказала миссис Гарт. - Но я с
удовольствием опять буду думать о нем хорошо, если он даст мне основания
для этого.
Тут Мэри встала, позвала Летти и увела ее из комнаты.
- Когда молодые люди сожалеют о своих проступках, их надо прощать, -
сказал Кэлеб, глядя, как Мэри закрывает за собой дверь. - И вы правы,
мистер Фербратер, в старике сидел настоящий дьявол. Мэри ушла, и я вам
кое-что расскажу. Об этом знаем только мы с Сьюзен, и вы уж никому не
говорите. В ту самую ночь, когда старый негодяй умер, Мэри сидела с ним
одна, и он потребовал, чтобы она сожгла какое-то его завещание. Деньги ей
предлагал из своей шкатулки, лишь бы она послушалась. Только Мэри, вы
понимаете, сделать этого не могла - не хотела открывать его железный
сундук, ну, и остальное тоже. Но, видите ли, сжечь-то он хотел это
последнее завещание. Так что сделай Мэри по его, Фред Винси получил бы
десять тысяч фунтов. Старик в последнюю минуту хотел-таки о нем
позаботиться. Это очень мучает бедную Мэри. По-другому сделать она не
могла и поступила правильно, но у нее, говорит она, такое чувство, будто
она, защищаясь от нападения, ненароком разбила чужую дорогую вещь. Я ее
понимаю и с радостью как-нибудь помог бы мальчику, а не держал бы на него
сердца за этот его вексель. А как вы полагаете, сэр? Сьюзен со мной не
согласна. Она говорит... Да ты сама скажи, Сьюзен.
- Мэри не могла бы поступить иначе, даже если бы знала, какие
последствия это будет иметь для Фреда, - объявила миссис Гарт, подняв
голову от шитья и повернувшись к мистеру Фербратеру. - А она ничего не
знала. Мне кажется, если, поступая правильно, мы невольно причиним
кому-нибудь вред, это не должно лежать бременем на нашей совести.
Священник ответил не сразу, и ей возразил Кэлеб:
- Это ведь просто чувство. Девочка мучается, и я ее понимаю. Вот
заставляешь лошадь пятиться и вовсе не хочешь, чтобы она наступила на
щенка, а случится такое, и до того на душе скверно!
- Я уверен, что миссис Гарт в этом с вами согласна, - заметил мистер
Фербратер, о чем-то раздумывая. - Бесспорно, такое чувство - я имею в
виду, по отношению к Фреду - нельзя назвать ошибочным, или, вернее,
неоправданным, хотя никто не вправе искать его, а тем более требовать.
- Только ведь это секрет, - сказал Кэлеб. - Вы Фреду ничего не
говорите.
- Ну, разумеется. Но я сообщу ему приятную новость - что ваши дела
поправились и вы можете обойтись без денег, которых из-за него лишились.
Мистер Фербратер вскоре ушел и, увидев Мэри с Летти среди яблонь,
направился к ним попрощаться. Закатное солнце золотило яблоки в редкой
листве на старых корявых сучьях, и сестры являли собой очаровательную
картину - Мэри в светло-зеленом ситцевом платье с черными лентами держала
корзину, а Летти в выцветшем нанковом платьице подбирала паданцы и
складывала их туда. Если вы хотите живо представить себе, как выглядела
Мэри, то присмотритесь завтра к потоку прохожих на улице, и десять против
одного, что вы вскоре увидите лицо, совсем такое, как у нее. Не ищите ее
среди тех дочерей Сиона, что надменны и ходят, подняв шею и обольщая
взорами, и выступают величавой поступью (*120), - пусть они идут своей
дорогой, а вы остановите взгляд на невысокой, смуглой, плотно сложенной
молодой женщине, которая ступает уверенно, но спокойно и смотрит по
сторонам, не ожидая ответных взглядов. Если у нее широкое лицо, квадратный
лоб, густые брови и кудрявые черные волосы, чуть лукавый взгляд и губы,
которые прячут тайну этого лукавства, а все прочие черты совсем не
примечательны, то эту непритязательную, хотя и приятную на вид молодую
особу можно счесть портретом Мэри Гарт. Если вы заставите ее улыбнуться,
она покажет вам безупречно ровные зубки; если вы ее рассердите, она не
повысит голоса, но вы услышите достойную отповедь; если вы окажете ей
услугу, она никогда ее не забудет.
Этот невысокий священник в отлично вычищенном ветхом сюртуке, красивый,
с живым и умным лицом, внушал Мэри уважение и симпатию, как ни один из
немногих знакомых ей мужчин. Она ни разу не слышала, чтобы он сказал
глупость, хотя знала, что он позволяет себе неблагоразумные поступки.
Возможно, глупые слова, по ее мнению, заслуживали большего осуждения, чем
самые неблагоразумные поступки мистера Фербратера. Во всяком случае, как
ни странно, вполне зримые недостатки его, как духовного лица, никогда не
вызывали у нее того возмущения и презрения, с какими она говорила о тени,
которую предположительно должен был бы бросить на сан священника Фред
Винси. Подобная непоследовательность мышления, полагаю, бывает свойственна
и более зрелым умам, чем ум Мэри Гарт, - беспристрастность мы храним для
абстрактных добродетелей и пороков, каких вживе никогда не наблюдаем.
Возьмется ли читатель отгадать, который из этих двух столь несхожих людей
вызывал у Мэри женскую нежность - тот, с кем она была особенно строга, или
другой?
- Не хотите ли что-нибудь передать через меня старому товарищу ваших
детских игр, мисс Гарт? - спросил священник, беря из корзинки, которую она
ему протянула, большое душистое яблоко и опуская его в карман. - Может
быть, вы хотите смягчить свой суровый приговор? Я сейчас увижусь с ним.
- Нет. - Мэри с улыбкой покачала головой. - Если я возьму назад свои
слова, что как священник он будет смешон, то мне придется сказать, что он
будет не смешон, а плох. Однако я от души рада узнать, что он уезжает
учиться дальше.
- А я, наоборот, от души рад, что вы не уезжаете учить других. Моей
матушке, я уверен, будет очень приятно, если вы ее навестите. Она любит
беседовать с молодыми людьми, и ей есть что порассказать о старых
временах. В сущности, это будет одолжением с вашей стороны.
- Я приду с большим удовольствием, - сказала Мэри. - На меня вдруг
сразу нахлынуло слишком уж много счастья. Мне казалось, что моя судьба -
всегда тосковать по дому, и теперь я испытываю какую-то пустоту. Вероятно,
это чувство занимало в моей душе чересчур большое место.
- Можно, я пойду с тобой, Мэри? - шепнула Летти. Это бойкое дитя
обладало неудобным свойством не пропускать ни слова из разговоров
взрослых. Но на этот раз она торжествовала: мистер Фербратер ущипнул ее за
подбородок и поцеловал в щеку, о чем она тотчас сообщила отцу и матери,
едва вбежала в комнату.
Когда священник шел по направлению к Лоуику, внимательный наблюдатель
мог бы заметить, что он дважды пожал плечами. По-моему, те редкие
англичане, которым привычен этот жест, никогда не бывают плотно сложены -
впрочем, чтобы избежать какого-нибудь дюжего примера, свидетельствующего
об обратном, я лучше скажу: почти никогда. Такие люди обычно обладают
ровным характером и снисходительны к маленьким человеческим слабостям (и в
самих себе тоже). Мистер Фербратер вел внутренний диалог, в котором
сообщил себе, что между Фредом и Мэри Гарт, по-видимому, существует нечто
большее, чем простая привязанность товарищей детских игр, и тут же задал
вопрос, не слишком ли хороша и тонка эта девушка для этого туповатого
юнца. Ответом и было первое пожатие плеч. Затем он посмеялся над собой за
такую ревность - словно он может жениться! Тогда как, добавил он,
"простейшее сведение доходов и расходов показывает, что мне об этом нечего
и думать". Тут он пожал плечами во второй раз.
Что могли найти два столь разных человека в этой "чернушке", как
называла себя Мэри? Во всяком случае, их чаровала вовсе не ее некрасивость
(и пусть некрасивые юные девицы поостерегутся возлагать надежду на свою
невзрачность, к чему их коварно поощряет общество). В нашей давно уже не
молодой стране человек - это поистине чудесное целое, творение медленного
взаимодействия многих влияний. Привлекательность же рождается из свойств
двух таких целых - любящего и любимого.
Когда мистер и миссис Гарт остались одни, Кэлеб сказал после некоторого
молчания:
- Сьюзен, угадай, о чем я думаю.
- О севообороте, - сказала миссис Гарт, улыбнувшись ему над вязаньем. -
Или о кухонных дверях типтоновских ферм.
- Нет, - совершенно серьезно ответил Кэлеб. - Я думаю о том, что могу
пособить Фреду Винси. Кристи уехал, Альфред скоро поступит в учение, а
Джиму еще пять лет расти, прежде чем от него может быть толк для дела. Мне
понадобится подручный, а Фред у меня под началом научился бы, как следует
вести хозяйство, и стал бы хорошим помощником. Глядишь, из него и вышел бы
полезный человек, раз уж он не хочет принимать сан. А как по-твоему?
- По-моему, нет другого честного занятия, против которого его родные
ополчились бы больше, - решительным тоном ответила миссис Гарт.
- И пусть ополчаются, - сказал Кэлеб с твердостью, обычно появлявшейся
в его голосе, когда он отстаивал свое мнение. - Он уже совершеннолетний и
должен сам зарабатывать свой хлеб. Ума у него хватает, и сообразительности
тоже. Землю он любит и, конечно, может по-настоящему изучить дело, если
только захочет.
- Но захочет ли? Отец и мать растили из него богатого джентльмена, и
мне кажется, он себя таким и видит. Они все считают нас ниже себя. И если
ты предложишь это, уж конечно, миссис Винси скажет, что мы ловим Фреда для
Мэри.
- Жизнь была бы поистине жалка, если бы зависела от такого вздора! -
воскликнул Кэлеб с омерзением.
- Да, конечно, но, Кэлеб, нужно иметь и гордость, это только разумно.
- Позволить, чтобы дурацкие измышления помешали тебе сделать доброе
дело, - такая гордость, по-моему, вовсе не разумна. Да ведь никакая работа
не пойдет, - с жаром продолжал Кэлеб, для пущей выразительности взмахивая
рукой, - если слушать дураков. Надо самому знать, что ты задумал
правильный план, и уж от него не отступать.
- Я не стану мешать твоим планам, Кэлеб, - сказала миссис Гарт, которая
при всей своей твердости знала, что ее кроткий муж способен быть еще
тверже. - Но, по-видимому, решено, что Фред вернется в университет. Так не
лучше ли подождать и поглядеть, что он решит делать потом? Принуждать
людей против их желания не так-то легко. Да и ты пока еще точно не знаешь,
что тебе придется делать и в чем у тебя будет необходимость.
- Да, пожалуй, лучше немного обождать. Но в том, что работы у меня с
избытком хватит на двоих, я заранее уверен. Хлопот у меня всегда полон
рот, и все время добавляется что-то новое. Вот как вчера... Да я же тебе
не рассказал! Странно так получилось, что два разных человека попросили
меня произвести оценку одной и той же земли. И как ты думаешь, о ком я
говорю? - спросил Кэлеб, беря понюшку табака и зажимая ее между пальцами,
словно она имела прямое отношение к его вопросу. Он любил понюхать табак,
когда вспоминал об этом удовольствии, что, впрочем, случалось довольно
редко.
Его жена опустила вязанье и приготовилась слушать.
- Одним был Ригг, или, вернее, Ригг Фезерстоун. Но только Булстрод
побывал у меня раньше, а потому я обещал Булстроду. Ну, а для чего - чтобы
заложить или продать, я пока не знаю.
- Неужели этот человек намерен продать землю, которую только что
унаследовал? Ради которой принял новую фамилию? - сказала миссис Гарт.
- Кто его знает, - ответил Кэлеб, который никогда не приписывал
осведомленность в сомнительных сделках силам более высоким, чем неведомый
"кто". - Булстрод давно уже хотел прибрать к рукам приличную землю. А в
наших краях это ведь непросто.
Кэлеб аккуратно рассыпал понюшку, вместо того чтобы поднести ее к носу,
после чего добавил:
- Интересно, как все получается. Эту землю всегда прочили Фреду, хотя,
оказывается, старик-то и клочка не думал ему завещать, а оставил ее этому
никому не ведомому сыну с левой стороны и рассчитывал, что он поселится
здесь и начнет всем досаждать не хуже, чем он сам, пока был жив. Вот и
будет интересно, если она достанется Булстроду. Старик его люто ненавидел
и не желал держать деньги в его банке.
- Какая же причина была у старого скряги ненавидеть человека, если он
никакого дела с ним не имел? - спросила миссис Гарт.
- А-а! Что толку спрашивать, какие причины могут быть у таких людей?
Душа человеческая, - произнес Кэлеб торжественным тоном и покачал головой
(этот тон и это движение всегда сопутствовали у него таким изречениям), -
душа человеческая, когда глубоко тронет ее гниение, приносит всякие
ядовитые поганки, и нет глаз, что провидели бы, откуда взялось семя их.
Вечные трудности, которые испытывал Кэлеб, не находя нужных слов для
выражения своих мыслей, привели к тому, что он, так сказать, начал
ассоциировать определенные стили с теми или иными мнениями или душевными
состояниями, и всякий раз, когда он воспарял духом, его чувства облекались
в библейскую фразеологию, хотя он не сумел бы точно привести ни единой
цитаты из Библии.
41
Я хвастовством немного взял,
И дождик хлещет каждый день.
Шекспир, "Двенадцатая ночь"
Упомянутая Кэлебом Гартом сделка между мистером Булстродом и мистером
Джошуа Риггом, касавшаяся стоун-кортовской земли, потребовала некоторой
переписки.
Кому дано предвидеть действие письмен? Если они высечены на камне, то
пусть он веками лежит опрокинутый на забытом берегу или "покоится
безмолвно, не внимая барабанам и топотам бесчисленных завоеваний" (*121),
в конце концов с его помощью мы, возможно, проникнем в тайну узурпации или
иных скандальных историй, о которых сплетничали в незапамятные времена:
ведь мир, по-видимому, - одна огромная галерея, где эхо множит самый
слабый шепот. В миниатюре подобные случаи нередки и в наших собственных
незначащих жизнях. Как камень, который презрительно топтали поколения
невежд, может в результате странного сцепления пустяковых обстоятельств
попасть на глаза ученому и благодаря его трудам уточнить дату вторжения
или дать ключ к древней религии, так исписанный листок бумаги, долго
служивший невинной оберткой или затыкавший щель, вдруг попадает на глаза
именно того, кто располагает необходимыми сведениями, и эти чернильные
строки дают толчок к катастрофе. Для Уриеля (*122), наблюдающего с Солнца
историю развития планет, одно будет точно таким же совпадением, как
другое.
После столь возвышенного сравнения мне уже не так неловко указать на
существование низких людей, чье вмешательство, хотим мы того или не хотим,
в значительной мере определяет пути мира. Разумеется, было бы неплохо,
если бы мы могли содействовать сокращению их числа, и, пожалуй, начать
следует с того, чтобы не давать беззаботно случая к их появлению на свет.
С социальной точки зрения Джошуа Ригг, конечно, был бы причислен к
избыточному элементу. Но люди вроде Питера Фезерстоуна, которых никто не
просит оставить свой оттиск, обычно и не думают дожидаться подобной
просьбы ни в стихах, ни в прозе. Оттиск в данном случае внешне больше
напоминал мать - у представительниц женского пола лягушачьи черты в
сочетании с розовыми щечками и пухленькой фигурой таят немалую
привлекательность для определенного сорта поклонников. И вот рождается на
свет существо мужского пола с лягушачьим лицом, уже явно никому не нужное.
Особенно когда оно внезапно появляется неведомо откуда, чтобы положить
конец надеждам других людей - большей низости от избыточного социального
элемента и ждать невозможно.
Впрочем, низменные качества мистера Ригга Фезерстоуна носили
исключительно трезвый водопийный характер. С раннего утра и до позднего
вечера он неизменно бывал столь же гладок и хладнокровен, как лягушка,
которую он напоминал, и старик Питер втайне немало похихикивал над своим
отпрыском, едва ли не более расчетливым и бесспорно куда более
невозмутимым, чем он сам. Я добавлю, что его ногти всегда были безупречны
и он намеревался жениться на благовоспитанной молодой девице (пока еще не
избранной) приятной наружности и с хорошим родством в солидных
коммерческих кругах. Таким образом, его ногти и скромность ничуть не
уступали ногтям и скромности многих джентльменов, хотя честолюбие его
питалось лишь возможностями, открытыми перед писцом, а затем счетоводом
мелкой торговой фирмы в портовом городе. Сельские Фезерстоуны казались ему
смешными простаками, а, по их мнению, "принадлежность" к портовому городу
еще усугубляла чудовищность того, что у их братца Питера, а главное, у
собственности Питера вдруг обнаружилось подобное приложение.
Сад Стоун-Корта и усыпанный гравием круг перед домом еще никогда не
выглядели так аккуратно, как теперь, когда мистер Ригг Фезерстоун, заложив
руки за спину, хозяйским глазом созерцал их из окна большой гостиной.
Впрочем, неясно, встал ли он у окна, чтобы полюбоваться всем этим или
чтобы показать спину посетителю, который стоял на середине комнаты, широко
расставив ноги, сунув руки в карманы панталон и во всех отношениях являя
полный контраст гладкому и хладнокровному Риггу. Это был человек, заметно
разменявший шестой десяток, багроволицый, весьма волосатый, с большим
количеством седины в кустистых бакенбардах и в густой курчавой шевелюре.
Он отличался дородностью, которая, к несчастью, открыла всем взорам
истертые швы его одежды, что, впрочем, не мешало ему выглядеть одним из
тех присяжных хвастунов, кто и во время фейерверка старается быть центром
общего внимания, считая свои остроты по поводу любого зрелища интереснее
самого зрелища.
Его звали Рафлс, и иногда, расписываясь, он добавлял после своей
фамилии буквы Б.О., поясняя, что это звание "Большой Острослов", и тут же
сообщал, что когда-то учился в "Академии для мальчиков" Леонарда Ранна,
который ставил после своей фамилии буквы В.А. [Bachelor of Arts (англ.) -
бакалавр искусств], и с его, Рафлса, легкой руки почтенный директор
превратился в Ба-Ранна. Таков был внешний облик и духовный склад мистера
Рафлса, словно отдававшие застойным запахом трактирных номеров той эпохи.
- Да, послушай, Джош! - говорил он рокочущим басом. - Взгляни на дело в
таком свете: твоя бедная мамаша вступает в юдоль преклонных лет, а у тебя
теперь есть случай упокоить ее старость.
- Нет, пока вы живы, - ответил Ригг своим холодным высоким голосом. -
Пока вы живы, ей покою не будет. Все, что я ей дал бы, прикарманите вы.
- У тебя на меня зуб, Джош, я знаю. Но послушай, поговорим как мужчина
с мужчиной, начистоту: с небольшим капитальцем я бы открыл такую лавочку,
что чудо. Табачная торговля идет в гору. Я все силы приложу - не рубить же
сук, на котором сидишь. Вопьюсь, как блоха в овцу, для своей-то пользы. И
уж оттуда ни ногой. А твоей бедной мамаше какого же еще счастья? Я ведь
свое отгулял, к пятидесяти пяти годам дело идет. И хочу угомониться у
собственного очага. Мне ведь только открой дорогу к торговле табаком -
такую сметку и опыт, как у меня, нескоро найдешь. Я не хочу к тебе по
мелочам приставать, а разом поставить все на правильный путь. Ты взвесь,
Джош, как мужчина с мужчиной, и твоя мамаша до конца своих дней горя знать
не будет. Я старуху всегда любил, прах меня побери!
- Кончили? - спокойно сказал мистер Ригг, по-прежнему глядя в окно.
- Да, кончил, - объявил Рафлс и, схватив шляпу со столика рядом,
взмахнул ею широким ораторским жестом.
- Тогда послушайте меня. Чем больше вы меня в чем-то убеждаете, тем
меньше я поверю. Чем больше вы меня уговариваете что-то сделать, тем
больше у меня оснований этого не делать. Вы думаете, я забуду, как вы
пинали меня, когда я был мальчишкой, как съедали все, что было в доме, а
нам с матерью оставляли черствые корки? Вы думаете, я забуду, как вы
заявлялись в дом продать последние вещи, прикарманить деньги и опять
уехать, чтобы мы с матерью разбирались как знаем? Если бы вас выпороли у
позорного столба, я был бы только рад. Моя мать попалась на вашу удочку.
Наградила меня отчимом, вот и натерпелась за это. Она будет получать
еженедельное пособие, но его выплата сразу же прекратится, если вы
посмеете сунуть сюда нос или искать со мной встречи где-нибудь еще. В
следующий раз вас здесь встретят собаками и кнутом.
При последних словах Ригг обернулся и посмотрел на Рафлса выпуклыми
холодными глазами. Контраст между ними оставался столь же разительным, как
восемнадцать лет назад, когда Ригг был на редкость несимпатичным
беззащитным мальчуганом, а Рафлс - плотно сложенным Адонисом трактирных
залов. Но теперь все преимущества были на стороне Ригга, и посторонний
наблюдатель, вероятно, решил бы, что Рафлсу остается только понурить
голову и удалиться с видом побитой собаки. Ничего подобного! Он состроил
гримасу, какой обычно встречал карточные проигрыши, потом захохотал и
вытащил из кармана коньячную фляжку.
- Ладно-ладно, Джош, - сказал он вкрадчиво. - Плесни-ка сюда коньячку,
дай соверен на дорогу, и я уйду. Честное и благородное слово. Как пуля
вылечу, прах меня побери.
- Запомните, - сказал Ригг, доставая связку ключей, - если мы
встретимся еще раз, я не стану с вами разговаривать. Я вам обязан не
больше, чем вороне на заборе. И выклянчить вам у меня ничего не удастся,
разве что письменное удостоверение, что вы злобный, наглый, бесстыжий
негодяй.
- Жалость-то какая, Джош! - протянул Рафлс, запуская пятерню в затылок
и наморщив лоб, точно эти слова сразили его наповал. - Ведь я же к тебе
привязан, прах меня побери! Так бы и ходил за тобой по пятам, - ну,
вылитая мамаша! - да вот нельзя. А уж коньяк и соверен - святое дело.
Он взмахнул фляжкой, и Ригг направился к старинному дубовому бюро. Но
Рафлс почувствовал, что при взмахе фляжка чуть не выпала из кожаного
футляра, и, заметив в каминной решетке сложенный лист бумаги, поднял его и
засунул в футляр для плотности.
Ригг вернулся с бутылкой коньяка, наполнил фляжку и протянул Рафлсу
соверен, не сказав ни слова и не глядя на него. Затем он отошел к бюро,
запер его и снова невозмутимо встал у окна, как в начале их разговора.
Рафлс тем временем отхлебнул из фляжки для почину, завинтил ее с нарочитой
медлительностью и сунул в карман, строя гримасы за спиной пасынка.
- Прощай же, Джош... и может быть, навеки! - продекламировал Рафлс,
оглянувшись на пороге.
Ригг все еще смотрел в окно, когда он вышел за ворота и свернул на
проселок. С пасмурного неба сеялся мелкий дождь - живые изгороди и трава у
дороги зазеленели ярче, а батраки в поле торопливо складывали на повозку
последние снопы. Рафлс, который шагал неуклюжей развалкой городского
бездельника, не привыкшего к прогулкам на лоне природы, выглядел среди
этого сельского покоя и прилежного труда столь же неуместно, как сбежавший
из зверинца павиан. Но на него некому было глазеть, кроме годовалых телят,
и его присутствие досаждало только водяным крысам, которые, шурша,
исчезали в траве при его приближении.
Когда Рафлс выбрался на тракт, ему повезло: его вскоре нагнал дилижанс
и подвез до Брассинга, где он сел в вагон новой железной дороги, не
преминув объявить своим спутникам, что ее теперь можно считать
проверенной, - ловко она прикончила Хаскиссона. Мистер Рафлс редко
забывал, что обучался в "Академии для мальчиков", и чувствовал, что при
желании мог бы блистать в каком угодно обществе, а потому среди ближних
его не нашлось бы ни одного, кого он не считал бы себя вправе дразнить и
высмеивать, изысканно развлекая, как ему казалось, остальную компанию.
Он играл эту роль с таким воодушевлением, словно его путешествие
увенчалось полным успехом, и частенько прикладывался к фляжке. Бумага,
которую он засунул в футляр, была письмом с подписью "Никлас Булстрод", но
она надежно удерживала фляжку и Рафлсу незачем было извлекать ее оттуда.
42
О, как бы мог его я презирать,
Когда б не милосердия запрет!
Шекспир, "Генрих VIII"
Один из первых профессиональных визитов после своего возвращения из
свадебного путешествия Лидгейт нанес в Лоуик-Мэнор, куда его пригласили
письмом с просьбой самому назначить удобные ему день и час.
Мистер Кейсобон во время своей болезни не задал о ней Лидгейту ни
единого вопроса, и даже Доротея не подозревала, насколько его мучил страх,
что его трудам или самой жизни может наступить внезапный конец. И здесь,
как во всем другом, он бежал жалости. Мысль о том, что он, вопреки всем
своим усилиям, может стать предметом жалости, уже была мучительной, но
вызвать сострадание, откровенно признавшись в своей тревоге или горести, -
об этом он и подумать не мог. Всем гордым натурам знакомо подобное
чувство, и, быть может, пересилить его способно лишь столь глубокое
ощущение духовной близости, что всякие попытки оградить себя кажутся
мелочными и пошлыми, а не возвышенными.
Однако теперь за молчанием мистера Кейсобона крылись мрачные
размышления особого рода, придававшие вопросу о его здоровье и жизни
горечь, превосходившую даже горечь осенней незрелости плода всех его
трудов. Правда, именно с ними связывались самые честолюбивые его чаяния,
но порой авторские усилия приводят главным образом к накоплению тревожных
подозрений в сознании самого автора, и мы догадываемся о существовании
реки по двум-трем светлым полоскам среди давних отложений топкого ила. Так
обстояло дело и с усердными учеными занятиями мистера Кейсобона. Их
наиболее явным результатом был не "Ключ ко всем мифологиям", но лишь
болезненное сознание, что ему не отдают должного, пусть внешне он пока
ничем не блеснул, лишь вечное подозрение, что другие судят о нем отнюдь не
лестно, лишь печальное отсутствие страсти в мучительных потугах достичь
заветной цели и страстное нежелание признать, что он не достиг ничего.
Таким образом, его честолюбивые замыслы, которые, по мнению
посторонних, полностью поглотили его и высушили, на самом деле нисколько
не защищали его от ран, и особенно от ран, наносимых Доротеей. И теперь
мысль о возможном будущем несла с собой больше горечи и ожесточения, чем
все, что занимало его мысли раньше.
С некоторыми фактами он ничего поделать не мог - с тем, что Уилл
Ладислав существует, что он вызывающе поселился около Лоуика, что он с
ветреным и оскорбительным пренебрежением относится к обладателям
подлинной, надлежаще апробированной эрудиции; с тем, что натура Доротеи
пламенно жаждет живой деятельности и самая ее покорность и безропотность
порождены столь же пылкими побуждениями, о причинах которых нельзя думать
без раздражения; с тем, что у нее появились какие-то свои представления и
симпатии, связанные с предметами, которые ему обсуждать с ней немыслимо.
Бесспорно, более добродетельной и очаровательной молодой жены, чем
Доротея, найти он не мог, но, против всех его Ожиданий, молодая жена
оказалась источником забот и мучений. Она преданно ухаживала за ним, она
читала ему, предупреждала его желания, бережно считалась с его чувствами,
и все-таки в нем крепло убеждение, что она берет на себя смелость судить
его и ее супружеская преданность нечто вроде епитимьи, которую она
возлагает на себя для искупления неверия и которая не мешает ей сравнивать
и понимать, какое место он и все сделанное им занимают в общей
совокупности вещей. Его недовольство, словно пары тумана, проскальзывало
сквозь все ее ласковые заботы и сосредоточивалось на не ценящем его мире,
который из-за нее придвигался ближе.
Бедный мистер Кейсобон! Это страдание было тем труднее переносить, что
отношение Доротеи представлялось ему изменой: юное создание, поклонявшееся
ему с неколебимым доверием, быстро превратилось в жену, готовую его
судить. Робкие попытки критиковать и не соглашаться так на него
подействовали, что ни нежность, ни послушание не могли загладить их. Его
подозрительность истолковывала молчание Доротеи как скрытый бунт; всякое
ее неожиданное суждение выглядело в его глазах сознательным утверждением
своего превосходства, в ее кротких ответах чудилась раздражающая
снисходительность, а если она соглашалась с ним, то лишь потому, что ей
нравилось выставлять напоказ свою терпимость. Упорство, с каким он
старался скрывать эту внутреннюю драму, придавало ей новую убедительность.
Так мы особенно хорошо слышим то, что не считаем предназначенным для чужих
ушей.
Меня вовсе не удивляет власть этих печалей над мистером Кейсобоном -
наоборот, все это кажется мне вполне обычным. Разве пылинка перед нашим
зрачком не заслоняет от нас все великолепие мира, так что оно становится
лишь ободком темного пятна? А более мучительной пылинки, чем собственная
личность, я не знаю. Но если бы мистер Кейсобон все-таки решил излить свое
неудовольствие, свои подозрения, что его больше не обожают безоговорочно,
кто мог бы отрицать, что у него есть для этого все основания? Напротив,
была даже еще одна веская причина, которую он сам во внимание не принимал,
- то обстоятельство, что он не во всем был достоин обожания. Однако он
подозревал это, как подозревал еще многое другое, не признаваясь себе в
своих подозрениях, и, подобно всем нам, чувствовал, как приятно было бы
обрести спутницу жизни, которая так и не обнаружила бы глиняных ног своего
идола.
Эта болезненная мнительность по отношению к Доротее полностью созрела
еще до возвращения Уилла Ладислава в Лоуик, а дальнейшие события дали
мистеру Кейсобону обильную пищу для всяческих истолкований. К известным
ему фактам он лихорадочно добавлял воображаемые - и в настоящем, и в
будущем. Эти призрачные факты становились для него реальнее подлинных, так
как давали пищу для более жгучей неприязни и оправдывали более
ожесточенное озлобление. Подозрения и ревность к намерениям Уилла
Ладислава, подозрения и ревность к впечатлениям Доротеи точили его день и
ночь. Было бы несправедливо приписывать ему низменное истолкование
поступков и душевного состояния Доротеи - от этой ошибки его уберегли не
только открытое благородство ее натуры, но и его собственный духовный
склад и житейские правила. Нет ее мнения, воображаемое воздействие на ее
пылкий ум, то, к чему все это могло привести ее в будущем, - вот что
вызывало его ревность. Уилла же (хотя до его последнего вызывающего письма
мистер Кейсобон, собственно, не мог поставить ему в упрек ничего
конкретного) он полагал себя вправе считать способным на любые
посягательства, на какие только могут толкнуть молодого человека мятежный
нрав и необузданная порывистость. Он был убежден, что Уилл покинул Рим и
обосновался в их краях из-за Доротеи, и у него достало проницательности
предположить, что Доротея вполне невинно поддержала Уилла в его
намерениях. Было ясно как день, что Уилл ей нравится и что она готова
подпасть под его влияние, - ведь после каждого их разговора наедине у
Доротеи появлялись новые сумбурные идеи, а последнее их свидание, о
котором было известно мистеру Кейсобону (вернувшись из Фрешит-Холла,
Доротея впервые не упомянула о том, что видела Уилла), привело к сцене,
вызвавшей у него против них гнев, какого он еще никогда не испытывал.
Доверчивые признания Доротеи в ночном мраке о ее взгляде на деньги только
вызвали у ее мужа еще более тягостные опасения.
К тому же его ни на миг не оставляли тревожные воспоминания о недавней
болезни. Правда, он чувствовал себя значительно лучше и мог уже трудиться,
как прежде - возможно, это было лишь переутомление и впереди у него еще
двадцать лет свершений, которые достойно увенчают тридцать лет
предварительной подготовки. Надежда эта была тем слаще, что сулила
отмщение Карпу и Кь за их преждевременные насмешки: ведь даже когда мистер
Кейсобон бродил со своим огарком среди гробниц прошлого, эти современные
фигуры вдруг загораживали их от его тусклого света и мешали его усердным
поискам. Доказать Карпу, что он ошибался, заставить его проглотить слова
поношения, чтобы они легли камнем на его желудок, - столь приятное
побочное следствие торжественной победы "Ключа ко всем мифологиям" манило
его чуть ли не больше, чем предвкушаемая жизнь в веках на земле и вечность
на небесах. А раз уж даже предвидение собственного бесконечного блаженства
не могло уничтожить горький привкус воспаленного самолюбия и
мстительности, стоит ли удивляться, что мысль о преходящем земном
блаженстве других лиц, после того как он сам вознесется к горней славе, не
дарила сладостного успокоения. Если его подтачивает какая-то болезнь, то
некоторые люди могут испытать счастье оттого, что он преставится. А вдруг
одним из этих людей окажется Уилл Ладислав... Мысль эта так сильно
взволновала мистера Кейсобона, что она, казалось, должна была отравить и
бестелесное его существование.
Конечно, все это изложено очень прямолинейно и, следовательно, неполно.
Движения человеческой души многообразны, мистер же Кейсобон, как нам
известно, был щепетилен и находил особую гордость в том, чтобы соблюдать
все требования чести, а потому не мог внутренне принять, что им руководит
ревность, зависть и мстительность. И себе он обрисовал дело следующим
образом:
"Женясь на Доротее Брук, я был обязан позаботиться о ее благополучии на
случай моей смерти. Однако бесконтрольное владение значительным состоянием
вовсе не обеспечивает благополучия; наоборот, в определенных
обстоятельствах оно может подвергнуть ее опасности. Она - легкая добыча
для любого человека, который сумеет искусно сыграть либо на ее
доброжелательном расположении, либо на ее донкихотском энтузиазме. А рядом
есть человек, питающий такое намерение, - человек, которому каприз
заменяет принципы и который (в этом я твердо уверен) питает ко мне личную
неприязнь, разжигаемую сознанием собственной его неблагодарности и
постоянно изливаемую в ядовитых насмешках, - в этом я убежден так же, как
если бы слышал их своими ушами. Даже пока я жив, я не могу быть совершенно
спокоен, что он не пустит в ход каких-нибудь уловок. Этот человек вкрался
в доверие к Доротее, возбудил ее интерес и, очевидно, попытался внушить
ей, будто все, что я для него сделал, далеко не соответствует тому, на что
он имеет право. Если я умру - а он оттого тут и остался, что ждет моей
смерти, - то он убедит ее выйти за него замуж. Это будет великим
несчастьем для нее и торжеством для него. Сама она, конечно, не заметит
своего несчастья - он сумеет внушить ей что угодно. Ведь ей свойственна
неумеренность в привязанностях, и в душе она упрекает меня за то, что не
нашла во мне такой же неумеренности, а его судьба ее уже заботит. Он
предвкушает легкую победу и думает стать хозяином моего гнезда... Этого я
не допущу! Брак с ним погубит Доротею. Был ли он хоть в чем-либо
последователен, если только не из духа противоречия? Вместо того чтобы
приобретать солидные знания, он всегда старался пускать пыль в глаза, не
прилагая усилий. В религии он будет бездумным эхом нелепых идей Доротеи,
пока это не перестанет его устраивать. Пустозвонству всегда сопутствует
распущенность. Я твердо убежден, что у него нет никаких нравственных
правил, и мой долг - всемерно воспрепятствовать исполнению его замыслов".
Форма, в какой мистер Кейсобон обеспечил свою жену при вступлении в
брак, оставляла возможность для принятия крутых мер, однако всякий раз,
когда он начинал их обдумывать, его мысли неизбежно обращались к вопросу о
том, сколько ему еще остается жить. В конце концов желание получить
наиболее точный ответ взяло верх над гордой замкнутостью, и он решил
расспросить Лидгейта о своей болезни.
Мистер Кейсобон упомянул, что ждет Лидгейта к половине четвертого, и
Доротея с тревогой спросила, не чувствует ли он себя плохо.
- Нет, мне просто хотелось бы узнать его мнение о некоторых постоянных
симптомах, - ответил он. - Вам его видеть незачем, моя дорогая. Я
распоряжусь, чтобы его послали в тисовую аллею, где я буду совершать
обычный моцион.
Когда Лидгейт вышел на тисовую аллею, он увидел, что мистер Кейсобон
неторопливо удаляется от него, привычно заложив руки за спину и наклонив
голову вперед. День был тихий и солнечный. Листья, падающие с высоких лип,
медленно кружили среди мрачных тисов; полосы света четко разделяли
неподвижные тени, и тишину нарушал лишь крик грачей, который для
привычного уха звучит словно колыбельная песня или же словно та более
торжественная колыбельная, которая зовется заупокойной молитвой. Лидгейт,
ощущая себя здоровым, полным молодых сил, почувствовал жалость, когда
человек, которого он нагонял, повернулся и пошел ему навстречу, - столь
очевидными стали теперь признаки преждевременной старости, согбенная от
вечных занятий спина, костлявые руки, тощие ноги и горькие морщины у рта.
"Бедняга! - подумал врач. - Другие в его возрасте - львы и словно
только-только вошли в зрелые лета".
- Мистер Лидгейт, - сказал мистер Кейсобон с неизменной своей
учтивостью, - я крайне обязан вам за вашу пунктуальность. Если вы ничего
не имеете против, мы побеседуем, прогуливаясь по аллее.
- Надеюсь, ваше желание увидеть меня не было вызвано возвращением
неприятных симптомов, - заметил Лидгейт, прерывая паузу.
- Нет, не совсем. Для того чтобы объяснить вам это желание, я вынужден
упомянуть - при других обстоятельствах касаться этого я не стал бы, - что
моя жизнь, во всех прочих отношениях не представляющая ценности, обретает
некоторое значение из-за незавершенности исследований, которым были
посвящены все лучшие ее годы. Короче говоря, я очень хотел бы привести
свой труд хотя бы в такой вид, чтобы он мог быть опубликован... другими.
Если бы я получил заверение, что на большее мне рассчитывать не следует,
оно помогло бы мне разумно соразмерить мои усилия и выбрать наиболее
правильный путь в отношении того, что я должен делать и чего не должен.
Тут мистер Кейсобон умолк, вынул руку из-за спины и заложил ее между
пуговицами своего однобортного сюртука. Для ума, постоянно занятого
человеческими судьбами, трудно было бы найти что-нибудь более интересное,
чем внутренний конфликт, о котором говорили эти педантично размеренные
фразы, произнесенные, как обычно, нараспев под легкое покачивание головы.
И есть ли положения более трагичные, чем душевная борьба, когда человек
вынужден отказаться от труда, составлявшего весь смысл его жизни - смысл,
который исчезнет, точно никому не нужные воды неведомой людям реки? Но в
мистере Кейсобоне не было ничего, что походило бы на трагическое величие,
и к жалости Лидгейта, презиравшего его схоластическую ученость,
примешивалось насмешливое чувство. Он пока еще плохо представлял себе, что
это такое - крушение всех надежд, и не был в состоянии понять, насколько
оно горько, когда ничто в нем не достигает истинно трагического уровня,
кроме страстного эгоизма самого страдальца.
- Вы имеете в виду помехи со стороны здоровья? - спросил он, чтобы
заставить мистера Кейсобона преодолеть колебания и выразиться яснее.
- Совершенно верно. Вы не дали мне никаких оснований предполагать, что
симптомы моего недуга, которые, обязан я сказать, вы наблюдали с
величайшим тщанием, указывают на роковой его характер. Однако, мистер
Лидгейт, если это так, я желал бы знать правду без прикрас и умолчаний, и
я прошу вас сообщить мне ваши заключения - прошу, как о дружеской услуге.
Если вы скажете мне, что моей жизни ничто не угрожает, кроме, разумеется,
обычных превратностей, я буду очень рад ввиду того, о чем уже говорил.
Если же нет, то для меня даже еще важнее узнать правду.
- В таком случае у меня нет права колебаться, - ответил Лидгейт. - Тем
не менее я хотел бы прежде указать, что мои заключения нельзя считать
бесспорными - и не только из-за того, что я могу ошибаться, но и потому,
что, имея дело с болезнью сердца, вообще трудно что-либо предсказывать.
Однако в любом случае жизнь всегда готовит нам столько неожиданностей, что
ни в чем нельзя быть заранее уверенным.
Мистер Кейсобон вздрогнул, но вежливо наклонил голову.
- Я считаю, что вы страдаете так называемой жировой деградацией сердца.
Болезнь эту совсем недавно открыл и исследовал Лаэннек, тот, кому мы
обязаны стетоскопом. Пока она еще мало изучена - требуются гораздо более
длительные наблюдения. Но после ваших слов мой долг предупредить вас, что
смерть от этой болезни нередко наступает внезапно. И в то же время заранее
такой исход непредсказуем. Вы вполне можете прожить пятнадцать и более лет
без каких-либо стеснительных предосторожностей. Это все, что я могу вам
сообщить, не входя в специальные рассуждения, которые только подтвердят
то, что я уже сказал.
Лидгейт чувствовал, что ничем не смягченную прямоту мистер Кейсобон
примет как знак уважения.
- Благодарю вас, мистер Лидгейт, - сказал мистер Кейсобон после
недолгого молчания. - Но я хотел бы задать вам еще один вопрос: вы
сообщили миссис Кейсобон все это?
- Не все... Я только объяснил ей, чего следует опасаться, - ответил
Лидгейт, собираясь объяснить причины, почему он счел необходимым
предупредить Доротею, но мистер Кейсобон чуть поднял руку, показывая, что
он не хочет продолжать этот разговор, еще раз сказал "благодарю вас" и
заметил, что погода стоит великолепная.
Лидгейт понял, что его пациент хочет остаться один, и вскоре попрощался
с ним, а черная фигура с руками, заложенными за спину, и с опущенной
головой продолжала мерить шагами аллею под темными тисами, которые в
безмолвии словно разделяли все печали, и тени птичек и падающих листьев,
порой мелькавшие по пятнам солнечного света, казалось, боялись нарушить
тишину, приличествующую присутствию горя. Человек впервые взглянул в глаза
смерти и на миг испытал одно из тех редчайших прозрений, когда мы
постигаем суть избитых истин чувством, что так же не похоже на постижение
ее умом, как не похож образ всех вод мира на ту воду, которую видит в
бреду пылающий жаром больной. Когда избитое "мы все должны умереть"
внезапно преображается в острое сознание "я должен умереть - и скоро!",
тогда нас схватывает смерть, и пальцы ее жестоки. Потом она может убаюкать
нас в нежных объятиях, как некогда баюкала мать, и наш последний смутный
миг земного существования будет подобен первому. Однако в эту минуту
мистер Кейсобон словно вдруг очутился на темном речном берегу и
вслушивался в приближающийся плеск весел, ничего не различая во мраке, но
вот-вот ожидая зова. В подобный час дух не лишается своего прежнего
склада, он уносится в воображении за порог смерти, ни в чем не
изменившись, и оглядывается назад - быть может, с божественным
спокойствием доброжелательности, а быть может, с мелочными тревогами
самоутверждения. Каков был душевный склад мистера Кейсобона, покажут его
поступки. Он считал себя (с некоторыми учеными оговорками) верующим
христианином и в отношении к настоящему, и в чаянии будущего. Но
удовлетворить мы стремимся наше теперешнее желание, пусть и называем его
упованием - будущие здания, ради которых люди расчищают городские трущобы,
уже существуют в их воображении и любви. А в эту минуту мистер Кейсобон
искал отнюдь не единения с богом и неземного света. Бедный человек! Его
страстные устремления, точно тяжелый туман, стлались по темным низинам.
Доротея, увидев, что Лидгейт сел на свою лошадь и уехал, тотчас
спустилась в сад, но затем заколебалась: желание немедленно пойти к мужу
сменилось опасением, не сочтет ли он ее навязчивой. Ее пылкость, неизменно
встречавшая ледяной прием, и чуткая память усиливали этот постоянный страх
- так энергия, не находя выхода в действии, гаснет в лихорадочной дрожи. А
потому она медленно прохаживалась по дорожкам около дома, пока не увидела,
что мистер Кейсобон выходит из аллеи. Она поспешила навстречу, точно
небесный ангел, посланный в знак того, что остающиеся ему краткие часы
будут освящены той верной любовью, которая, предчувствуя горе, становится
еще нежнее. Его ответный взгляд был таким холодным, что ее охватила
робость, но тем не менее она пошла рядом с ним и попробовала взять его под
руку. Мистер Кейсобон по-прежнему держал руки за спиной, и ее ладонь
соскальзывала с его неподвижного локтя.
Эта бесчувственная холодность поразила Доротею ужасом. Слово как будто
слишком сильное, но лишь как будто - именно те поступки, которые зовутся
мелочами, постоянно губят семена радости, а потом мужчины и женщины
обводят отчаявшимся взглядом пустыню, созданную их собственным
пренебрежением, и говорят, что земля не приносит урожая счастья, называя
свое отречение опытом. Вы спросите, почему мистер Кейсобон держался с
таким недостойным бездушием. Но вспомните, что его натура бежала жалости.
Быть может, вам доводилось наблюдать, как действует на человека подобного
склада подозрение, что источник его горя (сейчас или в будущем) обернется
источником радости для того, кто уже оскорбил его жалостью? К тому же он
ничего не знал о переживаниях Доротеи и не представлял себе, что в
подобные минуты она испытывала чувства, нисколько не уступавшие по силе
тем, которые вызывали у него критические замечания Карпа.
Доротея не отняла руки, хотя не осмеливалась заговорить. Мистер
Кейсобон не сказал: "Я хочу быть один", однако он молча направился к дому,
и когда они вошли в стеклянную дверь восточного фасада, Доротея опустила
руку и остановилась на пороге, чтобы не стеснять мужа. Он вошел в
библиотеку и заперся там наедине со своей тоской.
Доротея поднялась в будуар. За окном исчерченную длинными тенями
липовую аллею озаряло безмятежное предвечернее солнце. Но Доротея не
видела этого золотого великолепия. Она бросилась в кресло, не замечая
слепящих солнечных лучей, - что было это неудобство в сравнении с
внутренним ее страданием?
Недавняя растерянность сменилась возмущением и гневом, каких она еще не
испытывала за все время своего замужества. Они нашли выход не в рыданиях,
а в словах:
- Что я сделала? Чем я заслужила... почему он так со мной обходится? Он
не хочет знать, что у меня на душе... ему все равно. Что я ни делаю, все
напрасно... Он жалеет, что женился на мне.
Доротея услышала свой голос и, вздрогнув, умолкла. Она сидела как
заблудившийся истомленный путник, словно единым взглядом обозрев все
дороги своих юных надежд, которых больше никогда уже не обретет. И в
тускнеющем свете она столь же ясно увидела одиночество - свое и мужа,
увидела, что они далеко разошлись и она вынуждена смотреть на него со
стороны. Если бы он привлек ее к себе, этого не случилось бы, она никогда
не спросила бы: "Стоит ли он того, чтобы шить ради него?", и просто
воспринимала бы его как часть своей жизни. Теперь же она сказала с
горечью: "Это он виноват, а не я". Удар, потрясший все ее существо,
заставил умолкнуть жалость. Разве ее вина, что она верила, в него? Верила
в величие его души? А каков он на самом деле? Она уже была способна
оценить его беспристрастно - она, которая трепетала его взгляда и для
того, чтобы стать ничтожной, как того хотел он, замкнула лучшую часть
своей души в темницу, лишь тайно ее навещая. В минуты подобных душевных
кризисов женщины начинают ненавидеть.
Солнце уже заходило, и Доротея решила не спускаться в столовую, а
послать сказать мужу, что ей нездоровится и она останется у себя. Никогда
еще она не отдавалась настолько сознательно во власть обиды, но она
ощущала, что, увидев его, должна будет открыть ему всю правду о своих
чувствах, и хотела отложить объяснение до того часа, когда ей ничто не
будет мешать. Возможно, ее отказ спуститься к обеду удивит его и больно
заденет. Но тем лучше. Ее гнев твердил, как это свойственно гневу, что бог
на ее стороне, что все небеса, сколько бы духов ни взирало на них оттуда,
должны быть на ее стороне. Она уже собиралась позвонить, но тут в дверь
постучали.
Мистер Кейсобон прислал сказать, что он будет обедать в библиотеке. Он
очень занят и хочет быть совсем один.
- Тогда я не буду обедать, Тэнтрип.
- Разрешите, сударыня, я вам чего-нибудь принесу.
- Нет. Мне нездоровится. Приготовьте все в туалетной, но, пожалуйста,
больше меня не беспокойте.
Доротея сидела почти без движения, но борьба в ее душе продолжалась,
пока сумерки медленно сгущались в ночной мрак. Однако борьба эта
непрерывно менялась - так человек, уже занесший руку для удара, вдруг
побеждает в себе желание ударить. Энергии, которой хватило бы для
преступления, достаточно и для того, чтобы покориться, если душевное
благородство вновь берет верх. Мысль, с которой Доротея выбежала в сад к
мужу, - уверенность, что он спрашивал, не придется ли ему оставить работу,
и что ответ должен был разбить ему сердце, - вскоре вернулась как
укоризна, как тень рядом с его образом, глядящим на нее с грустным
упреком. Ей рисовались все будущие печали, из груди ее рвались безмолвные
вопли, потому что ей некуда было укрыться от этих печалей. Но решимость
покориться пришла, и когда дом затих, когда приблизился обычный час отхода
мистера Кейсобона ко сну, она неслышно отворила дверь будуара и, выйдя в
темный коридор, смотрела, не появится ли внизу у лестницы огонек его
свечи. Она подумала, что не станет ждать долго и спустится к нему сама,
даже рискуя вновь встретить незаслуженный упрек. Теперь она смирилась с
мыслью, что так будет всегда. Но тут она услышала, что дверь библиотеки
отворилась. Огонек свечи начал подниматься по лестнице - ковер на
ступеньках заглушал звук шагов. Когда ее муж остановился напротив нее, она
увидела, что лицо его выглядит совсем измученным. Заметив ее, он слегка
вздрогнул, и она молча устремила на него умоляющий взгляд.
- Доротея! - воскликнул он тоном кроткого удивления. - Вы ждали меня?
- Да. Мне не хотелось вас беспокоить.
- Идемте, дорогая, идемте. Вы молоды, и вам еще не надо продлевать
жизнь бдениями.
Услышав эти ласковые, полные тихой печали слова. Доротея почувствовала
то облегчение, которое мы испытываем, чуть было не причинив боли
искалеченному существу. Она вложила руку в руку мужа, и они пошли рядом по
широкому коридору.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. РУКА МЕРТВЕЦА
43
Фигурке этой нет цены. С любовью
Когда-то мастер вырезал ее
Из лучшей кости. Неподвластны моде
Изящество и благородство линий,
Чарующие женственностью вечной.
А вот другая дорогая вещь -
Майолика искуснейшей работы.
Взгляните, как улыбка бесподобна!
Казалось бы, простой фаянс, однако
Украсит он и самый пышный стол.
Доротея редко отлучалась из дому без мужа, но временами ездила в
Мидлмарч одна, за покупками или с благотворительной целью, как делают все
богатые и небогатые дамы, живущие в окрестностях какого-нибудь города. Под
предлогом такой поездки она решила спустя два дня после сцены в тисовой
аллее побывать у Лидгейта и узнать, не появились ли у мужа новые симптомы
болезни и не расспрашивал ли он о своем состоянии врача. Ей казалось чуть
ли не преступным что-то выведывать о муже у постороннего человека, но
неведение было страшнее, страшнее потому, что могло толкнуть ее на
несправедливый или жестокий поступок, и это соображение заглушило укоры
совести. Она видела, что в сознании мужа произошел перелом: уже на
следующий день он начал перестраивать систему выписок и отдал Доротее
совершенно новые распоряжения относительно дальнейшей работы: бедняжке
предстояло основательно запастись терпением.
Подъезжая часа в четыре к дому доктора на Лоуик-Гейт, она
засомневалась, застанет ли его, и пожалела, что заранее ему не написала.
Доктора и впрямь не оказалось дома.
- А миссис Лидгейт? - спросила Доротея. Она не была знакома с
Розамондой, но сейчас вспомнила, что доктор женат. Миссис Лидгейт была
дома.
- Я с ней поговорю, если она позволит. Будьте добры, узнайте, может ли
она на несколько минут принять меня... принять миссис Кейсобон?
Слуга отправился с докладом. Сквозь открытое окно донеслись звуки
музыки - что-то пропел мужской голос, затем рассыпалось аккордами
фортепьяно. Но аккорды внезапно оборвались, после чего вышел слуга и
сказал, что миссис Лидгейт очень рада видеть у себя миссис Кейсобон.
Доротея вошла в гостиную. Контраст между хозяйкой и гостьей был весьма
характерен для провинции той поры, когда несходство в обычаях разных
сословий проявлялось ощутимее, чем сейчас. Знатоки, вероятно, могут
сказать, как называлась ткань платья, которое ранней осенью носила
Доротея, - тонкая белая шерстяная ткань, мягкая на взгляд и на ощупь. Она
всегда казалась только что постиранной, пахла свежей зеленью и была
скроена на манер ротонды со старомодными широкими рукавами. И все же,
появись Доротея перед безмолвствующими зрителями в роли Имогены или дочери
Катона (*123), ее наряд не вызвал бы недоумения; в ее движениях, осанке
были грация и величавость, а широкополая шляпка - удел ее современниц, -
обрамлявшая скромно причесанные волосы и правдивые глаза, вполне могла бы
заменить тот золотистый головной убор, что именуют нимбом. Для двух
зрителей, ожидавших ее в гостиной, миссис Кейсобон представляла больше
интереса, чем любая героиня драмы. Розамонда выделяла ее из простых
смертных, причисляя к высшим существам, чья наружность и манеры
заслуживают самого пристального внимания; кроме того, Розамонда была
довольна, что и миссис Кейсобон представилась возможность обратить на нее
внимание. Что толку быть изысканной, если этого не могут оценить знатоки?
А поскольку в доме сэра Годвина Розамонда удостоилась высшей похвалы, она
не сомневалась в своем успехе у людей знатного происхождения. Доротея со
свойственной ей бесхитростной доброжелательностью протянула хозяйке дома
руку и с восхищением оглядела хорошенькую молодую миссис Лидгейт, лишь
краем глаза заметив стоящего поодаль джентльмена в сюртуке. Джентльмен был
слишком поглощен одной из двух присутствующих женщин, чтобы обратить
внимание на контраст между ними - контраст, который поразил бы
беспристрастного наблюдателя. Обе были высокого роста, у той и у другой -
прелестные глаза, но вообразите себе головку Розамонды в дивной короне
кос, сплетенных из младенчески белокурых волос, ее голубое платье,
элегантный и модный покрой которого взволновал бы любого портного, большой
вышитый воротник, стоимость коего нельзя было не оценить, в меру
украшенные кольцами пальчики и рассчитанную непринужденность манер -
трудоемкую замену простоты.
- Благодарю за позволение прервать ваши занятия, - тут же заговорила
Доротея. - Мне бы очень хотелось до отъезда домой повидать мистера
Лидгейта, и я надеялась, что, может быть, вы скажете, где его найти, или
даже позволите подождать его, если он вскоре должен вернуться.
- Он в новой больнице, - сказала Розамонда. - Не знаю, скоро ли он
вернется. Но я могу за ним послать.
- Разрешите мне сходить за доктором? - предложил, выступая вперед, Уилл
Ладислав. Он взял шляпу еще до того, как вошла гостья. Доротея вспыхнула
от неожиданности, но протянула ему руку, улыбаясь с явной радостью и
говоря:
- А я вас не узнала: не ожидала вас здесь встретить.
- Вы разрешите мне сходить в больницу и сказать мистеру Лидгейту, что
вы хотите его видеть? - спросил Уилл.
- Я пошлю за ним карету, - возразила Доротея. - Так гораздо проще. Не
будете ли вы добры отдать распоряжение кучеру?
Уилл направился к двери, как вдруг Доротея, в чьем воображении
мгновенно пронеслось множество воспоминаний, торопливо повернулась к нему
и сказала:
- Нет, нет, благодарю. Мне хочется как можно скорей возвратиться домой.
Я сама поеду в больницу и поговорю с мистером Лидгейтом. Пожалуйста,
простите меня, миссис Лидгейт. Вы были очень добры.
Ее вдруг поглотила какая-то новая мысль, и, выходя из комнаты, она едва
ли замечала, что происходит вокруг, едва ли заметила, как Уилл распахнул
перед ней дверь и предложил ей руку, чтобы проводить к карете. Она
оперлась на его руку, но не сказала ни слова. Уилл был порядком
раздосадован и подавлен, но и сам не мог придумать, что сказать. Он молча
посадил ее в карету, они попрощались, и Доротея уехала.
Пять минут пути до больницы ушли на совершенно новые для нее
размышления. Решение уехать и охватившая ее в тот миг задумчивость были
порождены внезапным ощущением, что, сознательно поддерживая дальнейшее
знакомство с Уиллом и скрывая это от мужа, она допускает своего рода
обман, да и самая поездка к Лидгейту затеяна украдкой. Все это она
понимала вполне отчетливо, но еще что-то неприятное смутно тревожило ее.
Сейчас, когда она была одна в карете, Доротея как бы вновь услышала
мужской голос и аккомпанировавшее ему фортепьяно, на которые не обратила
внимания сразу. Значит, Уилл Ладислав навещает миссис Лидгейт в отсутствие
ее мужа, с некоторым удивлением подумала она. Правда, ей тут же
вспомнилось, что он и ее навещал, стало быть, в таких визитах нет ничего
дурного. Но ведь Уилл родственник мистера Кейсобона, Доротея обязана его
принимать. И все же, судя по некоторым признакам, мистер Кейсобон был,
пожалуй, недоволен этими визитами в его отсутствие. "Я, должно быть,
многое неверно понимала", - с грустью подумала Доротея. Слезы хлынули
градом, и ей пришлось поспешно их утереть. Огорченная, растерянная, она
почувствовала, что дотоле ясный для нее облик Уилла каким-то образом
исказился. Тем временем карета остановилась у ворот больницы. Вскоре
Доротея уже расхаживала рядом с Лидгейтом по зеленому больничному двору, и
ею снова овладело тревожное волнение, заставившее ее искать этой встречи.
Что до Уилла Ладислава, он тоже был подавлен, но вполне представлял
себе - почему. Ему редко приходилось встречаться с Доротеей, а нынешняя
встреча к тому же оказалась неудачной. Мало того что Доротея, вопреки
обычаю, не была занята только им, она встретила его при обстоятельствах,
показывающих, что и он не был всецело занят ею. Обстоятельства этой
встречи оттеснили его в чуждый Доротее круг обывателей Мидлмарча. Но
виновен ли он в этом? Поселившись в городе, он постарался перезнакомиться
с кем только возможно: его положение требовало, чтобы он знал всех и вся.
Лидгейт, право же, самый достойный из его здешних знакомцев, а миссис
Лидгейт музицирует, да и вообще в ее доме приятно бывать. Так возникла
ситуация, при которой наша Диана столь неожиданно наткнулась на своего
вздыхателя. Убийственная ситуация. Только ради Доротеи живет он в
Мидлмарче - Уилл это прекрасно понимал. В то же время его положение в
городе грозило воздвигнуть между ними преграду, более губительную для
сохранения взаимного интереса, чем расстояние от Рима до Англии.
Сословными предрассудками нетрудно пренебречь, если речь идет о чем-то
наподобие высокомерного письма мистера Кейсобона, но предрассудки, как
пахучие тела, существуют в двух субстанциях - устойчивой и летучей, они
устойчивы, как пирамиды, и неуловимо летучи, как двадцатый отзвук эха или
воспоминание об аромате гиацинтов в ночной тьме. А Уилл по складу
характера был чувствителен к неуловимому: менее тонкий человек не осознал
бы, что в отношение Доротеи к нему впервые вкралась принужденность, и в их
молчании, пока он вел ее к карете, сквозил холодок. Возможно, побуждаемый
ревностью и злобой, Кейсобон убедил жену, что Уилл уже не принадлежит к их
кругу. Черт бы его побрал!
Уилл вернулся в гостиную, взял шляпу и, с раздраженным видом подойдя к
хозяйке, уже пересевшей за пяльцы, сказал:
- Заниматься музыкой или стихами можно только до тех пор, пока не
помешают. Если разрешите, я зайду на днях, и мы еще поупражняемся над
"Lungi dal caro bene" ["Вдали от милого" (ит.)].
- Счастлива быть вашей ученицей, - сказала Розамонда. - Но признайтесь:
на сей раз помеха оказалась прелестной. Я завидую вашему знакомству с
миссис Кейсобон. Что, она очень умна? Судя по виду - да.
- Я, право, об этом не думал, - угрюмо ответил Уилл.
- Точно так же мне ответил Тертий, когда я у него спросила, красива ли
она. Интересно, о чем думаете вы, господа, в ее присутствии?
- О ней самой, - сказал Уилл, которому вдруг захотелось кольнуть
очаровательную миссис Лидгейт. - Когда видишь совершенную женщину, не
задумываешься о ее отдельных свойствах... просто чувствуешь ее
присутствие.
- Когда Тертий поедет в Лоуик, я буду сгорать от ревности, - лукаво
улыбаясь, произнесла Розамонда. - Он ко мне охладеет.
- По-моему, до сих пор с Лидгейтом ничего такого не произошло. Миссис
Кейсобон настолько не похожа на других женщин, что их нельзя с ней
сравнивать.
- Вы, я вижу, ее преданный поклонник. Наверное, вы часто видитесь?
- Нет, - ворчливо ответил Уилл. - Поклонение скорее относится к области
теории, чем практики. Правда, сейчас я злоупотребляю практикой... как ни
печально, мне придется удалиться.
- Загляните к нам как-нибудь вечером, буду рада вас видеть. Мистер
Лидгейт с удовольствием послушает музыку, да и мне приятнее будет
музицировать при нем.
Когда муж возвратился домой, Розамонда, подойдя к нему и взяв обеими
руками за лацканы сюртука, сказала:
- Мы разучивали арию с мистером Ладиславом, когда приехала миссис
Кейсобон. По-моему, он огорчился. Как ты считаешь, может быть, ему не
понравилось, что она его у нас застала? Но ведь ты ничуть не ниже его по
положению, напротив... хоть он и родня Кейсобонам.
- Да нет, не в этом дело; если он и огорчился, то по другому поводу.
Ладислав - нечто вроде цыгана: в нем нет чванства.
- Он превосходный музыкант; но порою не очень любезен. Он тебе
нравится?
- Да. По-моему, он славный малый, несколько легковесен, разбрасывается,
но симпатичный.
- Знаешь, кажется, он без ума от миссис Кейсобон.
- Бедняга! - воскликнул Лидгейт, улыбнувшись и ущипнув Розамонду за
ушки.
Розамонда чувствовала, что начала познавать мир, а главное, сделала
открытие - в годы девичества нечто подобное показалось бы ей немыслимым,
разве что в трагедиях стародавних времен, - заключавшееся в том, что
женщина даже после замужества может завоевывать и порабощать мужчин. В ту
пору юные британские девицы, не исключая воспитанниц миссис Лемон, мало
знали французских авторов, писавших после Расина (*124), а общественная
печать еще не озаряла скандальную хронику столь ярким светом, как сейчас.
И все же достаточно даже малейших намеков, в особенности намека на
осуществимость множества побед, чтобы женское тщеславие, благо досуг
неограничен, разбушевалось во всю мощь. Какое наслаждение пленять,
восседая на брачном престоле рядом с кронпринцем-мужем (в действительности
- тоже подданным), ловить искательные взгляды пленных, утративших покой...
и недурно, чтобы заодно и аппетит! Но сейчас Розамонду больше всего
занимал роман с ее кронпринцем, и она жаждала увериться лишь в его
покорности. Когда он сказал "Бедняга!", она с игривым любопытством
спросила:
- Почему?
- Да ведь когда какая-нибудь из вас, наяд, сведет с ума мужчину, на что
он способен? Забросит работу и тут же станет коллекционировать долговые
счета.
- Ну, уж ты никак не забросил работу. То ты в больнице, то навещаешь
пациентов-бедняков, то поглощен очередной ссорой с врачами, а дома тебя не
оторвешь от микроскопа и всяких склянок. Они тебе милей меня, признайся.
- Неужели ты настолько нечестолюбива, что будешь довольна, если я
навсегда останусь лекарем в Мидлмарче? - сказал Лидгейт, опустив руки на
плечи жене и устремив на нее нежный и серьезный взгляд. - Я познакомлю
тебя с моим любимым четверостишьем, написанным одним старинным поэтом:
Зачем нам суетные почести милы?
Чтоб быть забытыми? Сколь выше цель - создать
Достойное того, чтобы о нем писать,
Писать достойное прочтенья и хвалы.
Вот этого я и хочу, Рози: создать достойное того, чтобы о нем писать, и
самому написать о созданном мною. А для этого надо работать, душенька.
- Ну конечно, мне хочется, чтобы ты делал разные открытия. Я буду
счастлива, если ты достигнешь высокого положения и мы выберемся из
Мидлмарча. Ты не можешь пожаловаться, что я мешаю тебе работать. Но ведь
нельзя же жить отшельником. Тертий, ты мною недоволен?
- Нет, милая, нет. Я даже слишком доволен.
- А о чем с тобой говорила миссис Кейсобон?
- Расспрашивала о здоровье мужа, больше ничего. Кажется, мы можем
ожидать щедрого пожертвования для нашей больницы. По-моему, мы будем
получать от миссис Кейсобон двести фунтов в год.
44
Нет, я не буду жаться к берегам,
А в море по звездам направлю путь.
Когда, прогуливаясь среди лавровых кустов во дворе больницы, Доротея
услышала от Лидгейта, что у мистера Кейсобона не обнаружено новых
болезненных симптомов, если не считать стремления как можно подробней
узнать все о своей болезни, она тут же принялась припоминать, не вызвано
ли это нездоровое стремление каким-нибудь ее поступком или фразой?
Лидгейт, опасаясь упустить возможность сделать все для достижения своей
заветной цели, вдруг сказал:
- Я не знаю, известно ли вам и вашему супругу о нуждах новой больницы?
Пожалуй, я покажусь вам эгоистом, затрагивая при подобных обстоятельствах
этот предмет, но меня можно извинить. Дело в том, что здешние врачи ведут
борьбу против нашей больницы. Мне кажется, подобные проблемы должны вас
интересовать. Помнится, когда я имел удовольствие познакомиться с вами в
Типтон-Грейндже еще до вашего замужества, вы меня расспрашивали, влияет ли
на здоровье бедняков то, что им приходится ютиться в столь жалких жилищах.
- Да, конечно, - загоревшись, сказала Доротея. - Буду очень вам
признательна, если вы скажете, чем я могу хоть немного помочь. Я как-то
отошла от всех этих забот после замужества. - Она замялась и добавила: -
То есть у нас в деревне дома не так уж плохи, а о соседних я не
справлялась, будучи поглощена другими делами. Но здесь, в Мидлмарче...
вероятно, очень много можно сделать.
- Здесь можно сделать все, - оживленно воскликнул Лидгейт. - И основным
полем деятельности стала наша больница, существующая исключительно
благодаря стараниям мистера Булстрода, и в немалой степени - его деньгам.
Но одному человеку такое предприятие не под силу. Он, разумеется,
рассчитывал на помощь. А вместо помощи под нас ведутся гнусные подкопы,
затеянные недоброжелателями.
- Но какие могут быть для этого причины? - с простодушным изумлением
спросила Доротея.
- Главным образом и прежде всего - неприязнь к мистеру Булстроду.
Половина города готова, не щадя трудов, ставить ему палки в колеса. В этом
нелепом мире большинство полагает, что из дела может выйти толк лишь в том
случае, если оно затеяно людьми их круга. До приезда сюда я ничего не знал
о Булстроде. Я отношусь к нему совершенно беспристрастно и вижу, что у
него есть интересные идеи и планы, которые я смогу обратить на пользу
общества. Будь у нас побольше образованных людей, считающих, что их
вмешательство может способствовать развитию теории и практики медицины, их
деятельность не замедлила бы принести плоды. Я в этом убежден. Думаю, что,
отказавшись сотрудничать с мистером Булстродом, я пренебрег бы
возможностью сделать мою профессию более полезной людям.
- Я совершенно с вами согласна, - сказала Доротея, на которую произвела
огромное впечатление вкратце описанная Лидгейтом ситуация. - Но что эти
люди имеют против мистера Булстрода? Мой дядюшка с приязнью относится к
нему.
- Многим не нравится его религиозность, - уклонился от прямого ответа
Лидгейт.
- Ну, тогда он тем более заслуживает поддержки, - сказала Доротея,
которой Мидлмарч вдруг представился полем битвы добра и зла.
- Говоря откровенно, у них есть и другие резоны: Булстрод - человек
деспотичный и довольно необщительный, кроме того, его род занятий сопряжен
с некоторыми сложностями, о которых я не имею понятия. Но какое все это
имеет отношение к его желанию построить здесь очень нужную людям больницу,
подобной которой нет в графстве? Главная придирка наших противников
состоит в том, что руководство медицинской частью доверено мне. Я,
конечно, рад. Это дает мне возможность поработать не за страх, а за
совесть, и я уверен, что мистер Булстрод не раскаивается в своем выборе.
Но покамест все свелось к тому, что мои здешние коллеги ополчились на
больницу и не только сами отказываются сотрудничать со мной, но стремятся
очернить нас в глазах жертвователей.
- Как это мелочно! - негодующе воскликнула Доротея.
- Я полагаю, что за убеждения нужно бороться, иначе, вероятно, ничего
не сделаешь. Здешние обыватели вопиюще невежественны. Я ведь хочу только
воспользоваться для своих исследований кое-какими возможностями, не
выпадающими на долю каждого; но у меня, с их точки зрения, есть
непростительные пороки: я слишком молод, я не здешний, да к тому же знаю
больше, чем местные уроженцы. И все-таки, поскольку я убежден, что могу
изобрести новый, более эффективный метод лечения... могу путем
исследований и наблюдений послужить на пользу медицине, я был бы низким
стяжателем, отказавшись использовать эти возможности из соображений личной
выгоды. И так как жалованья мне никто платить не собирается, то и в
корыстолюбии меня нельзя упрекнуть.
- Я так рада, что вы рассказали мне все это, мистер Лидгейт, - с жаром
произнесла Доротея. - Полагаю, мне удастся вам немного помочь. У меня есть
кое-какие средства, и я просто-не знаю, как их употребить... мысль об этом
меня часто беспокоит. Для столь благородной цели я, несомненно, смогу
выделять по двести фунтов в год. Ах, какое это счастье - быть уверенным,
что твои знания принесут огромную пользу! Завидую вам, что каждый новый
день вы встречаете с этим чувством уверенности. Иные столько трудятся
из-за сущих пустяков!
Последние слова она произнесла упавшим голосом. Но тут же добавила уже
веселей:
- Очень прошу вас, приезжайте в Лоуик и подробнее ознакомьте нас с
делом. Я расскажу об этом мистеру Кейсобону. А сейчас мне нужно спешить
домой.
В тот же вечер она рассказала мужу о больнице, добавив, что хотела бы
жертвовать по двести фунтов в год, - ее ежегодный доход (в процентах с
капитала, закрепленного за Доротеей при вступлении в брак) равнялся
семистам фунтам. Мистер Кейсобон не возражал, а лишь заметил вскользь,
что, пожалуй, эта сумма непомерно велика, коль скоро существуют и другие
благие деяния, но когда Доротея в своем невежестве заупрямилась, не стал
противиться. Сам он равнодушно относился к деньгам и не был скуп. Если
порою он и принимал к сердцу денежные вопросы, то не из скаредности, а по
какой-нибудь иной причине.
Доротея сказала ему, что виделась с Лидгейтом, и передала вкратце суть
их разговора о больнице. Мистер Кейсобон не задал Доротее ни единого
вопроса, но не сомневался, что ездила она узнать, о чем он беседовал с
доктором. "Она знает все, что знаю я", - твердил неугомонный внутренний
голос; но узнавая друг о друге все больше и продолжая молчать, они все
сильнее отдалялись друг от друга. Кейсобон не верил в любовь жены, а какое
одиночество бездоннее, чем одиночество неверия?
45
Людям свойственно превозносить времена предков и
обличать дурные нравы наших дней. В чем они, однако же, не
могут преуспеть, не призывая на помощь сатиру дней
минувших; они клеймят пороки своих времен, изображая
пороки времен, восхваляемых ими, что является
неопровержимым свидетельством общности пороков и тех и
других времен. Таким образом, Гораций, Ювенал и Персей не
были провидцами, хотя и кажется, что их творения
изобличают наши времена.
Сэр Томас Браун, "Pseudodoxia Epidemica"
Упомянутую Лидгейтом в разговоре с Доротеей обструкцию новой больнице,
как и все подобные явления, можно было толковать с самых различных сторон.
Доктор считал ее причиной зависть, смешанную с дремучими предрассудками.
Мистер Булстрод полагал что, помимо зависти, большую роль играет
стремление обывателей во что бы то ни стало помешать ему лично, вызванное
неприязнью к тому деятельному направлению религии, которого он
придерживался, стараясь быть его усердным мирским представителем...
неприязнью, возникшей на почве не только религиозных разногласий, но и
постоянных столкновений чисто житейских интересов. В таком виде обструкция
представлялась основателям больницы. Но источники, питающие обструкцию,
неисчислимы - испытывая неприязнь, люди не ограничивают себя пределами
достоверных знаний, в их распоряжении безбрежные просторы
невежественности. То недоброе, что говорилось в Мидлмарче по поводу новой
больницы и ее основателей, по большей части было отзвуком какой-то ранее
услышанной хулы, ибо волею небес людям свойственно заимствовать чужие
взгляды. Впрочем, существовали оттенки, включавшие в себя всю гамму
общественных мнений - от изысканной умеренности доктора Минчина до
язвительных утверждений миссис Доллоп, владелицы "Пивной кружки" в
Мясницком тупике.
Миссис Доллоп, распаляемая собственными заверениями, все больше
убеждалась, что доктор Лидгейт вознамерился морить, а то и просто
отправлять своих больничных пациентов, дабы резать их потом без позволения
и согласия, ведь "никому не секрет, что он хотел разрезать на куски миссис
Гоби, весьма почтенную особу с Парли-стрит, у которой до замужества был
свой капитал, находившийся в распоряжении опекуна... нет уж, путный доктор
должен понимать, чем больной хворает, еще пока тот жив, и не копаться в
его потрохах, когда больной помер". Если цель доктора не в этом, миссис
Доллоп хотелось бы знать, в чем его цель; впрочем, среди слушателей миссис
Доллоп господствовало убеждение, что ее точка зрения спасительный оплот,
и, будь он опрокинут, тут же начнется сплошное потрошение тел, знаем,
слышали, как Берк и Гар (*125) прославились такими штуками, а у нас в
Мидлмарче эти страсти ни к чему!
Пусть не подумает читатель, что точка зрения "Пивной кружки" в
Мясницкой тупике не играла роли для медиков, - в этом почтенном трактире,
известном больше под названием "заведение миссис Доллоп", собирался
могущественный "Благотворительный клуб", несколько месяцев назад
поставивший на голосование вопрос, не следует ли заменить старинного
клубного лекаря доктора Гэмбита этим Лидгейтом, так удивительно умеющим
исцелять людей и ставить на ноги тех, от кого отступились все другие
врачи. Сторонников кандидатуры Лидгейта оказалось на два меньше, чем ее
противников, по каким-то неведомым причинам полагавших, что способность
воскрешать людей, почти приговоренных к смерти, достоинство сомнительное
и, возможно, противно воле провидения. Впрочем, в течение года в
общественном мнении произошла перемена и выражением ее явилось единодушие
клиентов миссис Доллоп.
Года полтора назад, когда еще ничего не было известно о врачебном
искусстве Лидгейта, о нем судили, руководствуясь особым чутьем, органы
которого расположены то ли под ложечкой, то ли в шишковидной железе и
ценность коего при скудости достоверных сведений нисколько не умалял тот
факт, что чутье это служило источником весьма разнообразных оценок.
Страдавшие от хронических заболеваний, а также те, кто, подобно старику
Фезерстоуну, дышали на ладан, были склонны немедленно обратиться к
Лидгейту; немало находилось и таких, кто не любил оплачивать счета врачей,
и этим людям улыбалась мысль пользоваться в кредит услугами нового доктора
и, не задумываясь, посылать за ним всякий раз, когда раскапризничаются
детишки, что неизменно вызывало раздражение старых семейных врачей.
Представителям всех этих категорий чутье подсказывало, что доктор Лидгейт
хороший врач. Некоторые полагали, что он превзошел своих коллег "по части
печени", во всяком случае, вреда не будет, если взять у него несколько
пузырьков "снадобья", - не поможет, можно снова вернуться к "очистительным
пилюлям", которые, правда, не спасают от желтушности, зато не опасны для
жизни. Но, разумеется, все эти люди не играли главной роли. Лучшие семьи
Мидлмарча не собирались без всяких причин менять врача, а бывшие пациенты
мистера Пикона не считали себя обязанными прибегать лишь потому, что он
преемник их прежнего лекаря, к услугам незнакомого человека, которому, как
утверждали они, "наверняка далеко до Пикока".
Впрочем, прошло немного времени, и личность доктора Лидгейта стала
достаточно известна в городе, чтобы возбудить ожидания, гораздо более
определенные, чем прежде, и обострить вражду лагерей; к волнующего
свойства сведениям о докторе принадлежали и такие, смысл которых
совершенно скрыт, их можно уподобить статистическому отчету, приводимому
без сравнительных данных, но с восклицательным знаком в конце. Какой ужас
объял бы некоторые круги Мидлмарча, если бы там узнали, например, сколько
кубических футов кислорода в год поглощает взрослый человек. "Кислород! Да
что это, собственно, такое? Неудивительно, что в Данциге уже холера! И
после этого утверждают, что карантин ни к чему!"
Так, очень быстро распространились слухи, будто доктор Лидгейт не
составляет сам лекарств. Он возмутил и дипломированных врачей, покусившись
на их привилегии, и аптекарей; а ведь еще совсем недавно жители Мидлмарча
могли рассчитывать, что закон оградит их от людей, которые, не являясь
докторами медицины лондонской выделки, осмелились бы требовать с них
деньги за что-нибудь, кроме лекарств. Однако Лидгейт по неопытности не
предугадал, что принятая им политика окажется особенно оскорбительной для
профанов; и в беседе с мистером Момси, зажиточным бакалейщиком с
Топ-Маркет, который, хоть и не был пациентом Лидгейта, как-то принялся
вежливо расспрашивать его о странном новшестве, доктор не проявил
осмотрительности и весьма кратко и небрежно изложил свои резоны, сообщив,
что практикующие врачи унижают себя и наносят постоянный ущерб обществу,
если единственным источником оплаты их трудов является составление длинных
счетов за порошки, пилюли и микстуры.
- Став на этот путь, добросовестный врач превращается чуть ли не в
шарлатана, - довольно легкомысленно заявил Лидгейт. - Дабы снискать себе
хлеб насущный, они перекармливают лекарствами королевских вассалов; а это
уже государственное преступление, мистер Момси... покушение на нашу
конституцию.
Мистер Момси был не только лазутчиком (беседуя с Лидгейтом, он чуть ли
не выполнял платное поручение), но и астматиком, а также отцом
всевозрастающей семьи; иными словами, как с медицинской, так и с
собственной точки зрения, он являлся важной персоной; и впрямь,
незаурядный бакалейщик: с огненной пирамидальной шевелюрой, всегда готовый
в розницу отпустить почтительность особого, задушевного свойства - шутлив,
но уважителен, и тактично не обнаруживает в полной мере остроту ума.
Дружелюбная шутливость, с которой расспрашивал его мистер Момси, настроила
Лидгейта на такой же шутливый лад. Но не следует обманываться чрезмерной
понятливостью собеседников; она лишь умножает источники недоразумений,
увеличивая цифру расхождений в итогах.
Лидгейт, закончив свою речь, улыбнулся, вставил ногу в стремя, а мистер
Момси смеялся гораздо веселей, чем если бы и в самом деле знал, кто такие
королевские вассалы, и отпустил свое "всего вам доброго, сэр, всего вам
доброго" с видом человека, которому все ясно. В действительности же он был
полностью сбит с толку. В течение многих лет он оплачивал счета по твердо
установленному прейскуранту, никогда не сомневаясь, что получит нечто
измеримое за каждый выложенный им восемнадцатипенсовик и полукрону. Он это
делал с чувством удовлетворения, причисляя к обязанностям мужа и отца и
расценивая особенно длинные счета как достойную упоминания привилегию.
Помимо той огромной пользы, которую медикаменты приносили "ему лично и его
семейству", их употребление позволяло ему судить, гордясь собственной
проницательностью, об эффективности разных лекарств и составить мнение о
профессиональных достоинствах мистера Гэмбита, лекаря, стоявшего
ступенькой ниже, чем Ренч или Толлер, и ценимого главным образом в
качестве акушера; мистер Момси так же сдержанно отзывался о нем, но
неизменно добавлял, понизив голос, что в искусстве прописывания лекарств
Гэмбит не знает себе равных.
На фоне столь глубокомысленных суждений разглагольствования нового
врача казались поверхностными и прозвучали особенно легковесно, будучи
пересказаны супруге мистера Момси в расположенной над лавкой гостиной; как
многодетная мать, она всегда была окружена вниманием, обычно пользуясь
услугами доктора Гэмбита, а порой подвержена приступам, требовавшим
вмешательства доктора Минчина.
- Что же он считает, этот мистер Лидгейт, от лекарств нет толку? -
спросила миссис Момси, имевшая обыкновение слегка растягивать слова. -
Пусть-ка тогда растолкует мне, как бы я продержалась во время ярмарки,
если бы еще за месяц не начинала принимать укрепляющее средство. Вы не
представляете, сколько мне надо всего наготовить для приезжающих, моя
милая. - Тут миссис Момси повернулась к сидящей рядом с ней приятельнице.
- Большой пирог с телятиной, шпигованное филе, говяжья вырезка, ветчина,
язык и так далее, и так далее! Больше всего мне помогает не коричневая, а
розовая микстура. Удивляюсь, мистер Момси, как у вас-то, при ваших
знаниях, достало терпения все это выслушать. Я-то уж сразу бы ему
выложила, что учить меня не стоит.
- Нет, нет, нет, - ответил мистер Момси. - Свое мнение я держу при
себе. Выслушай все и поступай по-своему - вот мой девиз. Он ведь не
догадывается, что я за человек. Уж меня-то ему не обвести вокруг пальца. Я
привык, что многие вроде бы растолковывают мне что-то, а сами думают:
"Дурень ты, Момси". А я только улыбаюсь: знаю насквозь, где у кого слабое
местечко. Ежели бы лекарства причинили какой-то вред мне лично или моему
семейству, я бы давно это выяснил.
На следующий день мистеру Гэмбиту сообщили, что Лидгейт отрицает
полезность лекарств.
- Вот как! - сказал он, с легким удивлением приподняв брови. Это был
тучный, коренастый человек с массивным перстнем на безымянном пальце. -
Каким же образом он собирается лечить больных?
- Вот и я сказала то же, слово в слово, - отозвалась миссис Момси,
склонная для вящей выразительности своих речей ставить особое ударение на
личные местоимения. - Может быть, он думает, ему станут платить только за
то, что он придет, посидит и отправится восвояси?
Мистер Гэмбит во время своих визитов засиживался у миссис Момси
подолгу, весьма подробно сообщая ей о состоянии собственного здоровья и
прочих делах; но он отлично знал, что в реплике его пациентки не
содержится инсинуаций, ибо не взимал платы за досужие рассказы о своей
особе. Поэтому он шутливо сказал:
- Что ж, Лидгейт, знаете ли, недурной собою малый.
- Не из тех, к кому бы обратилась я, - сказала миссис Момси. - Другие
могут поступать как им угодно.
Так мистер Гэмбит удалился, уже не опасаясь конкурента, но заподозрив в
нем одного из тех лицемеров, которые афишируют свою честность за счет
других, в связи с чем их следовало бы вывести на чистую воду. Однако у
мистера Гэмбита был немалый круг пациентов, крепко попахивающих лавкой, -
обстоятельство, которое помогало ему свести до минимума наличные расходы.
Поэтому он считал, что выводить Лидгейта каким-то неведомым образом на
чистую воду следует кому-то другому, а не ему. Мистер Гэмбит и впрямь не
отличался образованностью, в пору отстоять хоть собственный авторитет,
впрочем, он был неплохим акушером, хотя именовал пищеварительную систему
"нутром".
Для прочих медиков задача оказалась более посильной. Мистер Толлер имел
в городе очень большую практику и принадлежал к старинной мидлмарчской
семье: Толлеры попадались в судейском сословии и во всех иных,
возвышавшихся над уровнем сословия розничных торговцев. В отличие от
нашего раздражительного приятеля Ренча, он в тех случаях, когда, казалось,
имел все основания вспылить, проявлял редкостное миролюбие, как и положено
благовоспитанному, слегка ироничному человеку, гостеприимному хозяину,
любителю охоты и верховой езды, очень дружелюбно относящемуся к мистеру
Хоули и враждебно - к мистеру Булстроду. Может показаться странным, что
при подобном благодушии мистер Толлер предпочитал самые решительные меры
врачевания, отворял кровь, ставил нарывные пластыри, морил пациентов
голодом, нисколько не тревожась о том, что не служит им личным примером;
но как раз это несоответствие особенно укрепляло веру в его талант среди
больных, утверждавших, что мистер Толлер хоть нетороплив, а по части
лечения всех обошел; никто, говорили они, не относится так серьезно к
своей профессии: он немного тяжеловат на подъем, но если уж поднимется, то
недаром. Он пользовался большим уважением в своем кругу, и его
неодобрительные замечания звучали вдвойне веско оттого, что он произносил
их беспечно, ироническим тоном.
Разумеется, ему уже надоело улыбаться и восклицать "О!" каждый раз, как
ему сообщали, что преемник мистера Пикока не намеревается прописывать
лекарств; и когда однажды после званого обеда мистер Хекбат упомянул об
этом за рюмкой вина, мистер Толлер сказал со смехом:
- Что ж, значит, Диббитс сбудет с рук весь свой залежавшийся запас
лекарств. Мне нравится малыш Диббитс, я рад его удаче.
- Толлер, я вас понял, - сказал мистер Хекбат, - и полностью с вами
согласен. Не премину и сам при случае высказать это мнение. Врач должен
отвечать за качество лекарств, которые потребляют его пациенты. Такова
основа общепринятой системы лечения; и ничего нет вредоноснее новшеств,
затеянных из чванливости, а не для пользы дела.
- Чванливости? - насмешливо переспросил мистер Толлер. - Я не вижу, в
чем она заключается. Довольно трудно чваниться тем, во что никто не верит.
Да и новшеств тут нет никаких, вся разница в том, собирает ли доктор мзду
за выписанные лекарства с аптекарей или с пациентов и набегает ли ему
доплата за так называемый врачебный присмотр.
- В этом можете не сомневаться. Старое жульничество на новый лад, -
сказал мистер Хоули, передавая мистеру Ренчу графинчик.
На званых обедах мистеру Ренчу зачастую изменяла обычно свойственная
ему воздержанность в употреблении напитков, и он становился еще
раздражительнее.
- Жульничество, - проворчал он. - Этакими словами легко швыряться. Меня
другое возмущает: как не стыдно врачам выносить сор из избы и кричать во
всеуслышание, что врач, сам составляющий лекарства, не джентльмен. Я
отметаю это обвинение. Самый неджентльменский поступок, заявляю я, - это
протаскивать сомнительные новшества и порочить освященную веками
процедуру. Таково мое мнение, и я готов отстаивать его против всякого, кто
со мной поспорит. - Голос мистера Ренча зазвучал весьма пронзительно.
- Не смогу вам оказать такой услуги, - сказал мистер Хоули, засовывая
руки в карманы панталон.
- Дорогой мой, - умиротворяюще обратился к мистеру Ренчу мистер Толлер,
- больнее, чем нам, этот малый наступил на мозоль Минчину и Спрэгу. Пусть
они и отстаивают свою честь.
- А медицинское законодательство не ограждает нас от действий таких
выскочек? - спросил мистер Хекбат, решив, что и ему, наконец, следует
проявить интерес. - Что об этом говорит закон, а, Хоули?
- Ничего нельзя поделать, - сказал мистер Хоули. - Спрэг уже просил
меня навести справки. Как судья захочет, так и будет, против его решений
не пойдешь.
- Фи, стоит ли сутяжничать, - сказал мистер Толлер. - Больным и так
ясна нелепость новой методы. Она не может им понравиться, тем паче
пациентам Пикока, взращенным на слабительных средствах. Передайте вино.
Предсказание мистера Толлера уже отчасти подтвердилось. Если мистера и
миссис Момси, отнюдь не собиравшихся прибегать к помощи Лидгейта,
озадачили слухи об отрицании им лекарств, то те, кто его приглашали,
разумеется, не без тревоги следили, применяет ли он "все возможные
средства". Даже добрейший мистер Паудрелл, склонный все истолковывать в
лучшую сторону и особенно расположенный к Лидгейту за предполагаемое в нем
ревностное стремление осуществить полезные для общества преобразования, не
избежал сомнений, когда у его жены началось рожистое воспаление, и, не
удержавшись, упомянул, что мистер Пикок при сходных симптомах провел курс
лечения пилюлями, описывая которые мистер Паудрелл смог лишь сообщить, что
они чудесным образом исцелили к Михайлову дню [29 сентября] его супругу,
захворавшую в августе, на редкость жарком в том году. Под конец, терзаемый
борьбой между опасением обидеть Лидгейта и стремлением не упустить ни
единого из "средств", он посоветовал жене принять тайком "очистительные
пилюли Виджина", весьма почитаемый в Мидлмарче медикамент, останавливающий
любую болезнь в самом начале путем немедленного воздействия на кровь. Об
этом универсальном средстве Лидгейту не упомянули, да и сам мистер
Паудрелл не так уж рассчитывал на него, а лишь надеялся, что вдруг оно
поможет.
Но тут на скользком пути новичка возникло то, что мы, смертные,
легкомысленно называем удачей. Я думаю, нет доктора, который, приехав в
новое место, не поразил бы кого-нибудь успешными исцелениями - их можно
назвать аттестатами судьбы, и они заслуживают не меньше доверия, чем
отпечатанные или написанные от руки. Из пациентов Лидгейта многие
выздоравливали, в том числе даже тяжко больные; а потому было замечено,
что у нового доктора, невзирая на все новшества, есть по меньшей мере одно
достоинство: он возвращает к жизни людей, стоящих на краю могилы.
При этом говорилось много вздора, что особенно сердило Лидгейта, ибо
создавало ему именно тот престиж, к которому стал бы стремиться неумелый и
беспринципный врач, и давало основание неприязненно настроенным коллегам
обвинять его в распространении лживых слухов среди невежд. Но даже при
своей гордости и прямоте он вынужден был молчать, поскольку не сомневался,
что пресечь порожденные невежеством слухи в такой же степени невозможно,
как схватить рукой туман, а сопутствующие удаче слухи упорно росли.
Добрейшая миссис Ларчер попросила доктора Минчина, который явился к ней
с визитом, заодно осмотреть ее приходящую служанку, чье здоровье внушало
ей серьезные опасения, и выдать этой женщине бумагу для предъявления в
больнице; врач осмотрел больную и написал записочку в больницу, где было
сказано, что подательница сего Нэнси Нэш страдает от опухли и ей
рекомендуется амбулаторное лечение. По дороге в больницу Нэнси заглянула
домой и дала корсетнику с женой, у которых снимала мансарду, прочесть
бумажку, в результате чего во всех расположенных вблизи Кладбищенского
переулка лавках начали судачить, что у бедняжки нашли твердую опухоль
величиной - в начале дня с утиное яйцо, а под конец - "примером, с кулак".
Большинство полагало, что опухоль надо вырезать, впрочем, кто-то слыхал о
лекарственном масле, еще кто-то - о корешке, и оба эти средства, обильно
принятые внутрь, могли смягчить и рассосать любое затвердение, масло -
"помаленьку", а корешок - сразу.
Нэнси тем временем явилась в больницу, где как раз дежурил Лидгейт.
Расспросив и осмотрев больную, Лидгейт вполголоса сказал хирургу: "Это не
опухоль, просто спазм". Он велел поставить ей пластырь, дал микстуру и
написал записку миссис Ларчер - добрейшей из всех ее хозяек, по
утверждению Нэнси, - где сообщил, что больная нуждается в хорошем питании.
Спустя некоторое время Нэнси стало значительно хуже; опухоль под
пластырем исчезла, зато переместилась в сторону, и боль стала еще злее.
Жена корсетника отправилась за Лидгейтом. После этого Лидгейт в течение
двух недель навещал Нэнси на дому, и в результате его лечения больная
совершенно выздоровела и снова начала работать. Правда, в Кладбищенском
переулке и на прочих улицах все и даже сама миссис Ларчер продолжали
утверждать, что у Нэнси была опухоль, ибо, когда об успехе Лидгейта
упомянули при мистере Минчине, тот, разумеется, не пожелал сказать: "У
больной не было опухоли, я ошибся", - а ответил: "В самом деле! Гм. Я
сразу понял: случай хирургический, но не опасен для жизни". Впрочем, он
был задет, когда через два дня после прихода Нэнси в больницу справился о
присланной им пациентке, и тамошний хирург, юнец, воспользовавшийся
возможностью безнаказанно уязвить доктора Минчина, прямо выложил ему, как
обстояло дело; своим знакомым Минчин объявил, что непорядочно так резко
опровергать поставленный коллегой диагноз, а позже согласился с Ренчем,
что Лидгейт возмутительно пренебрегает этикой. Для Лидгейта же этот случай
не послужил поводом возгордиться или с презрением отнестись к Минчину,
поскольку даже равным по квалификации врачам часто приходится исправлять
ошибки друг друга. Но поразительное исцеление опухоли, которую не совсем
отличали от рака и считали особенно страшной из-за ее свойства блуждать,
стало достоянием молвы; Лидгейту почти полностью простили его отношение к
лекарствам после того, как он доказал свое блистательное искусство, весьма
быстро вылечив Нэнси Нэш, которую так долго изводила
мучительно-болезненная опухоль, твердая, ускользающая и все же
уничтоженная под конец.
Впрочем, что мог сделать Лидгейт? Невежливо говорить даме, которая
восторгается твоим искусством, что она совершенно не права и ее восторги
глупы. А начав подробно объяснять природу заболевания, он только лишний
раз нарушит врачебный этикет. Скрепя сердце встретил он свой первый успех,
нимало не заслуженный, как всякое порождение невежественной хвалы.
В случае с более солидным пациентом, мистером Бортропом Трамбулом,
Лидгейт признавал, что проявил себя не совсем заурядным врачом, хотя и тут
его достижения представлялись ему малозначительными. Красноречивый
аукционист захворал воспалением легких и как бывший пациент мистера Пикока
послал за Лидгейтом, которому явно собирался покровительствовать. Мистер
Трамбул, мужчина дюжий, представлял собой подходящий объект для
опробования выжидательного метода, состоящего в том, чтобы, не вмешиваясь
по мере возможности, следить за течением изучаемой болезни и, отметив все
ее этапы, в дальнейшем принять их к сведению. Слушая, как описывает свои
ощущения пациент, Лидгейт предположил, что того, вероятно, обрадует
доверие врача и возможность стать соучастником собственного исцеления.
Аукционист почти не удивился, услыхав, что человека его конституции можно
во время болезни предоставить самому себе (разумеется, держа под
наблюдением) и таким образом в совершенстве изучить все стадии заболевания
и что редкостная сила духа, возможно, позволит ему добровольно стать
объектом важного эксперимента, благодаря чему нарушения его легочных
функций послужат на благо общества.
Мистер Трамбул согласился без раздумий, убежденный, что его болезнь -
незаурядное явление в медицине.
- Не опасайтесь, сэр, вы говорите с человеком, который кое-что смыслит
в vis medicatrix [врачующей силе (лат.)], - сказал он со свойственным ему
самонадеянным видом, производящим несколько жалостное впечатление из-за
одышки. И он, не дрогнув, отказался от лекарств, черпая силу в сознании,
что для науки важна его температура (иначе ему не ставили бы градусник),
что он снабжает медицину материалом для изучения под микроскопам, а также
в усвоении множества новых слов, звучавших достаточно импозантно для
обозначения его секреций. Лидгейт проявил должную сообразительность и по
временам беседовал с ним на профессиональные темы.
Можно не сомневаться, что, встав с одра, мистер Трамбул охотно
рассказывал о болезни, во время которой обнаружил как силу духа, так и
крепость телосложения; в своих рассказах он не преминул воздать должное
врачу, распознавшему достоинства столь ценного пациента. Аукционист не был
неблагодарным существом и при случае с удовольствием отмечал заслуги
ближних. Он запомнил фразу "выжидательный метод" и наряду с другими
учеными терминами подкреплял ею заверения, что Лидгейт "знает побольше
всех остальных врачей... проник в тайны своей профессии гораздо
основательнее, чем почти все его коллеги".
Это случилось еще до того, как болезнь Фреда Винси дала мистеру Ренчу
вполне определенные основания для личной неприязни к Лидгейту. Вновь
прибывший и так вызывал досаду как конкурент, но еще большую досаду у
обремененных многочисленными обязанностями коллег, которым было не до
введения новых теорий, возбуждали слухи о его методах лечения. Его
практика расширилась в одном-двух кварталах, и, едва разнеслась молва об
аристократическом происхождении Лидгейта, его принялись звать в гости
почти все, так что прочим медикам пришлось встречаться с ним за обедом в
лучших домах. Между тем, как замечено, встречи с несимпатичным тебе
человеком не всегда способствуют возникновению взаимной приязни.
Мидлмарчские врачи еще никогда не отличались таким единодушием, какое они
проявили, выразив мнение, что Лидгейт высокомерный юнец, готовый, впрочем,
ради карьеры пресмыкаться перед Булстродом. А то, что мистер Фербратер,
чье имя было знаменем антибулстродовской партии, постоянно заступался за
Лидгейта и завел с ним дружбу, приписывали странной манере Фербратера
сражаться и на той, и на другой стороне.
Буря негодования, которую вызвало сообщение о своде правил,
установленных мистером Булстродом для новой больницы, разразилась, таким
образом, не на пустом месте, и ярость противников Булстрода особенно
разжигало то, что они никак не могли ему воспрепятствовать поступать по
собственному усмотрению, поскольку все, кроме лорда Медликоута, в свое
время отказались помочь строительству новой больницы, ссылаясь на
приверженность к старой. Мистер Булстрод оплачивал все расходы и давно уже
не сожалел о приобретении права делать все по-своему, без помех со стороны
предубежденных сподвижников, но ему приходилось тратить крупные суммы, и
строительство затянулось. Сперва подрядчиком был Кэлеб Гарт, однако он
обанкротился еще до того, как началась внутренняя отделка здания; когда
при Кэлебе упоминали больницу, он обычно говорил, что как бы там ни
толковали о Булстроде, но добротную работу плотников и каменщиков он
способен оценить и здраво судит как о водосточных, так и о печных трубах.
Больница стала для Булстрода предметом живейшего интереса, и он охотно
выкладывал бы каждый год крупную сумму за право распоряжаться своим
детищем как ему вздумается, без попечительского совета, если бы не еще
одна заветная мечта, тоже требовавшая денег для своего осуществления:
Булстроду хотелось приобрести землю в окрестностях Мидлмарча, и поэтому он
нуждался в значительных пожертвованиях со стороны на содержание больницы.
Тем временем он набросал примерный распорядок больницы. В ней должны были
лечить все виды горячек; Лидгейту поручался надзор над медицинской частью,
с тем чтобы он мог вполне свободно осуществлять все сравнительные
исследования, в важности которых убедился, изучая медицину прежде, главным
образом в Париже. Все прочие врачи числились просто консультантами, так
что право окончательного решения оставалось за Лидгейтом. Управлять
больницей будет совет пяти директоров, связанных с мистером Булстродом. Их
право голоса зависит от размеров их вкладов, и если кто-нибудь из членов
уйдет, остальные выбирают ему преемника сами, с тем чтобы не допускать к
управлению свору мелких пожертвователей.
Все городские врачи, как один, сразу же отказались быть консультантами
новой больницы.
- Ну и что, - сказал Лидгейт Булстроду. - Хирург у нас отменный,
дельный и искусный; он же может составлять лекарства; дважды в неделю
будет консультировать Уэбб из Крэбсли, сельский врач, не уступающий
городским, а в случае сложной операции можно вызвать из Брассинга доктора
Протероу. У меня прибавится работы, вот и все, но я уже и так отказался от
должности в старой больнице. Несмотря на все помехи, мы добьемся своего, и
те, кто нам сейчас мешает, сами станут к нам проситься. Положение
непременно должно измениться; не за горами всевозможные реформы, и тогда
молодежь устремится к нам на выучку.
Лидгейт был полон веры в будущее.
- Можете не сомневаться, мистер Лидгейт, я не отступлюсь, - заявил
мистер Булстрод. - Решительно добиваясь осуществления высоких целей, вы
всегда встретите поддержку с моей стороны. А я осмелюсь уповать, что в
моей борьбе со злом в этом городе мне по-прежнему будет сопутствовать
благословение небес. Несомненно, я сумею подыскать подходящих директоров
себе в помощь. Мне уже дал согласие мистер Брук из Типтона и обещал
ежегодно жертвовать некоторую сумму в пользу больницы; какую именно, он не
назвал... вероятно, небольшую. Но он будет полезным членом совета.
Полезными членами совета, очевидно, следовало называть тех, которые
ничего не выдумают сами и всегда будут голосовать заодно с мистером
Булстродом.
Коллеги-медики теперь почти и не пытались скрывать свою неприязнь к
Лидгейту. Ни доктор Спрэг, ни доктор Минчин, впрочем, не утверждали, что
им несимпатичны познания Лидгейта и его стремление усовершенствовать
лечебный процесс; им не нравилось его высокомерие, и тут нельзя было хоть
отчасти с ними не согласиться. Лидгейта считали наглым, заносчивым и
склонным к безрассудным новшествам, вся цель которых - пустить людям пыль
в глаза, что прежде всего свойственно шарлатанам.
Словечко "шарлатан", единожды сорвавшись с чьих-то уст, пошло гулять по
городу. В ту пору свет взволнованно обсуждал чудесные деяния мистера
Сент-Джона Лонга (*126), "дворянина и джентльмена", объявившего, что ему
удалось извлечь из висков пациента жидкость, подобную ртути.
Мистер Толлер однажды с улыбкой сказал миссис Тафт, что "Лидгейт
находка для Булстрода; шарлатану в религии должны прийтись по вкусу все
другие виды шарлатанов".
- Ну еще бы, представляю себе, - отозвалась миссис Тафт, старательно
повторяя в уме: "тридцать петель". - Их хоть пруд пруди. Вспомните мистера
Чешайра, того самого, что пробовал распрямлять железками людей, которых
всемогущий создал горбатыми.
- Нет, нет, - возразил мистер Толлер. - С Чешайром дело обстояло
благополучно... у него все честно, без обмана, зато есть такой Сент-Джон
Лонг - вот он из тех, Кого называют шарлатанами, восхваляет какие-то
неслыханные лечебные процедуры и, притворяясь, будто знает больше других,
просто создает вокруг себя шумиху. Недавно ему якобы удалось извлечь ртуть
из мозга Одного больного.
- Подумать только! Допускать такое надругательство над человеческой
натурой! - вскричала миссис Тафт.
После этого повсеместно распространилось мнение, что, если Лидгейту
понадобится, он готов рискнуть натурами даже самых почтенных людей, а уж
больничных пациентов и вовсе готов принести в жертву ради своих
легкомысленных экспериментов. И разумеется, никто не сомневался, что он
будет во что горазд "потрошить" покойников, как выразилась владелица
"Пивной кружки". Когда пациентка Лидгейта миссис Гоби умерла (по всей
очевидности, от болезни сердца с не очень четко выраженными симптомами), у
него хватило безрассудства попросить родню покойной разрешить ему вскрытие
тела, и весть об этом мгновенно облетела Парли-стрит, где проживала эта
дама, пользуясь доходом, вполне достаточным, чтобы сделать вопиюще
оскорбительной параллель между миссис Гоби и жертвами Берка и Гара.
В таком положении находились дела, когда в разговоре с Доротеей Лидгейт
упомянул о больнице. Как мы видим, он мужественно переносил окружавшую его
невежественность и враждебность, догадываясь, что к нему бы относились
лучше, если бы не выпавший на его долю успех.
- Меня не заставят уехать отсюда, - заявил он во время откровенной
беседы с мистером Фербратером в его кабинете. - В этом городе у меня есть
надежда осуществить свои самые заветные планы; я практически уверен, что
моих доходов хватит. Я собираюсь вести размеренный образ жизни; ничто меня
теперь не отвлекает от дома и работы. И я все больше убеждаюсь, что сумею
доказать единое происхождение всех тканей. Я упустил много времени -
Распайль (*127) и прочие идут по тому же пути.
- Мне трудно быть пророком в этой области, - сказал мистер Фербратер,
задумчиво попыхивавший трубкой все время, пока говорил Лидгейт, - но мне
кажется, вы сумеете преодолеть враждебность здешних жителей, если проявите
благоразумие.
- Как мне проявлять его? - воскликнул Лидгейт. - Просто каждый раз я
делаю то, что приходится. Я, как Везалий (*128), бессилен в борьбе с
глупцами и невеждами. Ведь не стану же я приноравливаться к дурацким
домыслам, которые даже предугадать невозможно.
- Совершенно верно; я не это имел в виду. Я имел в виду всего две вещи.
Во-первых, непременно постарайтесь как-то обособиться от Булстрода.
Разумеется, вы можете по-прежнему продолжать вашу полезную деятельность,
прибегая к его помощи, но не связывайте себя. Вам может показаться, что я
предубежден, - не отрицаю, так оно и есть, - но предубеждение не всегда
ошибка, оно возникает на основе впечатлений, так что его вполне можно
назвать мнением.
- Булстрод для меня ничто, - небрежно сказал Лидгейт. - Нас связывает
только больница. Сблизиться с ним очень тесно я не могу уже хотя бы
потому, что не испытываю к нему особой приязни. Ну, а во-вторых? - спросил
Лидгейт, который сидел в весьма непринужденной позе и, как видно, не очень
нуждался в советах.
- А во-вторых - вот что. Будьте осторожны - ехperto credo - будьте
осторожны в денежных делах. Вы как-то дали мне понять, что не одобряете
моей привычки играть в карты на деньги. Вы правы, разумеется. Но
постарайтесь и сами обойтись без долгов. Возможно, я преувеличиваю
опасность, но все мы любим покрасоваться, выставляя себя в качестве
дурного примера перед ближними.
Лидгейт выслушал намеки Фербратера очень благодушно, хотя вряд ли стал
бы их терпеть от кого-нибудь другого. Ему невольно вспомнилось, что он
недавно сделал несколько долгов, впрочем, избежать их, казалось, было
невозможно, зато он собирался впредь жить очень скромно. Он задолжал за
мебель, но теперь уже не нужно было обновлять обстановку; какое-то время
не потребуется даже пополнять запас вина.
Лидгейт был полон бодрости - и не без оснований. Человек, стремящийся к
достойной цели, не обращает внимания на мелкие дрязги, ибо помнит о
великих деятелях, тоже прошедших тернистый путь, они всегда, как
ангелы-хранители, незримо ему помогают. В тот же вечер, после беседы с
мистером Фербратером, доктор, погрузившись в размышления, лежал дома на
диване в своей излюбленной позе, вытянув длинные ноги, откинув голову и
подсунув под затылок ладони, а Розамонда, сидя за фортепьяно, играла одну
пьесу за другой, о которых ее супруг знал (как и положено сентиментальному
слону) только, что под них хорошо думается, как под шум морского прибоя.
Нечто весьма привлекательное проглядывало сейчас в его облике. Казалось
несомненным, что он осуществит все свои замыслы.
От его темных глаз, от губ, от лба веяло безмятежным спокойствием,
свидетельствующим, что он погружен в тихое раздумье, что его ум не ищет, а
созерцает, и созерцаемое отражалось в глазах.
Спустя немного времени Розамонда встала из-за фортепьяно и опустилась в
кресло возле дивана, лицом к мужу.
- Достаточно с вас музыки, милорд? - спросила она с шутливым смирением,
сложив руки перед грудью.
- Да, если ты устала, милая, - нежно ответил Лидгейт и обратил к ней
взгляд, но не пошевелился. Присутствие Розамонды в эту минуту произвело не
больше действия, чем вылитая в озеро ложечка воды, и женским инстинктом
она сразу это угадала.
- Чем ты озабочен? - спросила она, наклоняясь к самому лицу мужа.
Он вынул руки из-под головы и нежно положил их ей на плечи.
- Думаю об одном замечательном человеке, жившем триста лет назад.
Будучи примерно в моем возрасте, он открыл в анатомии новую эру.
- Не знаю, кто это, - сказала, покачав головой, Розамонда. - У миссис
Лемон мы играли в отгадывание великих людей, но только не анатомов.
- Я скажу тебе кто. Его имя Везалий. Чтобы как следует изучить
анатомию, ему пришлось похищать с кладбищ и с виселиц трупы.
- Ой! - сказала Розамонда с брезгливой гримаской. - Очень рада, что ты
не Везалий. По-моему, он мог бы избрать менее кошмарный способ.
- Не мог, - ответил Лидгейт, увлекшись и не обращая большого внимания
на жену. - Чтобы составить полный скелет, он выбрал единственный имевшийся
в его распоряжении путь: выкрадывал глубокой ночью кости казненных на
виселице преступников, зарывал их в землю и по частям переносил домой.
- Надеюсь, он не принадлежит к твоим любимым героям, - полуигриво,
полувстревоженно сказала Розамонда. - А то ты еще повадишься по ночам на
кладбище святого Петра. Помнишь, ты рассказывал, как все на тебя
рассердились из-за миссис Гоби. У тебя и так уже достаточно врагов.
- У Везалия их тоже было много, Рози. Стоит ли удивляться, что мне
завидуют ваши старозаветные лекари, если величайшие врачи негодовали на
Везалия, так как верили Галену (*129), а Везалий доказал, что Гален
заблуждался. Они называли его лжецом и мерзким отравителем. Но Везалий
располагал данными о строении человека и разбил противников в пух и прах.
- А что с ним было потом? - спросила с некоторым интересом Розамонда.
- Ему пришлось бороться всю жизнь. Однажды его рассердили так сильно,
что он сжег многие свои работы. Потом он попал в кораблекрушение на пути
из Иерусалима в Падую, где ему предлагали должность профессора. Умер он в
бедности.
Немного помедлив, Розамонда сказала:
- Знаешь, Тертий, я часто жалею, что ты занимаешься медициной.
- Полно, Рози, не надо так говорить, - сказал Лидгейт, привлекая ее к
себе. - Это все равно, как если бы ты сожалела, что не вышла за другого
человека.
- Вовсе нет, ты такой умный, ты мог бы заниматься чем угодно. Все твои
куоллингемские кузены считают, что, выбрав такую профессию, ты поставил
себя ниже их.
- К черту куоллингемских кузенов! - презрительно ответил Лидгейт. -
Говорить тебе такие вещи могут лишь наглецы вроде них.
- И все-таки, - сказала Розамонда, - мне твоя профессия не кажется
приятной, милый мой. - Мы уже знаем, что Розамонда мягко, но упорно всегда
стояла на своем.
- Это величайшая из всех профессий, Розамонда, - серьезно сказал
Лидгейт. - И говорить, что, любя меня, ты не любишь во мне врача, все
равно что утверждать, будто тебе нравится есть персики, но не нравится их
вкус. Не говори так больше, дорогая, ты меня огорчаешь.
- Отлично, доктор Хмурый-Лик, - сказала Рози, выставляя напоказ все
свои ямочки. - Впредь я буду во всеуслышание объявлять, что обожаю
скелеты, похитителей трупов, всякую гадость в аптечных пузырьках, буду
подбивать тебя со всеми перессориться, а умрем мы в нищете.
- Нет, нет, нет, все вовсе не так скверно, - сказал Лидгейт и,
смирившись, прекратил спор и приласкал жену.
46
Pues no podemos haber aquello que queremos,
queramos aquello que podremos.
Если ты не имеешь того, что тебе нравится,
пусть тебе нравится то, что ты имеешь.
Испанская пословица
В то время как Лидгейт, счастливый супруг и глава новой больницы, вел
борьбу за медицинскую реформу против Мидлмарча, Мидлмарч все явственнее
ощущал общенациональную борьбу за реформу другого рода.
Когда палата общин начала обсуждать предложение лорда Джона Рассела
(*130), в Мидлмарче снова ожил интерес к политике и наметилась новая
ориентация партий, что сулило в случае еще одних выборов совсем иную
расстановку сил. Некоторые уверяли, что новые выборы неизбежны, поскольку
при нынешнем парламенте билль о реформе не пройдет. Именно на это
обстоятельство сослался Уилл Ладислав, поздравляя мистера Брука с тем, что
тот воздержался от выступлений во время последней предвыборной кампании.
- Сейчас все будет произрастать и созревать, как в год кометы, - сказал
Уилл. - Вопрос о реформе поставлен, и общественные страсти раскалятся до
температуры комет. Вполне вероятно, вскоре состоятся выборы, и к тому
времени Мидлмарчу не мешало бы обзавестись кое-какими новыми идеями.
Сейчас нужно как можно больше внимания отдавать "Пионеру" и политическим
митингам.
- Совершенно верно, Ладислав; общественное мнение надо воспитывать, -
сказал мистер Брук, - но знаете ли, мне нежелательно связывать себя с
реформой, не хочется заходить слишком далеко. Я, знаете ли, предпочту
пойти путем Уилберфорса и Ромильи, я не прочь заняться вопросами,
связанными с освобождением негров, уголовными законами... чем-то в этом
роде. Но Грея я, разумеется, поддержу.
- Если вы причисляете себя к сторонникам реформы, вы не можете быть
независимым от обстоятельств, - сказал Уилл. - Если каждый станет
отстаивать только свои интересы, ни с кем не считаясь, все у нас пойдет
прахом.
- Да, да, согласен с вами... я разделяю вашу точку зрения. Я бы
сформулировал это таким образом: Грея я, знаете ли, поддержу. Но я не
желаю изменять суть конституции, и думаю, Грей тоже не желает.
- Но этого желает страна, - сказал Уилл. - Иначе какой смысл в
политических союзах и в иных формах движения сознательных граждан. Они
требуют, чтобы в палате общин заседали не одни лишь депутаты от
землевладельцев, а представители различных слоев общества. Ратовать за
реформу без этого все равно что выпрашивать горстку снега, когда на тебя
движется снежная лавина.
- Прекрасно вы сказали, Ладислав, очень точно. Пожалуйста, запишите
это. Надо начать подбирать документы о настроении в стране, не только о
всеобщем обнищании и разрушении машин.
- Что касается документов, - сказал Уилл, - то и двухдюймовая карточка
может рассказать о многом. Несколько столбцов цифр продемонстрируют
бедственное положение страны, а еще несколько покажут, с какой скоростью
возрастает политическая активность масс.
- Хорошо, только сделайте поподробней эту диаграмму, Ладислав. И
напечатайте в "Пионере". Приведите, знаете ли, цифры, которые
продемонстрируют нищету; потом другие цифры, которые продемонстрируют... и
так далее. Вы превосходно умеете все изложить. Вот, например, Берк...
когда я вспоминаю Берка, я всегда жалею, что среди нас нет какого-нибудь
владельца "гнилого местечка", который выдвинул бы вашу кандидатуру. Вас,
знаете ли, никогда не изберут в парламент. А нам нужны там таланты, при
наших реформах нам всегда будут нужны таланты. Эта вот горстка снега и
лавина, право же, несколько в духе Берка (*131). Мне такое очень нужно...
не идеи, знаете ли, а умение образно их изложить.
- Гнилые местечки, - сказал Ладислав, - были бы очень уместны, если бы
от каждого выдвигался местный Берк.
Лестное сравнение, даже исходящее от мистера Брука, доставило Уиллу
удовольствие - не такое уж легкое испытание для человеческой натуры
сознавать, что ты владеешь словом лучше, чем другие, а этого никто не
замечает; так, истосковавшись по заслуженной похвале, обретаешь утешение
даже в случайных рукоплесканиях, если они раздадутся вовремя. Уилл
чувствовал, что пишет слишком утонченно для того, чтобы его оценили в
Мидлмарче, тем не менее он все серьезнее втягивался в работу, за которую
когда-то взялся, беспечно подумав: "Почему бы не попробовать?" И
политическую обстановку изучал с таким же пылом, с каким прежде осваивал
стихотворные ритмы и искусство средних веков. Несомненно, если бы он не
стремился находиться поблизости от Доротеи и, возможно также, если бы он
знал, чем еще себя занять, Уилл не раздумывал бы сейчас о нуждах
английского народа и не критиковал действия английского правительства;
вероятно, он скитался бы по Италии, набросал бы план нескольких пьес,
обратился бы к прозе и счел ее слишком сухой, обратился бы к поэзии и счел
ее ненатуральной, принялся бы копировать фрагменты старых картин, оставил
бы это занятие как бесполезное и, в конце концов, пришел бы к выводу, что
главная цель - самосовершенствование, а в политике он горячо сочувствовал
бы свободе и прогрессу вообще. Нередко чувство долга дремлет в нас, пока
на смену дилетантству не приходит настоящее дело и мы чувствуем, что
выполнять его кое-как не годится.
Так и Ладислав принялся, наконец, за свой урок, оказавшийся не похожим
на то возвышенное и неопределенное нечто, прежде рисовавшееся ему в мечтах
как единственно достойное продолжительных усилий. Он легко воспламенялся,
сталкиваясь с тем, что непосредственно связано с активным действием и
жизнью, а свойственный ему мятежный дух способствовал пробуждению
гражданственности. Невзирая на мистера Кейсобона и изгнание из Лоуика он
был почти счастлив; он жадно впитывал в себя множество новых сведений и
применял их на практике, а редактируемый им "Пионер" приобрел известность
даже в Брассинге (да не смутит вас узость сферы - статьи были не хуже
многих, прогремевших по всему свету).
Мистер Брук иногда его раздражал, но на Уилла умиротворяюще действовало
и вносило разнообразие в его жизнь то обстоятельство, что, побывав в
Типтон-Грейндже, он возвращался на свою квартиру в Мидлмарч.
"Вполне можно себе вообразить, - думал он, - что мистер Брук министр, а
я его помощник. Что тут особенного: маленькие волны сливаются в большие и
вздымаются точно так же. Моя нынешняя жизнь мне нравится гораздо больше,
чем та, которую мне прочил мистер Кейсобон и при которой я бездействовал
бы, скованный устаревшими традициями. А на престиж и большое жалованье мне
наплевать".
Как правильно заметил Лидгейт, в Ладиславе было что-то от цыгана, ему
даже нравилось ощущать себя вне общественной среды - такое положение
представлялось ему романтичным, приятно было сознавать, что его появление
неизменно вызывает некоторый переполох. Но удовольствие это померкло,
когда, случайно встретившись в доме Лидгейтов с Доротеей, он ощутил
разделявшую их преграду и рассердился на Кейсобона, еще раньше
предрекавшего ему утрату общественного положения. "Я не причисляю себя к
обществу", - возражал обычно в таких случаях Уилл, и порывистый, как
дыхание, румянец то вспыхивал, то погасал на его лице. Но тем, кому
нравится вести себя вызывающе, не всегда нравятся последствия их
поведения.
Горожане, обсуждая нового редактора "Пионера", были склонны согласиться
с мнением мистера Кейсобона. Аристократические родственные связи Уилла не
способствовали его доброй репутации, как то случилось с Лидгейтом, - если
где-нибудь говорили, что молодой Ладислав то ли племянник, то ли кузен
мистера Кейсобона, тотчас же добавляли, что "мистер Кейсобон не желает
иметь с ним ничего общего".
- Брук подобрал его, - сказал мистер Хоули, - потому что ни один
здравомыслящий человек этого не сделал бы. Можете мне поверить, у
Кейсобона были очень веские основания порвать с этим юнцом, которому он
дал образование на свои деньги. Совершенно в духе Брука... Он как раз из
тех, кто, желая продать лошадь, расхваливает кошку.
И по-видимому, некоторые поэтические странности Уилла дали основания
мистеру Кэку, редактору "Рупора", утверждать, что Ладислав, если вывести
его на чистую воду, окажется не только польским шпионом, но и безумцем,
чем можно объяснить противоестественную торопливость и бойкость его речи,
присущую ему постоянно, ибо он никогда не упускает случая поговорить,
обнаруживая при этом ораторские дарования, недопустимые для
респектабельного англичанина. Кэк слушал с отвращением, как это хлипкое
создание в ореоле пышной белокурой шевелюры безудержно поносит учреждения,
"существовавшие еще в ту пору, когда оно лежало в люльке". В передовой
статье "Рупора" Кэк назвал речь Ладислава на митинге по поводу реформы
"выходкой энергумена... (*132) жалкою попыткой скрыть под фейерверком
трескучих фраз дерзостность безответственных утверждений и скудость
познаний, крайне убогих и скороспелых".
- Потрясающее произведение ваша вчерашняя статья, Кэк, - не без иронии
сказал доктор Спрэг. - Кстати, что такое энергумен?
- А... это термин времен французской революции, - ответил Кэк.
Эта угрожающая черта Ладислава странным образом сочеталась с другими
замеченными за ним привычками. Он - отчасти как художник, а отчасти от
души - любил детей; чем меньше были эти бойко ковыляющие крошки, чем
забавнее одеты, тем сильнее нравилось ему их развлекать и радовать. Мы
помним, что в Риме он любил бродить в кварталах бедняков, и сохранил эту
склонность в Мидлмарче.
На улицах его окружала толпа забавных ребятишек, мальчуганы с
непокрытыми головами, в рваных штанишках, над коими болтались выбившиеся
дырявые рубашонки, девочки, которые, чтобы взглянуть на Уилла, отбрасывали
с глаз космы волос, и их защитники братья, достигшие почтенного
семилетнего возраста. Эту ораву он водил за орехами в Холселлский лес, а с
наступлением холодов, когда выдавался ясный денек, собирал вместе с ними
хворост и разводил костер в ложбине на склоне холма, где потчевал своих
юных приятелей имбирными пряниками и показывал импровизированные сцены из
жизни Панча и Джуди (*133) в исполнении самодельных кукол. Такова была
одна из его странностей. Вторая заключалась в том, что, заходя в гости к
друзьям, он имел обыкновение во время разговора растянуться во весь рост
на ковре, и случайные посетители застав его в столь необычной позе,
укреплялись во мнении, что, как и подобает нечистокровному англичанину он
опасный и распущенный субъект.
Тем не менее статьи и речи Уилла послужили ему рекомендацией для тех
семей, которые в силу недавно произошедшего размежевания партий примкнули
к сторонникам реформы. Его пригласили к Булстродам; но в их доме он не мог
лежать на ковре, а его манера отзываться о католических странах так,
словно с антихристом заключено перемирие, навела хозяйку дома на мысль,
что интеллектуальные люди тяготеют к пороку.
Зато в доме мистера Фербратера, по иронии судьбы оказавшегося в одном
лагере с Булстродом, Уилл стал любимцем всех дам, и в особенности
маленькой мисс Ноубл. Повстречав ее с неизменной корзиночкой на улице,
эксцентричный Уилл брал ее под руку на глазах у всего города и провожал к
каким-нибудь ее протеже, которым мисс Ноубл несла в подарок сласти,
утаенные из ее собственной порции за столом.
Но ни в одном доме он не бывал так часто и не лежал так много на ковре,
как у Лидгейтов. При всей своей несхожести мужчины отлично ладили между
собой. Лидгейт был резок, но не раздражителен и не обращал внимания на
причуды здоровых людей, а Ладислав не обнаруживал своей чрезмерной
обидчивости с теми, кто ее не замечал. Зато с Розамондой он позволял себе
и дуться, и капризничать, и случалось даже, говорил ей колкости, что
задевало ее, хотя она и не показывала виду. Однако она все больше
привыкала к нему, ее развлекали занятия музыкой, болтовня о всякой
всячине, умение Уилла с легкостью переключиться на новую тему,
несвойственное ее мужу, чья мрачная сосредоточенность часто сердила ее,
как бы ласков и снисходителен он ни был, и укрепляла ее неприязнь к
профессии врача.
Лидгейт, иронически относившийся к суеверным упованиям на реформу, при
всеобщем полном пренебрежении к бедственному положению медицины, донимал
иногда Уилла каверзными вопросами. Как-то в марте вечером Розамонда сидела
за чайным столиком в вишневом платье, отделанном у выреза лебяжьим пухом;
Лидгейт, поздно возвратившийся после визитов, расположился в кресле у
камина, перекинув через подлокотник ногу, и, слегка насупившись,
просматривал страницы "Пионера", причем Розамонда, заметив его
озабоченность, старалась не глядеть в сторону мужа и мысленно благодарила
всевышнего, что он не наградил ее угрюмым нравом. Уилл Ладислав,
растянувшись на ковре, рассеянно разглядывал поддерживающий портьеры
карниз и чуть слышно мурлыкал "Когда впервые я узрел твои черты", а
спаниель растянулся на оставшемся кусочке ковра и, положив морду между
вытянутыми лапами, поглядывал на узурпатора с безмолвным, но глубоким
неодобрением.
Розамонда принесла Лидгейту чашку чаю, он отшвырнул газету и сказал
Уиллу, который поднялся и подошел к столу:
- Вы напрасно так превозносите Брука в статье по поводу реформы,
Ладислав. "Рупор" после этого станет чернить его еще ретивее.
- Не важно. Те, кто читают "Пионер", не читают "Рупор", - сказал Уилл,
отхлебывая чай и расхаживая по комнате. - Вы думаете, кто-нибудь читает
газеты с целью обратиться в истинную веру? Будь это так, мы заварили бы
такую кашу, что никто не знал бы, на чьей он стороне.
- Фербратер не верит, что Брук может быть избран. Все, кто его сейчас
поддерживает, в решающую минуту выдвинут другого кандидата.
- Попытка не пытка. Ведь хорошо, когда в парламенте есть местный
представитель.
- Почему? - спросил Лидгейт, имевший привычку резким тоном задавать
этот неприятный вопрос.
- Они удачнее представляют местную тупость, - со смехом ответил Уилл и
тряхнул кудрями. - А дома стараются не ударить в грязь лицом. Брук малый
неплохой, но если бы он так не рвался в парламент, он не стал бы себя
утруждать заботами об арендаторах в своем поместье.
- Брук не годится в общественные деятели, - твердо и решительно заявил
Лидгейт. - Всякий, кто в него поверит, разочаруется; вот вам пример - наша
больница. Правда, там Булстрод взял все на себя и полностью руководит
Бруком.
- Нам еще следует условиться, что понимать под общественным деятелем, -
заметил Уилл. - В данном случае Брук подходящая фигура: когда люди пришли
к твердому решению, как, скажем, сейчас, им не важно, каков их избранник,
- им нужен голос.
- Все вы, авторы политических статей, таковы - превозносите
какое-нибудь средство в качестве панацеи от всех недугов и превозносите
людей, которые олицетворяют именно этот нуждающийся в исцелении недуг.
- А почему бы нет? Сами того не ведая, эти люди помогут нам стереть их
с лица земли, - сказал Уилл, умевший приводить экспромтом доводы, если
собеседник застигал его врасплох.
- Недостаточный повод для того, чтобы внушать мистическую веру в
целебность какого-то средства, заставляя проглатывать его целиком и
направлять в парламент марионеток, способных лишь голосовать. Вы сторонник
оздоровления общества, но существует ли что-нибудь вредоноснее идеи, будто
общество можно оздоровить при помощи политических махинаций?
- Все это прекрасно, дорогой мой. Но исцеление ведь нужно с чего-то
начинать, и согласитесь, что из тысячи причин, способствующих унижению
народа, нельзя устранить ни единой, пока не проведена эта пресловутая
реформа. Послушайте, что сказал на днях Стенли (*134): "Вот уж сколько
времени парламент судачит по поводу каких-то пустяковых взяток, выясняет,
действительно ли тот или иной получил гинею, тогда как каждый знает, что
все места в палатах проданы оптом". Ждать, когда в политиканах пробудится
мудрость и сознание - как бы не так! Когда целый класс общества осознает,
что по отношению к нему допущена несправедливость, то в такое сознание
можно поверить, а самая действенная мудрость - это мудрость выношенных
притязаний. Кто обижен - вот что интересует меня. Я поддерживаю того, кто
защищает обиженных, я не поддерживаю добродетельного защитника зла.
- Эти общие рассуждения по частному поводу - отвлеченное решение
вопросов, Ладислав. Когда я говорю, что даю больным нужные им лекарства,
из этого совсем не следует, что я дам опиум именно этому больному
подагрой.
- Да, но наш вопрос не отвлеченный, - нужно ли бездействовать, пока мы
не найдем безупречного соратника. Вы станете руководствоваться такими
соображениями? Если один человек намерен помочь вам произвести реформу в
медицине, а другой намерен помешать, станете вы допытываться, у кого из
них лучшие побуждения, или даже кто из них умней?
- Э-э, конечно, - сказал Лидгейт, припертый к стенке доводом, к
которому часто прибегал сам, - если мы будем привередливы, выбирая
соратников, то не сдвинемся с места. Даже если самое дурное, что думают у
нас в городе по поводу Булстрода, справедливо, не менее справедливо и то,
что он хочет и может произвести необходимые преобразования в делах, для
меня самых близких и важных... но это единственная почва, на которой я с
ним сотрудничаю, - довольно надменно добавил Лидгейт, памятуя высказывания
мистера Фербратера. - Меня с ним больше ничто не связывает; его личные
достоинства я не намерен превозносить: у нас чисто деловые отношения.
- А я, по-вашему, превозношу Брука из личных соображений? - вспыхнув,
сказал Уилл Ладислав и резко повернулся к Лидгейту. Уилл впервые на него
обиделся - главным образом, возможно, потому, что ему нежелательно было бы
обсуждать подробно причины своего сближения с мистером Бруком.
- Да вовсе нет, - сказал Лидгейт. - Я просто объяснял свои собственные
поступки. Я имел в виду, что, преследуя определенную цель, можно
сотрудничать с людьми, чьи побуждения и принципы сомнительны, если ты
полностью уверен в своей личной независимости и не преследуешь корыстных
целей... работаешь не ради места или денег.
- Так почему бы не распространить вашу терпимость на других? - сказал
Уилл, все еще уязвленный. - Моя личная независимость так же важна для
меня, как ваша - для вас. У вас не больше оснований полагать, что меня
связывают с Бруком личные интересы, чем у меня полагать, что личные
интересы связывают вас с Булстродом. Наши побуждения, я полагаю, честны...
тут мы верим друг другу на слово. Но что до денег и положения в свете, -
заключил Уилл, гордо вскидывая голову, - по-моему, достаточно очевидно,
что я не руководствуюсь соображениями такого рода.
- Вы совершенно неверно поняли меня, Ладислав, - удивленно сказал
Лидгейт. Думая только о том, как оправдать себя, он не заподозрил, что
некоторые из его высказываний Ладислав может отнести на собственный счет.
- Простите, если я невольно вас обидел. Я бы уж скорее вам приписал
романтическое пренебрежение к светским интересам. Что до политических
вопросов, то их я рассматривал в интеллектуальном аспекте.
- До чего же вы противные сегодня оба! - проговорила, встав со стула,
Розамонда. - Просто не понимаю, чего ради вам вздумалось толковать еще и о
деньгах. Политика и медицина достаточно гадки, чтобы послужить предметом
спора. Можете спорить со всем светом и друг с другом по поводу любой из
этих тем.
Сказав это с беспристрастно-кротким видом, Розамонда позвонила в
колокольчик и направилась к рабочему столику.
- Бедняжка Рози, - сказал Лидгейт, протягивая к жене руку, когда она
проходила мимо. - Ангелочкам скучно слушать споры. Займись музыкой. Спойте
что-нибудь с Ладиславом.
Когда Ладислав ушел, Розамонда сказала мужу:
- Тертий, почему ты сегодня не в духе?
- Я? Это не я, а Ладислав сегодня был не в духе. Словно трут, вот-вот
готовый вспыхнуть.
- Нет, еще до вашего спора. Тебя что-то расстроило раньше - ты пришел
домой такой сердитый. Из-за этого ты начал спорить с мистером Ладиславом.
Я очень огорчаюсь, Тертий, когда у тебя такой вид.
- Правда? Значит, я скотина, - виновато сказал Лидгейт и нежно обнял
жену.
- А что тебя расстроило?
- Да разные неприятности... дела.
Его расстроило письмо с требованием оплатить счет за мебель. Но
Розамонда ждала ребенка, и Лидгейт хотел оградить ее от волнений.
47
Любовь не может тщетной быть:
Награда высшая - любить.
И не искусством создана,
Сама расцвесть должна она.
Так лишь в урочный час и срок
Взрастает полевой цветок
И раскрывает венчик свой,
Рожденный небом и землей.
Небольшая размолвка Уилла Ладислава с Лидгейтом произошла в субботу
вечером. Разгоряченный спором Ладислав просидел по возвращении домой
полночи, заново перебирая в мыслях все доводы, уже не раз обдуманные им в
связи с решением поселиться в Мидлмарче и запрячься в одну повозку с
мистером Бруком. Колебания, смущавшие Уилла до того, как он предпринял
этот шаг, сделали его чувствительным к любому намеку на неразумность его
поступка - отсюда вспышка гнева в споре с Лидгейтом... вспышка,
будоражившая его и сейчас. Он поступил глупо?.. причем именно в ту пору,
когда с особой ясностью ощутил, что он отнюдь не глуп. И с какой целью он
это сделал?
Да не было у него никакой определенной цели. Ему, впрочем, рисовались
некие смутные перспективы; человек, способный увлекаться и размышлять,
непременно размышляет о своих увлечениях; в его воображении возникают
образы, которые либо тешат надеждой, либо обжигают ужасом душу, полную
страстей. Но хотя это случается с каждым из нас, у некоторых оно принимает
весьма необычные формы; Уилл по складу своего ума не принадлежал к
любителям торных дорог - он предпочитал окольные, где обретал небольшие,
но милые его сердцу радости, довольно нелепые, по мнению господ,
галопирующих по большой дороге. Так и чувство к Доротее делало его
счастливым на необычный лад. Как ни странно, заурядные, вульгарные мечты,
которые в нем заподозрил мистер Кейсобон, что Доротея может овдоветь, и
интерес, внушенный ей Уиллом, примет иные формы и она выйдет за него замуж
- не волновали, не искушали Уилла, он не пытался представить себе, что и
как происходило бы, случись воображаемое "если бы", - практический
образчик рая для каждого из нас. И не только потому, что ему претили
мечты, которые могли счесть низкими, и угнетала возможность быть
обвиненным в неблагодарности, - смутное ощущение множества других преград
между ним и Доротеей, кроме существования ее мужа, помогало ему избежать
размышлений о том, что могло бы вдруг стрястись с мистером Кейсобоном. А
кроме этой, существовали и другие причины. Уиллу, как мы знаем, была
невыносима мысль о трещинке, которая нарушила бы цельность кристалла,
безмятежная свобода в обращении с ним Доротеи одновременно и терзала и
восхищала его; было нечто столь изысканное в его нынешнем отношении к
Доротее, что Уилл не мог мечтать о переменах, которые неизбежно как-то
изменили бы и ее в его глазах. Ведь коробит же нас уличная версия
возвышенной мелодии, нам неприятно узнать, что какая-то редкая вещь -
скажем, статуэтка или гравюра, - которой даже нельзя полюбоваться, не
затратив усилий, что, кстати, придает ей особую прелесть, вовсе не такая
уж диковинка и вы можете ее просто купить. Удовольствие зависит от
многогранности и силы эмоций; для Уилла, не высоко ценившего так
называемые существенные блага жизни и очень чувствительного к тончайшим
нюансам ее, испытать любовь, которую внушила ему Доротея, было все равно
что получить огромное наследство. То, что страсть его, по мнению иных,
была бесплодна, делало ее еще дороже для него: он знал, что побуждения его
благородны, что ему дарована высокая поэзия любви, всегда пленявшая его
воображение. Доротея, думал он, будет вечно царить в его душе, ни одной
женщине не подняться выше подножия ее престола, и если бы он сумел в
бессмертных строках описать то действие, которое произвела на него
Доротея, он бы вслед за стариком Дрейтоном (*135) похвастал, что
Немало мог бы напитать цариц
Избыток вознесенной ей хвалы.
Впрочем, это вряд ли бы ему удалось. А что еще способен он сделать для
Доротеи? Чего стоит его преданность ей? Трудно сказать. Но ему не хотелось
от нее отдаляться. Он был уверен, что ни с кем из своих родственников она
не говорит так просто и доверительно, как с ним. Однажды она сказала, что
ей не хочется, чтобы он уезжал; он и не уедет, невзирая на шипение
стерегущих ее огнедышащих драконов.
Этим выводом всегда заканчивались колебания Уилла. Но и принятое им
самим решение не было беспрекословным и, случалось, вызывало внутренний
протест. Нынешний вечер был не первым, когда кто-нибудь давал ему понять,
что его общественная деятельность в качестве подручного мистера Брука не
кажется столь героической, как ему бы хотелось, и это сердило его,
во-первых, само по себе, во-вторых, неизбежно давая еще один повод для
гнева - он пожертвовал для Доротеи своим достоинством, а сам почти ее не
видит. Вслед за сим, неспособный оспорить эти малоприятные факты, он
вступал в спор с голосом собственного сердца, заявляя: "Я глупец".
Тем не менее, поскольку этот внутренний диспут напомнил ему о Доротее,
Уилл, как и всегда, еще острее ощутил желание оказаться с ней рядом и,
внезапно сообразив, что завтра воскресенье, решил отправиться в лоуикскую
церковь, чтобы увидеть ее там. С этой мыслью он уснул, но когда он
одевался в прозаичном свете утра, Благоразумие сказало:
- По существу, ты нарушишь запрет мистера Кейсобона бывать в Лоуике и
огорчишь Доротею.
- Чепуха! - возразило Желание. - Кейсобон не такое чудовище, чтобы
запретить мне войти весенним утром в прелестную деревенскую церковь. А
Доротея будет рада меня видеть.
- Мистер Кейсобон будет уверен, что ты пришел либо досадить ему, либо в
надежде повидать Доротею.
- Я вовсе не собираюсь ему досаждать, и почему бы мне не повидать
Доротею? Справедливо ли, чтобы все доставалось ему, а его ничто даже не
потревожило ни разу? Пусть помучается хоть немного, как другие. Меня
всегда восхищали богослужения в этой церквушке, кроме того, я знаком с
Такерами, я сяду на их скамью.
Принудив доводами безрассудства замолчать Благоразумие, Уилл отправился
в Лоуик, словно в рай, пересек Холселлский луг и пошел опушкой леса, где
солнечный свет, щедро проливаясь сквозь покрытые почками голые ветви,
освещал роскошные заросли мха и молодые зеленые ростки, пробившиеся сквозь
прошлогоднюю листву. Казалось, все вокруг знает, что сегодня воскресенье,
и одобряет намерение Уилла посетить лоуикскую церковь. Уилл легко обретал
радостное настроение, когда его ничто не угнетало, и сейчас мысль досадить
мистеру Кейсобону представлялась ему довольно забавной, его лицо сияло
веселой улыбкой, так же славно, как сияет в солнечном свете река... хотя
повод для ликования не был достойным. Но почти все мы склонны убеждать
себя, что человек, который нам мешает, отвратителен, и поскольку он так
гнусен, дозволено подстроить небольшую гнусность и ему. Уилл шагал, сунув
руки в карманы, держа под мышкой молитвенник, и напевал нечто вроде гимна,
воображая, как он стоит в церкви и как выходит оттуда. Слова он придумывал
сам, а музыку подбирал - порой используя готовую мелодию, порой
импровизируя. Текст нельзя было назвать в полном смысле слова гимном, но
он несомненно передавал его расположение духа.
Увы, как мало светлых дней
Любви моей дано.
Блеснувший луч, игра теней -
И все опять темно.
Умолкший звук ее речей
И грезы наяву.
Надежда, что я дорог ей, -
Вот то, чем я живу.
Страдать, томиться все сильней
Мне вечно суждено.
Увы, как мало светлых дней
Моей любви дано.
Когда, напевая так, Уилл сбрасывал шляпу и запрокидывал голову,
выставляя напоказ нежную белую шею, он казался олицетворением весны,
дыханием которой был напоен воздух, - ликующее создание, полное смутных
надежд.
Уилл добрался до Лоуика, когда еще не смолкли колокола, первым вошел в
церковь и занял место на скамье младшего священника. Но он остался в
одиночестве на этой скамье и тогда, когда церковь заполнили прихожане.
Скамья мистера Кейсобона находилась напротив, у прохода, ведущего к
алтарю, и Уилл успел поволноваться, что Доротея не придет, тем временем
окидывая взглядом лица крестьян, которые из года в год собирались в этой
деревенской церкви с выбеленными стенами и старыми темными скамьями,
изменяясь не более, чем ветви дерева, местами треснувшего от старости, но
еще дающего молодые ростки. Довольно неожиданно и неуместно выглядела в
толпе лягушачья физиономия мистера Ригга, но была единственным
отклонением, зато Уолы и деревенская отрасль Паудреллов, как всегда,
занимали смежные скамьи; все так же багровели круглые щеки братца Сэмюэля,
словом, три поколения достойных поселян явились в церковь, как повелось
исстари, с чувством должного почтения ко всем вышестоящим... ребятишки же
полагали, что мистер Кейсобон, который носил черный сюртук и взгромоздился
на самую высокую кафедру, очевидно, возглавляет этих вышестоящих и страшен
в гневе. Даже в 1831 году Лоуик пребывал в тиши, которую отзвуки грядущей
реформы тревожили не более, чем мирное течение воскресной службы.
Прихожане привыкли видеть в церкви Уилла, и никто не обратил на него
особого внимания, кроме певчих, ожидавших, что он примет участие в
песнопениях.
Но вот в маленьком приделе среди крестьянок и крестьян появилась
Доротея, в белом касторовом капоре и в серой накидке, тех самых, которые
были на ней в Ватикане. Ее лицо еще с порога было обращено к алтарю,
поэтому, несмотря на близорукость, она тотчас заметила Уилла, но ничем не
выказала своих чувств, лишь слегка побледнела и тихо ему поклонилась,
проходя мимо. К собственному удивлению, Уилл вдруг смешался и, ответив на
поклон Доротеи, больше не осмеливался взглянуть на нее. Две минуты спустя,
когда из ризницы вышел мистер Кейсобон и сел рядом с Доротеей, Уилл и
вовсе оцепенел. Он мог смотреть теперь только на хор, располагавшийся в
маленькой галерее над ризницей: своим нелепым поведением он, может быть,
огорчил Доротею. Досаждать мистеру Кейсобону оказалось вовсе не забавно; а
тот, вероятно, отлично видел Уилла и заметил, что он не смеет голову
повернуть. Почему он не представил себе все это заранее? Да, но как он мог
предугадать, что окажется на скамье в одиночестве, что Такеры, среди
которых он рассчитывал затеряться, очевидно, навсегда покинули Лоуик,
поскольку на кафедру поднялся новый священник. Нет, все-таки он глупец,
как ему не пришло в голову, что он не сможет даже глядеть в сторону
Доротеи? К тому же, чего доброго, она сочтет его появление дерзким. Но
теперь уже не выберешься из западни; Уилл, как школьная учительница,
деловито перелистывал молитвенник, чувствуя, что утренняя служба
невыносимо затянулась, а сам он смешон, озлоблен и несчастлив до
крайности. Вот к чему приводит платоническое поклонение женщине! Причетник
с удивлением заметил, что мистер Ладислав не присоединился к пению хора, и
решил, что он простужен.
В тот день мистер Кейсобон не читал проповеди, и Уилл так и не
пошелохнулся ни разу, пока младший священник не благословил паству, после
чего все поднялись с мест. По лоуикскому обычаю, "вышестоящие" первыми
выходили из храма. Внезапно решив преодолеть свою мучительную скованность,
Уилл глянул мистеру Кейсобону прямо в лицо. Но глаза этого джентльмена
были устремлены на ручку дверцы, он отворил ее, пропустил вперед Доротею и
последовал за нею, не поднимая глаз. Уилл поймал взгляд Доротеи, и она
снова ему кивнула, но показалась на этот раз взволнованной, словно
боролась со слезами. Уилл вышел сразу же вслед за ними, однако супруги не
оглядываясь направились к калитке.
Следовать за ними далее Уилл не мог и в унынии побрел домой той же
дорогой, по которой он так бодро шествовал утром. И вокруг себя, и в себе
самом он все видел теперь совсем в ином свете.
48
Да, и златые старятся часы -
Они уж не танцуют, но плетутся,
И ветер их седины теребит.
Все лица предо мной измождены
И медленно кружатся в хороводе,
Гонимом бурей...
Доротея вышла из церкви опечаленная главным образом твердой решимостью
мистера Кейсобона не замечать своего молодого родственника, особенно
отчетливо проявившейся в этот день. Она не сочла поведение Уилла дерзким,
мало того, восприняла его как дружественный жест, шаг к примирению,
которого и сама желала. Возможно, Уилл, так же как она, полагал, что,
непринужденно встретившись с мистером Кейсобоном, они обменяются
рукопожатиями и между ними вновь установятся мирные отношения. Но с этой
надеждой пришлось распроститься. Мистер Кейсобон, возмущенный появлением
Уилла, еще сильней ожесточился против него.
В это утро мистер Кейсобон чувствовал легкое недомогание - он не стал
читать проповедь из-за одышки, поэтому Доротею не удивила его молчаливость
за завтраком и еще менее удивило ее, что муж не проронил ни слова об Уилле
Ладиславе. Сама она по своему почину никогда бы не коснулась этой темы.
Время между завтраком и обедом они обычно проводили врозь, мистер Кейсобон
почти всегда дремал в библиотеке, а Доротея у себя в будуаре занималась
чтением любимых книг. На столике у окна лежала стопка самых разнообразных
книг от Геродота, которого ей помогал разбирать муж, до старинного ее
друга Паскаля и "Христианского года" Кебла (*136). Но сегодня она
открывала их одну за другой и не могла прочесть ни строчки. Все они
казались ей прескучными: знамения накануне рождения Кира... (*137)
старинные предания иудеев - боже мой!.. благочестивые рифмованные
изречения... торжественные ритмы гимнов - все звучало монотонно, словно
кто-то барабанил по деревяшке; даже цветы и трава уныло съеживались каждый
раз, когда солнце пряталось за предвечерними облаками; ей опостылели даже
мысли, которыми она привыкла утешаться, едва она представила себе, как
много долгих дней ей предстоит провести с ними наедине. Нет, совсем иной,
вернее, более основательной поддержки жаждала ее душа, и жаждала все
сильнее с каждым днем ее нелегкой супружеской жизни. Ей все время
приходилось изо всех сил стараться угодить мужу и не удавалось нравиться
ему такой, какая она есть. То, чего она хотела, к чему рвалась ее душа,
было, по-видимому, недостижимо в ее жизни с мужем - ведь исполнять
желания, не разделяя радости, это все равно что отказать. По поводу Уилла
Ладислава супруги с самого начала не могли прийти к согласию, а
решительный отказ мистера Кейсобона выделить кузену его законную долю
окончательно убедил Доротею, что муж ее не прав, а ока совершенно права,
но бессильна. Это ощущение бессилия сейчас совсем ее обескуражило: она
жаждала любить и быть любимой. Она жаждала работы, которая приносила бы
видимые плоды, как солнце и как дождь, а ей казалось, что она заживо
похоронена в гробнице и удел ее - унылый труд над тем, чему не суждено
увидеть света. Сегодня с порога своей гробницы она глядела, как Уилл
Ладислав, оглядываясь на нее, уходит в далекий мир, полный живой
деятельности и дружелюбия.
Читать ей не хотелось. Ей не хотелось думать. Навестить Селию, у
которой недавно родился ребенок, она не могла, потому что по воскресеньям
не закладывали карету. Не найдя ни в чем прибежища от гнетущего чувства
опустошенности, Доротея вынуждена была терпеть его, как терпят головную
боль.
После обеда, когда обычно Доротея вслух читала мужу, мистер Кейсобон
предложил пройти в библиотеку, где по его распоряжению зажгли свечи и
затопили камин. Он казался оживленным и был поглощен какой-то мыслью.
В библиотеке Доротея сразу заметила, что тома с заметками расположены
на столе по-новому; мистер Кейсобон вручил жене знакомый том, содержавший
оглавление ко всем остальным.
- Буду признателен вам, моя дорогая, - сказал он, усаживаясь, - если
сегодня вечером вы почитаете мне не книгу, а вот это оглавление и в каждом
пункте, где я скажу: "отметить", поставите крестик карандашом. Это будет
первый шаг в давно задуманной мною тщательной систематизации материала, и
в процессе работы я вам укажу принципы отбора, прибегая к которым вы,
надеюсь, сумеете оказать мне существенную помощь.
Эта просьба являлась всего лишь очередным свидетельством того, что
после памятного разговора с Лидгейтом мистер Кейсобон, столь неохотно
принимавший прежде помощь Доротеи, ударился в другую крайность и требовал
теперь от жены самого деятельного участия в работе.
После того как Доротея два часа читала ему вслух заголовки и отмечала
их крестиками, мистер Кейсобон сказал:
- Возьмем этот том наверх... а вместе с ним, пожалуйста, захватите и
карандаш... если нам придется читать ночью, мы продолжим эту работу.
Надеюсь, она не наскучила вам, Доротея?
- Я охотнее всего читаю то, что вам хочется послушать, - сказала
Доротея и ответила чистую правду; ее страшила перспектива, развлекая мужа
чтением или на иной лад, не доставить ему, как всегда, ни капли радости.
Еще один пример впечатления, производимого Доротеей на окружающих ее
людей: подозрительный и ревнивый супруг не сомневался в честности ее
обещаний, в ее способности посвятить себя тому, что она считает правильным
и благородным. В последнее время он стал понимать, как ценны для него все
эти ее свойства, и захотел единовластно ими обладать.
Ночью ей пришлось читать. Молодость взяла свое, и утомленная Доротея
уснула быстро и крепко. Ее пробудил свет; в полусне ей сперва показалось,
что она взобралась на крутую гору и внезапно перед ней зарделся солнечный
закат; Доротея открыла глаза и увидела мужа, который, завернувшись в
теплый халат, сидел возле камина, где еще тлели угли. Он не стал ее
будить, а лишь зажег две свечи и опустился в кресло, ожидая, когда их свет
разгонит сон Доротеи.
- Вам нездоровится, Эдвард? - спросила она, тотчас же поднявшись.
- Мне было не совсем удобно в лежачем положении. Я немного посижу.
Доротея подбросила в камин дров, закуталась в шаль и сказала:
- Хотите, я вам почитаю?
- Буду очень вам признателен, Доротея, - немного мягче, чем обычно,
ответил мистер Кейсобон. - Мне совершенно не хочется спать: удивительно
ясная голова.
- Я боюсь, как бы вам не повредило возбуждение, - сказала Доротея,
вспомнив предостережения Лидгейта.
- Я не ощущаю чрезмерного возбуждения. Мне думается легко.
Доротея не решилась спорить дальше и в течение часа, а то и больше,
читала оглавление по той же системе, как вечером, только несколько
быстрей.
Мистер Кейсобон, чья мысль работала теперь очень живо, определял,
казалось, уже по нескольким вступительным словам все последующее и
говорил: "Достаточно, отметьте это", или: "Переходите к следующему
заголовку... я опускаю второе отступление о Крите". Доротею поражало, как
его мысль с быстротою птицы облетает пределы, по которым ползала в течение
долгих лет. Наконец, он произнес:
- Теперь закройте книгу, дорогая. Возобновим работу завтра. Я слишком
задержался с ней и буду рад завершить ее поскорее. Но вы заметили, что
принцип, по которому я произвожу подбор, заключается в том, чтобы снабжать
каждый из перечисленных в предисловии тезисов соразмерным комментарием,
как мы наметили сейчас. Вы это ясно поняли, Доротея?
- Да, - сказала Доротея, голос которой слегка дрожал. У нее ныло
сердце.
- А теперь, пожалуй, я могу немного отдохнуть, - сказал мистер
Кейсобон.
Он лег и попросил ее погасить свечи. Когда Доротея легла тоже и темную
комнату освещал только тускло мерцавший камин, он сказал:
- Прежде чем уснуть, я обращусь к вам с просьбой, Доротея.
- В чем она состоит? - спросила она, похолодев от ужаса.
- Она состоит в том, чтобы вы, как следует подумав, сообщили, согласны
ли вы в случае моей смерти исполнить мою волю: будете ли вы избегать
поступков, нежелательных мне, и стремиться к осуществлению желаемого мною.
Доротея не удивилась - существовало много обстоятельств, дававших ей
основание предполагать, что муж готовит для нее какие-то новые узы. Она не
ответила сразу.
- Вы отказываетесь? - спросил мистер Кейсобон, и в его голосе
прозвучала горечь.
- Нет, я не отказываюсь, - ясным голосом сказала Доротея, чувствуя, как
крепнет в ней желание свободно располагать собой, - но это как-то слишком
уж торжественно... по-моему, так делать нельзя - давать обещание, не зная,
на что оно меня обрекает. То, что мне подскажет чувство, я выполню и без
обещаний.
- Но вы будете при этом полагаться на ваше собственное суждение, я же
прошу вас подчиниться моему. Вы отказываете мне?
- Нет, мой милый, нет, - умоляюще произнесла Доротея, терзаемая
противоречивыми опасениями. - Но вы дадите мне немного времени на
размышление? Всей душой стремлюсь я сделать то, что успокоит вас, и все же
я не могу так внезапно давать ручательств, тем более ручательств в чем-то
мне неизвестном.
- Вы, стало быть, сомневаетесь в благородстве моих желаний?
- Отложим этот разговор до завтра, - умоляюще сказала Доротея.
- Ну что ж, до завтра, - сказал мистер Кейсобон.
Вскоре она услышала, что он уснул, но сама не сомкнула глаз. Она лежала
тихо, чтобы не потревожить мужа, а в душе ее тем временем шла борьба, и
воображение бросало свои силы на поддержку то одной, то другой стороны. У
нее не было опасений, что условие, которым намерен связать ее муж, имеет
отношение к чему-либо, кроме его работы. Зато совершенно очевидным
представлялось его желание, чтобы Доротея, не жалея сил, копалась в грудах
разноречивых фактов, долженствующих в свое время послужить сомнительным
доказательством еще более сомнительных выводов. Бедная девочка совсем
утратила веру в то, что стрелка, указавшая ее мужу цель его мечтаний и
трудов, направлена в нужную сторону. Неудивительно, что, несмотря на
скудость знаний, Доротея судила о предмете верней, чем муж: она
беспристрастно и руководствуясь здравым смыслом оценивала возможные
результаты, он же поставил на них все. И сейчас ей представлялось, как она
проводит дни, месяцы и годы, роясь среди чего-то истлевшего, собирает
обломки предания, являющего собой всего лишь груду хлама, вырытого из
руин... и таким образом готовит почву для теории, столь же
нежизнеспособной, как мертворожденное дитя. Решительные попытки достичь
решительно ошибочной цели несомненно содержат в себе зачатки истины:
поиски алхимиков одновременно были исследованием материи, так возникает
тело химии, где не хватает лишь души, после чего рождается Лавуазье
(*138). Но теория, лежавшая в основе обширных трудов мистера Кейсобона,
едва ли могла даже бессознательно породить какие-нибудь открытия: она
барахталась среди догадок, каковые можно было повернуть и так и сяк,
наподобие этимологических построений, вся убедительность которых
заключается в звуковом сходстве и которые именно из-за звукового сходства
оказываются потом несостоятельными; метод мистера Кейсобона не был
опробован необходимостью создать нечто обладающее большей сложностью, чем
подробное перечисление всех упоминаний о Гоге и Магоге (*139); этот метод
мог в такой же степени не опасаться опровержений, как идея нанизать звезды
на одну нить. А Доротее так часто приходилось, преодолев раздражение и
усталость, заниматься не высокой наукой, которая украшает жизнь, а
отгадыванием сомнительных, как стало ей теперь ясно, загадок! Теперь она
отчетливо понимала, что муж цепляется за нее, как за единственную надежду
на завершение его трудов. Сперва, казалось, он даже Доротею не желал
полностью посвятить в свои дела, но постепенно самый веский из аргументов,
торопливо приближающаяся смерть...
И тут Доротея стала оплакивать не свою будущность, а прошлое мужа... и
даже нет, его теперешнюю тяжкую борьбу с долей, уготованной этим прошлым:
труд в одиночестве; честолюбие, придавленное гнетом неверия в себя; цель
все дальше и дальше, все замедленней шаг; и вот уже меч повис над его
головой! Разве не для того она вышла замуж, чтобы помочь ему окончить труд
всей его жизни? Но работа эта представлялась ей тогда более значительной,
достойной того, чтобы ей так преданно служили. Должно ли - даже чтобы
утешить его... возможно ли - даже если она пообещает, посвятить себя
толчению воды в ступе?
Да, но сможет ли она не покориться? Сможет ли сказать: "Я отказываюсь
насыщать это бездонное чрево"? Это значит не сделать для мертвого то, что
она, почти наверное, делала бы для живого. Если он, чего не исключает
Лидгейт, проживет еще лет пятнадцать или более, то ведь она, конечно,
будет послушно помогать ему. И все-таки огромна разница между покорностью
живому и обещанием вечно покоряться мертвецу. Пока мистер Кейсобон жив,
она вправе возразить на любую просьбу, даже отказаться выполнить ее. А
что, если - эта мысль мелькала у нее уже не раз, но представлялась
невероятной - что, если он намерен потребовать нечто большее, о чем она и
не догадывается, и потому требует обещания исполнить его волю, не говоря,
в чем эта воля состоит? Нет, нет, все его помыслы обращены только к
работе: для завершения работы ему нужна ее жизнь, коль скоро его
собственная - на исходе.
Ну, а сказать ему: "Нет! Если ты умрешь, я и пальцем не притронусь к
твоей работе"... какую рану нанесет она изболевшемуся сердцу. После
четырех часов мучительного раздумья Доротея чувствовала себя растерянной,
больной, она не могла принять решения и безмолвно молилась. Обессиленная,
как наплакавшееся, измучившееся дитя, она уснула только утром, и, когда
пробудилась, мистер Кейсобон уже встал. Тэнтрип сказала, что он помолился,
позавтракал и находится в библиотеке.
- Ни разу не видела вас такой бледной, сударыня, - сказала Тэнтрип,
толстушка, ездившая с сестрами еще в Лозанну.
- Разве у меня когда-нибудь был яркий румянец, Тэнтрип? - слабо
улыбаясь, спросила Доротея.
- Ну, не сказать чтобы яркий, а нежный - цвета китайской розы. Но чего
же ждать, когда по целым дням вдыхаешь запах кожи от этих книжек?
Отдохните хоть сегодня утром. Я скажу, что вы больны, и не ходите в эту
душную библиотеку.
- О, нет, нет, помогите мне поскорее одеться, - возразила Доротея, - я
сегодня особенно нужна мистеру Кейсобону.
Она сошла вниз, уверенная, что должна пообещать исполнить его волю,
только скажет это позже, не сейчас...
Когда Доротея вошла в библиотеку, мистер Кейсобон, сидевший за столом
над книгами, обернулся и сказал:
- Я дожидался вашего прихода, дорогая. Я надеялся приступить к работе с
самого утра, но мне нездоровится - вероятно, сказалось вчерашнее
возбуждение. Сейчас потеплело, и я хочу прогуляться в саду.
- Вот и прекрасно, - сказала Доротея. - Так много работать, как вчера,
вероятно, тяжело для вас.
- Я испытал бы облегчение, разрешив вопрос, заданный вам напоследок,
Доротея. Сейчас, надеюсь, вы дадите мне ответ?
- Можно, я немного погодя приду к вам в парк? - спросила Доротея, ища
хоть краткой передышки.
- Я буду в тисовой аллее ближайшие полчаса, - сообщил мистер Кейсобон и
тут же вышел.
Доротея, совершенно обессилев, позвонила и попросила Тэнтрип принести
накидку. Потом она недвижно просидела несколько минут, но не потому, что
снова впала в нерешимость: она была готова принять свой приговор; ее
охватила такая слабость, так страшила мысль о возможности причинить боль
мужу, что она могла лишь беспрекословно ему покориться. Она сидела как
застывшая, пока Тэнтрип надевала на нее шляпку и шаль; бездействие,
несвойственное Доротее, ибо она привыкла прислуживать себе сама.
- Да благословит вас бог, сударыня! - сказала Тэнтрип, внезапно
охваченная порывом нежности к этому прелестному, кроткому существу, для
которого не могла сделать более ничего, коль скоро ленты шляпки были
завязаны.
Доротея, все чувства которой были напряжены, не выдержала и
разрыдалась, уткнувшись в плечо Тэнтрип. Но вскоре она овладела собой,
утерла слезы и вышла из дому.
- Хорошо бы - каждая книга в этой библиотеке превратилась в катакомб
для вашего хозяина, - сказала Тэнтрип дворецкому Прэтту, встретив его в
столовой. Тэнтрип, как мы знаем, побывала в Риме, где осматривала
памятники древности, мистера же Кейсобона в разговорах с другими слугами
она неизменно именовала "ваш хозяин".
Прэтт рассмеялся. Ему очень нравился его хозяин, но Тэнтрип нравилась
ему больше.
Выйдя на посыпанную песком дорожку, Доротея сразу же замедлила шаги,
как уже делала однажды, хотя и по другой причине. Тогда она опасалась, что
ее не возьмут в сотоварищи; сейчас боялась связать себя сотовариществом,
которое внушало ей ужас. Ни закон, ни мнение света не принуждали ее к
этому... только нрав ее мужа и ее жалость к мужу, мнимые, а не
действительные узы. Она прекрасно понимала положение, но не располагала
собой; не могла она нанести удар в наболевшее сердце, которое взывало к
ней о помощи. Если это слабость, значит, Доротея была слаба. Но полчаса
истекали, она не могла больше откладывать. Выйдя на тисовую аллею, она не
увидела мужа; впрочем, аллея шла не прямо, и Доротея продвигалась все
дальше, за каждым поворотом ища взглядом знакомую фигуру в синем плаще и
бархатной шапочке, которые мистер Кейсобон надевал, когда в прохладную
погоду отправлялся прогуляться по парку. Она подумала, не отдыхает ли он в
беседке, находившейся неподалеку от аллеи. За поворотом она увидела его на
скамейке около каменного стола. Положив руки на стол, он склонил на них
голову, и синий плащ закрывал его лицо.
"Вчерашний вечер утомил его", - решила Доротея, сперва подумав, что муж
спит и что не следовало бы ему отдыхать в сырой беседке. Потом она
вспомнила, что в последнее время он, слушая ее чтение, обычно принимал эту
позу, как видно, для него удобную, вспомнила, что иногда он говорил или
слушал, вот так уронив голову на руки. Она вошла в беседку и сказала:
- Я здесь, Эдвард. Я готова.
Он не шелохнулся, и она решила, что он крепко спит. Она положила руку
ему на плечо и повторила:
- Я готова!
Он оставался недвижимым, и, внезапно охваченная смутным страхом, она
наклонилась, сняла с него бархатную шапочку и прижалась к его голове
щекой, отчаянно крича:
- Проснитесь, милый мой, проснитесь! Слушайте! Я пришла с ответом.
Но Доротея так и не дала ответ.
Позже Лидгейт сидел у ее кровати, а Доротея бредила, размышляла вслух,
вспоминала то, что передумала накануне ночью. Она узнала Лидгейта,
называла его по имени, но почему-то считала нужным все объяснить ему и
вновь и вновь просила его объяснить все ее мужу.
- Скажите ему, я скоро к нему приду: я готова дать обещание. Вот только
думать об этом было так страшно, но... я оттого и захворала. Не очень
сильно. Я скоро поправлюсь. Ступайте же, скажите ему.
Но ничто уже не могло нарушить безмолвие, в которое погрузился ее муж.
49
Оруженосец шуткой складной
В тупик поставил колдуна:
"Бросать в колодцы камни - ладно,
Но кто достанет их со дна?"
- Видит бог, как мне хотелось бы скрыть это от Доротеи, - сказал сэр
Джеймс Четтем, немного нахмурившись и весьма брезгливо скривив губы.
Он стоял на каминном коврике в библиотеке Лоуика и разговаривал с
мистером Бруком. Это происходило на следующий день после похорон мистера
Кейсобона, когда Доротея не могла еще подняться.
- Скрыть будет трудно, знаете ли, Четтем, ведь она душеприказчица, к
тому же любит заниматься такими делами - собственность, земля и тому
подобное, - сказал мистер Брук, нервно надевая очки и разглядывая края
сложенной бумаги, которую он держал в руке. - И притом она захочет
действовать. Можете не сомневаться, Доротея пожелает выполнить свои
обязанности душеприказчицы. А в прошлом декабре ей, знаете ли, исполнился
двадцать один год. Я не смогу ей помешать.
Сэр Джеймс некоторое время в молчании рассматривал ковер, затем поднял
взгляд, внезапно воззрился на мистера Брука и ответил:
- Я скажу вам, что мы сможем сделать. Пока Доротея больна, ей не нужно
говорить ни слова, а когда она встанет, пусть переезжает к нам. Побыть с
Селией и с малюткой ей сейчас очень полезно, так и время незаметно
пролетит. А вы пока спровадьте Ладислава. Пусть уезжает из Англии. - И на
лице сэра Джеймса вновь появилось весьма брезгливое выражение.
Прежде чем ответить, мистер Брук заложил руки за спину, прошествовал к
окну и резким движением выпрямился.
- Вам легко говорить, Четтем, вам легко так, знаете ли, говорить.
- Дорогой сэр, - не сдавался сэр Джеймс, стараясь удержать свое
негодование в рамках приличий, - не кто иной, как вы, пригласили его сюда,
и благодаря вам же он здесь остается... я имею в виду место, которое вы
предоставили ему.
- Да, но не могу же я его немедленно уволить без достаточных к тому
причин, милейший Четтем. Ладиславу просто нет цены, он работает
превосходно. Думаю, я оказал нашим землякам услугу, пригласив его сюда...
пригласив его, знаете ли. - Мистер Брук завершил свою речь кивком, для
чего повернулся лицом к собеседнику.
- Жаль, что наши земляки не обошлись без него, вот все, что я скажу. Во
всяком случае, как зять Доротеи, я почитаю своим долгом решительно
воспротивиться тому, чтобы ее родственники каким-либо образом удерживали в
наших краях Ладислава. Надеюсь, я вправе отстаивать достоинство моей
свояченицы?
Сэр Джеймс начинал горячиться.
- Разумеется, мой милый Четтем, разумеется. Но мы с вами по-разному
оцениваем... по-разному...
- Этот поступок Кейсобона мы, надеюсь, оцениваем одинаково, - перебил
сэр Джеймс. - Я утверждаю, что он самым непозволительным образом
скомпрометировал жену. Я утверждаю, что никто еще не поступал столь подло
и не по-джентльменски - сделать такого рода приписку к завещанию и
поручить его исполнение родственникам жены... это явное оскорбление для
Доротеи.
- Кейсобон, знаете ли, немного сердился на Ладислава. Ладислав
рассказывал мне - почему; он не одобрял, знаете ли, род его занятий... в
свою очередь, Ладислав непочтительно относился к увлечению Кейсобона: Тот,
Дагон (*140) и все тому подобное; кроме того, мне думается, Кейсобону не
понравилась независимая позиция Ладислава. Я, знаете ли, видел их
переписку. Бедняга Кейсобон слишком уж зарылся в книги и удалился от
света.
- Ладиславу только и остается, что изображать все в таком виде, -
сказал сэр Джеймс. - А по-моему, Кейсобон просто ревновал к нему жену, и
свет решит, что не без оснований. Вот это-то самое гнусное: имя Доротеи
связано теперь с именем этого молодчика.
- Ничего страшного я, знаете ли, тут не вижу, дорогой Четтем, - сказал
мистер Брук, усаживаясь и вновь надевая очки. - Очередное чудачество
Кейсобона. Вспомните, к примеру, что эта вот тетрадь, "Сводное обозрение"
и так далее... "вручить миссис Кейсобон", была заперта в одном ящике с
завещанием. Он, полагаю, хотел, чтобы Доротея опубликовала его
исследования, а? И она, знаете ли, это сделает; она великолепно
разбирается в его изысканиях.
- Сэр, - нетерпеливо перебил сэр Джеймс. - Я ведь не о том вовсе с вами
толкую. Скажите лучше, согласны ли вы, что необходимо удалить отсюда
молодого Ладислава?
- Как сказать... особой срочности я тут не вижу. Мне кажется, со
временем все образуется само собой. Что до сплетен, знаете ли, то, удалив
его, вы не помешаете сплетням. Люди говорят что вздумается и совершенно не
нуждаются при этом в доказательствах, - сказал мистер Брук, проявляя
изобретательность, когда дело коснулось его интересов. - Я мог бы в
каких-то определенных пределах отдалиться от Ладислава - отобрать у него,
скажем, "Пионер" и тому подобное, но не могу же я отправить его за
границу, если он не сочтет нужным уехать... не сочтет, знаете ли, нужным.
Манера мистера Брука вести спор с таким спокойствием, словно он
обсуждает прошлогоднюю погоду, и вежливо кивать, закончив речь, вызывала
особенное раздражение его оппонентов.
- Бог ты мой! - воскликнул сэр Джеймс, окончательно выходя из терпения.
- Ну не пожалеем денег, найдем ему должность. Хорошо бы пристроить его в
свиту какого нибудь губернатора в колониях. Что, если бы его взял
Грэмпус... я мог бы написать и Фальку.
- Но, мой милый, Ладислав не бессловесное животное, нельзя же его
просто погрузить на корабль; у него есть идеи. Уверен, если мы с ним
распростимся, его имя вскоре прогремит по всей стране. Ораторский талант и
умение составлять бумаги делают его превосходным агитатором... агитатором,
знаете ли.
- Агитатором! - с ожесточением воскликнул сэр Джеймс, вкладывая все
свое негодование в каждый слог этого слова.
- Будьте же благоразумны, Четтем. Подумайте о Доротее. Вы верно
сказали, что ей следует поскорей переехать к Селии. Пусть поживет у вас в
доме, а тем временем все потихоньку встанет на свои места. Не будем,
знаете ли, принимать поспешных решений. Стэндиш никому не проронит ни
слова, и к тому времени, когда новость станет известной, она, знаете ли,
устареет. А у Ладислава могут оказаться десятки причин покинуть Англию...
без, знаете ли, моего вмешательства.
- То есть вы отказываетесь что-либо предпринять?
- Отказываюсь, Четтем? Нет, я не сказал, что я отказываюсь. Но я, право
же, не представляю себе, что мы можем сделать. Ладислав - джентльмен.
- Рад это слышать! - воскликнул сэр Джеймс, в раздражении несколько
утратив самообладание. - Кейсобона так не назовешь, разумеется.
- Было бы хуже, если бы в приписке к завещанию он совсем запретил ей
выходить замуж, знаете ли.
- Не знаю, - ответил сэр Джеймс. - По крайней мере, это выглядело бы
менее оскорбительно.
- Очередная выходка бедняги Кейсобона. После приступа он несколько
повредился в уме. Совершенно бессмысленное распоряжение. Ведь Доротея не
собирается за Ладислава замуж.
- Да, но каждый прочитавший приписку решит, что собирается. Я,
разумеется, не сомневаюсь в Доротее, - сказал сэр Джеймс. Затем,
нахмурившись, добавил: - Но Ладислав мне не внушает доверия. Говорю вам
откровенно: доверия он не внушает.
- Сейчас я ничего не в силах сделать, Четтем. Право, если бы можно было
его отослать... скажем, отправить на остров Норфолк... (*141) или куда-то
в этом роде... это только опорочило бы Доротею. Те, кто слышал о
завещании, решили бы, что мы в ней не уверены... не уверены, знаете ли.
Веский довод, приведенный мистером Бруком, не смягчил сэра Джеймса. Он
протянул руку за шляпой, давая понять, что не намерен больше препираться,
и с прежней запальчивостью произнес:
- Могу только сказать, что Доротея однажды уже была принесена в жертву
из-за беспечности своих близких. Как родственник, я сделаю все возможное,
чтобы оградить ее от этого сейчас.
- Самое лучшее, что вы можете сделать, это перевезти ее поскорее во
Фрешит. Полностью одобряю ваш план, - сказал мистер Брук, радуясь, что
одержал победу в споре. Ему очень не хотелось расставаться с Ладиславом
именно сейчас, когда парламент мог быть распущен со дня на день и
надлежало убедить избирателей в правильности того единственного пути,
который более всего соответствовал интересам Англии. Мистер Брук искренне
верил, что эта цель будет достигнута, если его вновь изберут в парламент.
Он был готов служить нации, не жалея сил.