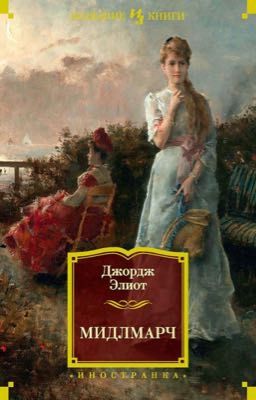«Мидлмарч» Джордж Элиот. Главы 30-39
30
Тот, кто хочет отдыхать не
вовремя, лишь утомляется.
Паскаль
Приступ не повторился, и через несколько дней мистер Кейсобон уже
чувствовал себя почти как обычно. Однако Лидгейт, по-видимому, считал, что
его болезнь заслуживает серьезного внимания. Он не только применил свой
стетоскоп (*89) (в ту эпоху далеко не часто употреблявшийся врачами), но и
подолгу просиживал у своего пациента, наблюдая за ним. На расспросы
мистера Кейсобона он отвечал, что источник его недуга заключается в
обычном пороке тех, кто занят умственным трудом, - в постоянной чрезмерной
усидчивости, и средство против него одно: ограничение часов работы и
разнообразные развлечения. Мистер Брук, присутствовавший при одном таком
разговоре, посоветовал мистеру Кейсобону заняться ужением рыбы по примеру
Кэдуолледера и завести токарный станок - делать игрушки, ножки для столов,
ну и так далее.
- Короче говоря, вы рекомендуете мне предвосхитить наступление второго
детства, - с некоторой горечью заметил бедный мистер Кейсобон. - Все это,
- добавил он, взглянув на Лидгейта, - будет для меня таким же
развлечением, как щипание пеньки для арестантов в исправительных
заведениях.
- Я готов признать, - ответил Лидгейт с улыбкой, - что развлечения как
рецепт оставляют желать лучшего. Это равносильно совету не унывать.
Пожалуй, вернее будет сказать, что вам следует каждый день прерывать
работу, чтобы немного поскучать.
- Да-да, - вмешался мистер Брук. - Пусть Доротея играет с вами по
вечерам в трик-трак. Ну, и воланы... лучшей игры, чем воланы, для дневных
часов я, право, не знаю. Помнится, это была самая модная игра. Конечно, не
с вашими глазами, Кейсобон... но вы должны отдыхать, знаете ли. Вот,
скажем, выбрать для изучения какой-нибудь развлекательный предмет,
например, конхиологию (*90), - я убежден, что это очень развлекательный
предмет. Или же пусть Доротея читает вам что-нибудь легонькое - Смоллетта,
например, "Родерик Рэндом", "Гемфри Клинкер". В них, конечно, есть
некоторые вольности, но теперь ей можно читать что угодно, она ведь
замужем, знаете ли. Помнится, я очень смеялся - презабавнейший эпизод со
штанами почтальона. Теперь такого юмора уже нет. Я перечитал все такие
книги, но для вас они могут оказаться чем-то новым.
"Столь же новым, как жевание колючек!" - такой ответ наиболее полно
выразил бы чувства мистера Кейсобона. Но он только учтиво наклонил голову
с надлежащим уважением к дяде его жены и сказал, что, без сомнения,
названные им труды "обогащали умы определенного порядка".
- Видите ли, - сказал Лидгейту мудрый мировой судья, когда они вышли от
больного, - Кейсобон всегда был несколько узковат и теряется, когда вы
запрещаете ему посвящать все время избранному им предмету, который,
насколько мне известно, весьма, весьма глубок - какие-то исследования,
знаете ли. Я никогда себе этого не позволял, я всегда был очень
разносторонен. Но у священника большого выбора нет. Вот если бы его
сделали епископом, дело другое! Он ведь написал для Пиля отличный трактат.
Ему пришлось бы тогда больше двигаться, больше бывать на людях. Он мог бы
немного пополнеть. Но я рекомендую вам поговорить с миссис Кейсобон. Она
очень, очень умна, моя племянница, хочу я сказать. Объясните ей, что ее
мужу нужны легкие забавы, разнообразие, внушите ей, что он должен
развлекаться.
Но Лидгейт собирался поговорить с Доротеей и без совета мистера Брука.
Она не присутствовала при том, как ее дядя перечислял приятные способы, с
помощью которых жизнь в Лоуике можно было бы сделать более веселой, но
обычно во время визитов Лидгейта она оставалась в спальне, и он с
интересом подмечал в ее лице и в голосе приметы искренней тревоги и живой
озабоченности, едва он упоминал о чем-то, что могло иметь отношение к
здоровью ее мужа или к состоянию его духа. Лидгейт решил, что ей следует
узнать всю правду о возможном будущем ее мужа, но, бесспорно, мысль о
доверительной беседе с ней дразнила его любопытство. Врач всегда склонен к
психологическим наблюдениям и порой, не удержавшись от соблазна, позволяет
себе многозначительное пророчество, которое жизнь и смерть затем легко
опровергают. Лидгейт посмеивался над подобными рьяными предсказателями и
собирался соблюдать в этом смысле величайшую осторожность.
Он осведомился, дома ли миссис Кейсобон, и, узнав, что она отправилась
на прогулку, собрался уже уйти, но тут в переднюю вошли Доротея и Селия,
разрумяненные мартовским ветром. Когда Лидгейт попросил разрешения
поговорить с ней наедине, Доротея тотчас открыла дверь библиотеки, возле
которой они стояли, спеша услышать то, что он собирался сказать ей о ее
муже. После того как мистеру Кейсобону стало дурно в библиотеке, она еще
ни разу туда не входила, и лакей не потрудился открыть там ставни. Однако
они не достигали верхних стекол, и света достало бы, чтобы читать.
- Извините этот полумрак, - сказала Доротея, остановившись на середине
комнаты. - Но ведь мистеру Кейсобону запретили читать, и библиотекой никто
не пользовался. Однако я надеюсь, что он скоро возобновит свои занятия
здесь. Ему ведь становится лучше?
- Да, и много быстрее, чем я ожидал вначале. Собственно говоря, он уже
почти так же здоров, как был раньше.
- Значит, вы опасаетесь, что болезнь может вернуться? - спросила
Доротея, чей чуткий слух уловил серьезность его тона.
- В подобных случаях трудно утверждать что-нибудь определенное, -
ответил Лидгейт. - С уверенностью я могу сказать лишь одно: надо очень
внимательно следить, чтобы мистер Кейсобон не напрягал свои нервы.
- Прошу вас, говорите совершенно прямо, - умоляюще сказала Доротея. -
Мне невыносимо думать, что я чего-то не знаю и потому могу поступить так,
как никогда не поступила бы, если бы знала все! - Слова эти вырвались у
нее как невольный крик. Было очевидно, что их породило душевное смятение,
причина которого лежала в недавнем прошлом.
- Садитесь же, - добавила она, опустилась в ближайшее кресло и сняла
шляпку и перчатки. Доротея инстинктивно ощущала, насколько неуместны
церемонии, когда решается судьба человека.
- То, что вы сейчас сказали, подтверждает мою точку зрения, - начал
Лидгейт. - Мне кажется, одна из обязанностей врача - насколько возможно
умерять подобного рода сожаления. И я должен предупредить вас, что при
таких недугах трудно что-либо предсказывать. Мистер Кейсобон может прожить
пятнадцать лет или даже больше, чувствуя себя не хуже, чем до сих пор.
Доротея побледнела, а когда Лидгейт умолк, сказала тихо:
- То есть если мы будем очень беречься?
- Да, беречься всяких душевных волнений и неумеренных трудов.
- Он будет так несчастен, если ему придется оставить свои занятия, -
сказала Доротея, тотчас представив себе эти страдания.
- Да, я знаю. Единственный выход тут - попытаться всеми средствами, и
прямо, и обиняком, сокращать время, которое он им посвящает, и
разнообразить их. Если не произойдет ничего непредвиденного, то, как я уже
говорил, сердечное недомогание, которое, по моему мнению, явилось причиной
этого припадка, особой опасности не представляет. С другой стороны,
все-таки возможно, что развитие болезни пойдет быстро: это один из тех
случаев, когда смерть порой может наступить внезапно. И следует
предусматривать все до последних мелочей, чтобы избежать подобного исхода.
На несколько минут наступило молчание. Доротея сидела словно окаменев,
но она испытывала необыкновенное внутреннее волнение, и никогда еще ее ум
за столь короткий срок не перебирал такого многообразия всевозможных
картин и внутренних устремлений.
- Помогите мне, прошу вас, - произнесла она наконец все тем же тихим
голосом. - Объясните, что я могу сделать.
- Не свозить ли вам его куда-нибудь за границу? Если не ошибаюсь, вы
недавно были в Риме?
Воспоминания, которые заставляли отвергнуть это средство, вынудили
Доротею выйти из ее мраморной неподвижности.
- Нет, это не годится... хуже этого ничего нельзя придумать, - ответила
она с детской безнадежностью, и по ее щекам заструились слезы. - От того,
что не доставляет ему радости, пользы не будет никакой.
- Мне очень жаль, что я не мог избавить вас от этих страданий, - сказал
Лидгейт. Он был глубоко тронут, но тем не менее недоумевал, что могло
толкнуть ее на подобный брак. Такие женщины, как Доротея, были ему
непонятны.
- Вы поступили совершенно правильно. Я благодарна вам за то, что вы
сказали мне правду.
- Но я хочу предупредить вас, что самому мистеру Кейсобону я ничего об
этом не скажу. Ему следует знать только, что он должен соблюдать некоторые
правила и не утомлять себя работой. Любая тревога для него крайне вредна.
Лидгейт поднялся. Доротея тоже встала, машинально расстегнула накидку и
сбросила ее, словно задыхаясь. Лидгейт поклонился и уже направился к
двери, но Доротея, подчиняясь порыву, который, будь она одна, вылился бы в
горячую молитву, воскликнула с рыданием в голосе:
- Вы же мудрый и ученый человек! Вы все знаете о жизни и смерти. Так
дайте мне совет. Научите меня, что делать. Он трудился всю жизнь и думал
только о завершении своего труда. Ничто другое его не интересует. И меня
тоже...
Лидгейт и много лет спустя помнил впечатление, которое произвела на
него эта невольная мольба, этот призыв души к другой душе, когда отпала
вся мишура условностей и остались лишь две родственные натуры, идущие
среди одних и тех же бурь по одним и тем же тускло освещенным путям жизни.
Но что он мог ответить? Только - что утром снова заедет к мистеру
Кейсобону.
Когда он вышел, Доротея дала волю слезам, и они принесли ей некоторое
облегчение. Однако она тут же вспомнила, что должна скрывать от мужа свою
печаль, поспешно вытерла глаза и обвела взглядом комнату, решив
распорядиться, чтобы ее привели в порядок, - ведь теперь мистер Кейсобон
мог спуститься сюда в любую минуту. На его столе лежали письма, которых
никто не трогал с того утра, когда ему стало дурно, и среди них, как
хорошо помнила Доротея, два письма Уилла Ладислава - адресованное ей так и
осталось непрочитанным. Воспоминания, связанные с этими письмами, были еще
более мучительными из-за ее тогдашней вспышки - она не сомневалась, что
волнение, вызванное ее гневными словами, способствовало припадку. Она так
и оставила письма в библиотеке, не испытывая ни малейшего желания читать
их, - может быть, потом, если о них снова зайдет речь. Но теперь ей пришло
в голову, что их следует убрать, пока они вновь не попались на глаза
мистеру Кейсобону, - они вызывали у него раздражение, а от раздражения его
надо оберегать. Сначала она проглядела письмо, адресованное ему, -
возможно, следует написать, чтобы отклонить столь неприятный для него
визит.
Уилл писал из Рима. Начал он с заверений: он настолько обязан мистеру
Кейсобону, что всякая попытка благодарить его будет дерзостью. Ведь и так
ясно, что он полон благодарности, только самый последний негодяй мог бы не
питать признательности к столь великодушному другу. Рассыпаться в
словесных благодарностях было бы равносильно тому, чтобы кричать о себе:
"Я честный человек". Однако Уилл понял, что свои недостатки - те самые, на
которые так часто указывал ему мистер Кейсобон, - он сумеет исправить,
только оказавшись в более суровых условиях, чем те, какие до сих пор
обеспечивала ему щедрость его родственника. Он полагает, что лучше всего
отплатит за такую доброту - если за нее вообще можно хоть чем-то
отплатить, - найдя наилучшее применение для образования, которым он ему
обязан, и более не вынуждая расходовать на него средства, на которые
больше прав, возможно, имеет кто-то другой. Он возвращается в Англию
попытать счастья, подобно множеству молодых людей, чей капитал
исчерпывался их умом и знаниями. Его друг Науман передал ему "Диспут" -
картину, написанную для мистера Кейсобона, которую он, с разрешения
мистера Кейсобона, а также миссис Кейсобон, сам привезет в Лоуик. Если его
приезд почему-либо неудобен, то письмо, отправленное в Париж до
востребования, в ближайшие полмесяца еще застанет его там. Он вкладывает
письмо для миссис Кейсобон, в котором продолжает разговор об искусстве,
начатый еще в Риме.
Взяв свое письмо, Доротея сразу поняла, что он продолжает подтрунивать
над ее фантастическими предубеждениями и сетовать на ее неумение получать
безыскусственное удовольствие, воспринимая вещи такими, какие они есть, -
она не могла читать сейчас эти живые излияния молодого веселого ума. Надо
было немедленно что-то решить относительно первого письма - может быть,
еще не поздно помешать Уиллу приехать в Лоуик. В конце концов она отдала
письмо мистеру Бруку, который еще не уехал, и попросила его сообщить
Уиллу, что мистер Кейсобон был болен и состояние его здоровья не позволяет
ему принимать гостей.
Трудно было бы найти человека, который любил писать письма больше, чем
мистер Брук, но беда заключалась в том, что писать коротко он не умел, и в
этом случае его идеи разлились по трем большим страницам, а также заняли
все поля. Доротее он сказал просто:
- Ну конечно, я ему напишу, милочка. Весьма умный молодой человек... я
имею в виду молодого Ладислава. Я бы сказал: многообещающий молодой
человек. Превосходное письмо... Показывает тонкость его понимания, знаешь
ли. Но как бы то ни было, про Кейсобона я ему сообщу.
Однако перо мистера Брука было мыслящим органом и сочиняло фразы -
чрезвычайно благожелательные фразы - так быстро, что собственный ум
мистера Брука не успевал за ними угнаться. Оно выражало сожаления и
предлагало выходы из положения - перечитывая написанное, мистер Брук
только дивился, как изящно все изложено и на редкость уместно: ведь правда
можно сделать то-то и то-то, а ему прежде и в голову не приходило! На этот
раз его перо весьма огорчилось, что мистер Ладислав не сможет в настоящее
время приехать в их края, чтобы мистеру Бруку представился случай узнать
его поближе и чтобы они все-таки посмотрели вместе итальянские гравюры;
кроме того, оно испытывало такой интерес к молодому человеку, который
вступал в жизнь с большим запасом идей, что к концу второй страницы
убедило мистера Брука пригласить молодого Ладислава в Типтон-Грейндж, раз
уж в Лоуике его принять не могут. Почему бы и нет? У них найдется немало
совместных занятий, и ведь это время стремительного роста... политический
горизонт расширяется, и... Короче говоря, перо мистера Брука повторило
небольшую речь, которую оно совсем недавно начертало для "Мидлмарчского
пионера", хотя, конечно, эта газета нуждается в хорошем редакторе.
Запечатывая свое письмо, мистер Брук купался в потоке смутных планов -
молодой человек, способный придавать форму идеям, покупка "Мидлмарчского
пионера", чтобы расчистить дорогу новому кандидату, использование
документов... кто знает, к чему все это может привести? Селия выходит
замуж, и будет очень приятно некоторое время видеть напротив себя за
столом молодое лицо.
Но он уехал, не сообщив Доротее содержание своего письма, - она сидела
у мужа, и... впрочем, это все ей неинтересно.
31
У вас нет сил заставить зазвучать
Огромный колокол?
Пусть рядом с ним
Певучей флейты льется серебро.
И ноте, верно найденной, металл,
Подобранный искусно, даст ответ,
И колокол тяжелый тихо в лад
С ней запоет.
В этот вечер Лидгейт заговорил с Розамондой о миссис Кейсобон и с
удивлением упомянул про силу чувства, которое она, по-видимому, питает к
этому сухому, педантичному человеку на тридцать лет старше нее.
- Ну, разумеется, она предана мужу, - заметила Розамонда так, словно
это было непререкаемым законом, - подобные женские логические построения
Лидгейт находил очаровательными. У Розамонды же мелькнула мысль, что вовсе
не так уж плохо быть хозяйкой Лоуик-Мэнора, когда мужу остается жить
недолго. - Вы находите ее очень красивой?
- Да, она красива, но я как-то об этом не думал, - ответил Лидгейт.
- Вероятно, врачам об этом думать не подобает, - сказала Розамонда, и
на ее щеках заиграли ямочки. - Но как растет ваша практика! Ведь вас уже,
кажется, приглашали Четтемы. И вот теперь - Кейсобоны!
- Да, - равнодушно ответил Лидгейт. - Но мне больше нравится лечить
бедняков. Болезни людей с положением очень однообразны, и приходится с
почтительным видом выслушивать куда больше чепухи.
- Ну, не больше, чем в Мидлмарче, - сказала Розамонда. - Зато вы идете
по широким коридорам и все вокруг благоухает розовыми лепестками.
- Совершенно справедливо, мадемуазель де Монморанси! (*91) - воскликнул
Лидгейт и, наклонившись к столику, безымянным пальцем приподнял изящный
носовой платочек, который выглядывал из ее ридикюля. Он томно вздохнул,
словно упиваясь ароматом, а затем с улыбкой посмотрел на Розамонду.
Однако, как ни приятно было Лидгейту с такой непринужденностью и
свободой виться над прекраснейшим цветком Мидлмарча, долго это
продолжаться не могло. Прятаться от чужих глаз в этом городе было
нисколько не легче, чем в любом другом месте, и постоянно флиртующая
парочка не могла не испытывать воздействия всяческих влияний,
зависимостей, нажимов, стычек, тяготений и отталкиваний, которые
определяют ход событий. Все, что делала мисс Винси, обязательно
замечалось, а в эти дни поклонники и порицатели и вовсе не спускали с нее
глаз, так как миссис Винси после некоторых колебаний отправилась вместе с
Фредом погостить в Стоун-Корте, ибо у нее не было иного способа угодить
старику Фезерстоуну и в то же время оберечь сына от Мэри Гарт, которая по
мере выздоровления Фреда казалась все менее и менее желанной невесткой.
Тетушка Булстрод, например, с тех пор как миссис Винси уехала, стала
чаще появляться на Лоуик-Гейт, навещая Розамонду. Она питала к брату
искреннюю сестринскую любовь и, хотя считала, что он мог бы найти себе
жену, более равную ему по положению, тем не менее распространяла эту
любовь и на его детей. Миссис Булстрод числила среди своих приятельниц
миссис Плимдейл. У них были очень схожие вкусы в отношении шелковых
материй, фасонов нижнего белья, фарфоровой посуды и священнослужителей;
они поверяли друг другу мелкие домашние неприятности, обменивались
подробностями о своих недомоганиях, и кое-какие свидетельства
превосходства миссис Булстрод - а именно, более серьезные наклонности,
приверженность ко всему духовному и загородный дом - только способствовали
оживлению их беседы, не сея между ними розни. Обе были доброжелательны и
не разбирались в своих внутренних побуждениях.
Как-то, приехав к миссис Плимдейл с утренним визитом, миссис Булстрод
вскоре сказала, что ей пора: она должна еще навестить бедняжку Розамонду.
- А почему вы называете ее бедняжкой? - спросила миссис Плимдейл,
маленькая остролицая женщина с круглыми глазами, похожая на прирученного
сокола.
- Ведь она так красива и получила такое неразумное воспитание! Ее мать,
как вы знаете, всегда отличалась легкомыслием, и оттого я опасаюсь за
детей.
- Однако, Гарриет, откровенно говоря, - многозначительно произнесла
миссис Плимдейл, - вы с мистером Булстродом должны быть довольны: вы же
сделали для мистера Лидгейта все, что можно.
- Селина, о чем вы говорите? - спросила миссис Булстрод с искренним
недоумением.
- О том, что я от души рада за Неда, - сказала миссис Плимдейл. -
Правда, он может обеспечить такую жену лучше, чем некоторые, но мне всегда
хотелось, чтобы он поискал себе другую невесту. Все же материнское сердце
не может быть спокойно - ведь такие разочарования сбивают молодых людей с
правильного пути. А если бы меня спросили, я бы сказала, что не люблю,
когда в городе обосновываются чужие.
- Ну, не знаю, Селина, - в свою очередь, многозначительно сказала
миссис Булстрод. - Когда-то и мистер Булстрод был в городе чужим. Авраам и
Моисей были чужими в чужой земле, и нам заповедано оказывать
гостеприимство пришельцам. И особенно, - добавила она, помолчав, - когда
они праведны.
- Я говорила не в религиозном смысле, Гарриет, я говорила как мать.
- Селина, по-моему, я никогда не возражала против того, чтобы моя
племянница вышла за вашего сына.
- Ах, это только гордость мисс Винси, только ее гордость, и ничего
больше, я в этом уверена, - объявила миссис Плимдейл, которая прежде не
пускалась в откровенности с Гарриет на эту тему. - В Мидлмарче ни один
молодой человек ее не достоин - я сама это слышала от ее маменьки. Где тут
христианский дух, скажите на милость? Но теперь, если слухи верны, она
нашла себе такого же гордеца.
- Неужели вы полагаете, что между Розамондой и мистером Лидгейтом
что-то есть? - спросила миссис Булстрод, несколько обескураженная своей
неосведомленностью.
- Как, Гарриет! Разве вы не знали?
- Ах, я так мало выезжаю! И я не люблю сплетен. Да мне их никто и не
передает. Вы видите столько людей, с которыми я не встречаюсь. Ваш круг
знакомых довольно сильно отличается от моего.
- Но ведь это ваша собственная племянница и любимец мистера Булстрода -
и ваш тоже, Гарриет, не спорьте! Одно время мне казалось, что вы ждете
только, чтобы Кэт немного подросла.
- Я не верю, что это что-нибудь серьезное, - объявила миссис Булстрод.
- Иначе брат мне сказал бы.
- Ну, конечно, разные люди ведут себя по-разному, однако, насколько мне
известно, все, кто видел мисс Винси в обществе мистера Лидгейта, не
сомневаются, что они обручены. Впрочем, это не мое дело. Так дать вам
образец для митенок?
После этого миссис Булстрод поехала к племяннице, испытывая неприятную
тревогу. Сама она была одета прекрасно и с сожалением, более сильным, чем
обычно, заметила, что туалет Розамонды, только что вернувшейся с прогулки,
стоил, по-видимому, немногим меньше ее собственного. Миссис Булстрод
выглядела уменьшенной женственной копией своего брата, и цвет ее лица
казался особенно свежим по сравнению с нездоровой бледностью ее мужа.
Взгляд у нее был открытым и прямодушным, и она не любила обиняков.
Когда они вместе вошли в гостиную, миссис Булстрод внимательно
посмотрела по сторонам и сказала:
- Ты, душенька, я вижу, одна дома.
Розамонда тотчас поняла, что ее тетка собирается начать серьезный
разговор, и села возле нее. Однако отделка шляпки Розамонды была так
прелестна, что миссис Булстрод не могла не прикинуть, как эта шляпка пошла
бы Кэт, и пока она говорила, взор ее больших красивых глаз скользил по
полукругу нарядных полей.
- Я только что разговаривала о тебе, Розамонда, и была очень удивлена
тем, что услышала.
- Что же вы услышали, тетя? - Глаза Розамонды, в свою очередь,
внимательно рассматривали вышитый воротник миссис Булстрод.
- Я просто не могу поверить... Чтобы ты обручилась, и я ничего об этом
не знала... и твой отец мне ничего не сказал! - Тут глаза миссис Булстрод
обратились наконец на лицо Розамонды, которая густо покраснела и ответила:
- Я вовсе не обручена, тетя.
- А почему же все говорят, что ты обручена? В городе только об этом и
сплетничают!
- Что за важность - городские сплетни! - сказала Розамонда, про себя
очень довольная.
- Ах, душенька, ты должна быть осмотрительней. И не пренебрегай мнением
ближних. Помни, тебе ведь уже двадцать два и у тебя нет состояния - твой
отец вряд ли сумеет уделить тебе что-нибудь. Мистер Лидгейт очень умен и
остроумен. Это производит впечатление, я знаю. Я сама люблю беседовать с
такими людьми, и твой дядя находит его очень полезным. Но профессия врача
у нас здесь больших доходов не приносит. Да, конечно, все это суетность,
но доктора редко верят истинно, слишком сильна в них гордыня разума. А ты
не годишься в жены бедняку.
- Мистер Лидгейт не бедняк, тетя. У него прекрасные родственные связи.
- Но он сам мне говорил, что беден.
- Это потому, что он привык вращаться в обществе людей, живущих в
роскоши.
- Милая моя Розамонда, тебе не следует мечтать о том, чтобы жить в
роскоши.
Розамонда опустила глаза, поигрывая завязками ридикюля. Вспыльчивость
была ей чужда, отвечать резко она не умела, но жить собиралась так, как
хотелось ей.
- Так, значит, это правда? - спросила миссис Булстрод, вглядываясь в
лицо племянницы. - Ты думаешь о мистере Лидгейте! И наверное, вы
объяснились, хотя твой отец об этом не знает. Скажи откровенно, душенька,
мистер Лидгейт сделал тебе предложение?
Бедная Розамонда чувствовала себя очень неловко. Она не сомневалась ни
во влюбленности Лидгейта, ни в его намерениях, но ей было крайне
неприятно, что на прямой вопрос тетки она не может столь же прямо ответить
"да". Ее гордость была уязвлена, но, как всегда, на помощь ей пришла
благовоспитанность.
- Прошу простить меня, тетя, но я предпочла бы не говорить на эту тему.
- Надеюсь, душенька, ты не отдашь сердце человеку без твердых видов на
будущее. И подумать только, каким двум прекрасным женихам ты отказала! Но
один из них готов повторить свое предложение, если ты дашь ему случай. Я
когда-то знавала редкую красавицу, которая вышла замуж очень неудачно,
потому что прежде была слишком разборчива. Мистер Нед Плимдейл - приятный
молодой человек, недурен собой и единственный сын. А такое крупное дело,
как у них, надежней медицины. Конечно, брак - это не самое важное, и я
была бы рада, если бы ты больше помышляла о царствии божьем. Но все-таки
девица должна управлять своим сердцем.
- Я бы никогда не отдала его мистеру Плимдейлу, даже если бы уже ему не
отказала. Полюбив, я полюблю сразу и навеки, - произнесла Розамонда,
ощущая себя романтической героиней и очень мило играя эту роль.
- Я все понимаю, душенька, - грустно произнесла миссис Булстрод и
поднялась, чтобы уйти. - Ты позволила себе увлечься без взаимности.
- Нет-нет! Что вы, тетя! - воскликнула Розамонда.
- Значит, ты не сомневаешься, что мистер Лидгейт питает к тебе
серьезное чувство?
Щеки Розамонды горели, ее самолюбие было оскорблено. Она ничего не
ответила, и миссис Булстрод рассталась с ней глубоко убежденная, что
дозналась до истины.
Во всем, что не имело прямого отношения к его делам или религиозным
убеждениям, мистер Булстрод охотно подчинялся жене, и теперь она, не
касаясь причин, попросила его при первом удобном случае выяснить в
разговоре с мистером Лидгейтом, не намерен ли тот в скором времени
сочетаться браком. Оказалось, что у мистера Лидгейта и в мыслях ничего
подобного нет. Во всяком случае, ничто в его словах - а их мистер
Булстрод, подвергнутый допросу с пристрастием, пересказал как мог
подробнее и точнее - не свидетельствовало о чувстве, которое могло бы
привести к женитьбе. Миссис Булстрод поняла, что на нее возложен
серьезнейший долг, и вскоре сумела поговорить с Лидгейтом. Начав с
расспросов о здоровье Фреда Винси, она дала понять, что живо принимает к
сердцу судьбу детей своего брата, а затем перешла к общим рассуждениям на
тему об опасностях, подстерегающих молодых людей до того, как их жизнь
будет устроена. Сыновья нередко огорчают родителей легкомыслием и не
оправдывают потраченные на них деньги, а дочерям не всегда хватает
осмотрительности, и это иной раз может помешать им сделать хорошую партию.
- Особенно когда девушка очень привлекательна, а ее родители принимают
у себя большое общество, - продолжала миссис Булстрод. - Молодые люди
ухаживают за ней, завладевают ее вниманием для того лишь, чтобы приятно
провести время, а других это отталкивает. По-моему, мистер Лидгейт, мешать
молоденькой девушке в устройстве ее судьбы - значит брать на себя большую
ответственность. - И миссис Булстрод посмотрела на него предостерегающе, а
может быть, и с упреком.
- Да, конечно, - сказал Лидгейт, отвечая ей не менее пристальным
взглядом. - С другой стороны, только самодовольный вертопрах способен
думать, что стоит ему слегка поухаживать за девушкой, и она сразу в него
влюбится или хотя бы окружающие вообразят, будто она в него влюбилась.
- Ах, мистер Лидгейт, вы же знаете себе цену! Вы отлично понимаете, что
не нашим молодым людям соперничать с вами. Ваши частые посещения очень
могут подвергнуть опасности устройство судьбы молодой девицы и стать
причиной того, что она ответит отказом, если ей сделают предложение.
Лидгейту не столько польстило признание его превосходства над
мидлмарчскими Орландо (*92), сколько раздражил намек, который он уловил в
словах миссис Булстрод. Она же не сомневалась, что говорила со всей
возможной убедительностью, э употребив изысканное выражение "подвергнуть
опасности устройство судьбы", набросила покрывало благородного обобщения
на множество частных подробностей, которые тем не менее просвечивали
сквозь него достаточно ясно.
Лидгейт, бесясь про себя, одной рукой откинул волосы со лба, а другой
пошарил в жилетном кармане, после чего нагнулся и поманил к себе
крохотного черного спаниеля, но у песика достало проницательности
отклонить его неискреннюю ласку. Уйти немедленно было бы неприлично, так
как он только что перешел с другими гостями из столовой в гостиную и еще
не допил свой чай. Впрочем, миссис Булстрод, убежденная, что он ее понял,
переменила тему.
Соломон в притчах своих упустил указать, что "как больным устам все
кажется горьким, так нечистой совести во всем чудятся намеки". На
следующий день мистер Фербратер, прощаясь с Лидгейтом на улице, сказал,
что они, конечно, встретятся вечером у мистера Винси. Лидгейт коротко
ответил, что навряд ли... Ему надо работать, и он не может больше тратить
вечера на развлечения.
- Как! Вы намерены привязаться к мачте и залепить уши воском? (*93) -
осведомился мистер Фербратер. - Ну, раз вы не хотите попасть в плен к
сиренам, вам следует принять меры предосторожности.
Еще два дня назад Лидгейт не усмотрел бы в этой фразе ничего, кроме
обычной любви его собеседника к классическим уподоблениям. Теперь же ему
открылся в ней скрытый смысл и он окончательно убедился, что был
неосмотрителен, как дурак, и дал повод неверно толковать свое поведение, -
нет, разумеется, к Розамонде это не относится: она, конечно, понимает, что
он ничего серьезного в виду не имел. Порукой тому ее безупречный такт и
светскость, но ее окружают глупцы и сплетники. Однако их заблуждению надо
положить конец. Он решил (и исполнил свое решение) с этих пор не бывать у
Винси иначе как по делу.
Розамонда чувствовала себя глубоко несчастной. Тревога, пробужденная в
ней расспросами тетки, все росла, а когда миновало десять дней и Лидгейт
ни разу у них не появился, она с ужасом начала думать, что все было
впустую, и как бы ощутила неумолимое движение той роковой губки, которая
небрежно стирает надежды смертных. Мир стал вдвойне тоскливым, словно
дикая пустыня, которую волшебные чары ненадолго превратили в чудесный сад.
Она полагала, что испытывает муки обманутой любви, и была убеждена, что ни
один другой мужчина не даст ей возможности возводить такие восхитительные
воздушные замки, какие вот уже полгода были для нее источником стольких
радостей. Бедняжка Розамонда лишилась аппетита и чувствовала себя
покинутой, словно Ариадна (*94) (прелестная Ариадна со сценических
подмостков, оставленная со всеми своими сундуками, полными костюмов, и уже
не надеющаяся, что ей подадут карету).
В мире существует много удивительных смесей, которые все одинаково
именуются любовью и претендуют на привилегии божественной страсти, каковая
извиняет все (в романах и пьесах). К счастью, Розамонда не собиралась
совершать отчаянных поступков. Она причесывала свои золотистые волосы не
менее тщательно, чем всегда, и держалась с гордым спокойствием. Она
строила всевозможные предположения, и наиболее утешительной была догадка,
что тетя Гарриет вмешалась и каким-то способом воспрепятствовала Лидгейту
бывать у них, - она смирилась бы с любой причиной, лишь бы не оказалось,
что он к ней равнодушен. Тот, кто воображает, будто десяти дней мало...
нет, не для того, чтобы похудеть, истаять или как-нибудь иначе зримо
пострадать от несчастной любви, но чтобы завершить полный круг опасений и
разочарований, тот не имеет ни малейшего представления о мыслях, которые
могут смущать элегантную безмятежность рассудительной юной девицы.
Однако на одиннадцатый день, когда Лидгейт уезжал из Стоун-Корта,
миссис Винси попросила его сообщить ее мужу, что здоровье мистера
Фезерстоуна заметно ухудшилось и она желала бы, чтобы он еще до вечера
побывал в Стоун-Корте. Конечно, Лидгейт мог бы заехать на склад или,
вырвав листок из записной книжки, изложить на нем поручение миссис Винси и
отдать его слуге, открывшему дверь. Но эти нехитрые способы, по-видимому,
не пришли ему в голову, из чего мы можем заключить, что он был вовсе не
прочь заехать домой к мистеру Винси в час, когда хозяин отсутствовал, и
сообщить просьбу миссис Винси ее дочери. Человек может из разных
побуждений лишить другого своего общества, но, пожалуй, даже мудрецу будет
досадно, если его отсутствие никого не огорчит. А чтобы непринужденно и
легко связать прежние привычки с новыми, почему бы не пошутить с
Розамондой о том, как твердо он противится искушению и не позволяет себе
прервать суровый пост даже ради самых сладостных звуков? Надо также
сознаться, что в обычную ткань его мыслей все-таки, подобно цепким
волоскам, кое-где вплетались размышления о том, обоснованны ли намеки
миссис Булстрод.
Мисс Винси была одна, когда вошел Лидгейт, и покраснела так густо, что
он тоже смутился, забыл про шутки и тотчас же принялся объяснять причину
своего визита, с почти холодной учтивостью попросив передать мистеру Винси
просьбу ее матушки. Розамонду, которая в первую минуту поверила было, что
счастье к ней вернулось, этот тон поразил в самое сердце. Краска схлынула
с ее щек, и она столь же холодно, без единого лишнего слова, обещала
исполнить его поручение - рукоделие, которое она держала, позволило ей не
поднимать глаз на Лидгейта выше его подбородка. В любой неудаче начало
безусловно уже половина всего. Не зная, что сказать, и только поигрывая
хлыстом, Лидгейт высидел так две томительные минуты и поднялся. Розамонда
вздрогнула, тоже машинально встала и уронила рукоделие - от жгучей обиды и
стараний ничем эту обиду не выдать она несколько утратила обычную власть
над собой. Лидгейт поспешно поднял рукоделие, а когда выпрямился, то прямо
перед собой увидел очаровательное личико и прелестную стройную шею,
безупречной грацией которой всегда восхищался. Но теперь он вдруг заметил
в ней какое-то беспомощное трепетание, ощутил незнакомую ему прежде
жалость и бросил на Розамонду быстрый вопросительный взгляд. В последний
раз столь естественна она была в пятилетнем возрасте: на ее глаза
навернулись слезы, и она ничего не могла с ними поделать - пусть блестят,
точно роса на голубых цветах, или же свободно катятся по щекам.
Миг естественности был точно легкое прикосновение пера, вызывающее
образование кристаллов, - он преобразил флирт в любовь. Не забывайте, что
честолюбец, глядевший на эти незабудки под водой, был добросердечен и
опрометчив. Он не заметил, куда делось рукоделие, мысль, подобная молнии,
озарила скрытые уголки его души и пробудила способность к страстной любви,
которая не была погребена под каменными сводами склепа, а таилась у самой
поверхности. Его слова были отрывистыми и неловкими, но тон превратил их в
пылкую мольбу.
- Что случилось? Вы расстроены? Прошу вас, скажите, чем.
С Розамондой еще никто никогда не говорил подобным голосом. Не знаю,
уловила ли она смысл этих фраз, но она посмотрела на Лидгейта, и по ее
щекам покатились слезы. Такое молчание было самым полным ответом, и
Лидгейт, позабыв обо всем, под наплывом нежности, рожденной внезапным
убеждением, что от него зависит счастье этого прелестного юного создания,
позволил себе обнять Розамонду тихо и ласково (он привык быть ласковым со
слабыми и страждущими) и поцелуем стер обе большие слезы. Это была
необычная прелюдия к объяснению, но зато она прямо вела к цели. Розамонда
не рассердилась, но чуть-чуть отодвинулась с робкой радостью, и Лидгейт
мог теперь сесть рядом с ней и говорить не так отрывисто. Розамонде
пришлось сделать свое маленькое признание, и он дал волю словам, полным
нежной благодарности. Через полчаса он покинул этот дом женихом, и душа
его принадлежала уже не ему, а той, с кем он связал себя словом.
Вечером он снова приехал, чтобы поговорить с мистером Винси, который
вернулся из Стоун-Корта в полном убеждении, что вскоре ему придется
услышать о кончине мистера Фезерстоуна. На редкость удачное слово
"кончина", пришедшее ему в голову в нужный момент, еще больше подняло его
настроение, которое по вечерам и так бывало превосходным. Точное слово -
это большая сила, и его определенность передается нашим поступкам. Смерть
старика Фезерстоуна, рассматриваемая как кончина, превращалась всего лишь
в юридический факт, и мистер Винси мог благодушно пощелкивать своей
табакеркой, не притворяясь, будто грустит. А мистер Винси не любил ни
притворяться, ни грустить. Кто когда нес дань скорби завещателю или
освящал псалмом титул на недвижимость? В этот вечер мистер Винси был
склонен взирать на все с беспредельным благодушием. Он даже сказал мистеру
Лидгейту, что здоровье у Фреда все-таки семейное и скоро он опять будет
молодец молодцом. Когда же они попросили у него согласия на помолвку, он
дал его с необычайной легкостью, сразу же перейдя к общим рассуждениям о
том, как похвально молодым людям и девицам связывать себя узами брака, из
чего, по-видимому, сделал вывод, что недурно бы выпить еще пуншику.
32
...Что им ни скажешь,
Лакают, точно кошка - молоко.
Шекспир, "Буря"
Как ни велика была уверенность мэра, опиравшаяся на настойчивость, с
какой мистер Фезерстоун требовал, чтобы Фред и его мать оставались в
Стоун-Корте, она все же далеко уступала в силе чувствам, обуревавшим
настоящих родственников старика, которые, с тех пор как он перестал
вставать с постели, естественно, особенно чутко прислушивались к голосу
крови и объявлялись у него в доме в значительно большем числе, чем раньше.
О да, вполне естественно! Ведь когда "бедный Питер" еще сидел в своем
кресле в большой гостиной, даже черные тараканы, которых кухарка обливает
кипятком на облюбованном ими очаге, встретили бы более ласковый прием, чем
эти люди, чья фезерстоуновская кровь получала плохое питание не из-за их
скаредности, но из-за их бедности. Братец Соломон и сестрица Джейн были
богаты, и, по их мнению, бесцеремонная откровенность и полнейшее
отсутствие притворной вежливости, с какими брат всегда их принимал, вовсе
не свидетельствовали о том, что в деле столь великой важности, как
составление завещания, он упустит из вида особые права богатства. Им он,
во всяком случае, от дома никогда не отказывал, а то, что он запретил
являться к себе на глаза братцу Ионе, сестрице Марте и всем прочим, у кого
и тени таких прав нету, так это даже чудачеством назвать нельзя. Недаром
Питер любил повторять, что деньги - хорошее яичко и оставить их следует в
теплом гнездышке.
Однако братец Иона, сестрица Марта и все прочие неимущие изгои
придерживались иной точки зрения. Вероятности столь же разнообразны, как
физиономии, которые можно увидеть в узорах обоев - они там есть все, от
Юпитера до Панча (*95), надо только дать волю творческой фантазии. Самым
бедным и отвергнутым казалось вполне вероятным, что Питер, ничего не
сделав для них при жизни, тем более вспомнит о них напоследок. Иона
утверждал, что люди любят удивлять своими завещаниями, а по мнению Марты,
никого не удивило бы, если бы он оставил свои деньги тем, кто их совсем не
ожидает. И что будет странного, коли братец, "лежащий на одре" с водянкой,
почувствует, насколько кровь гуще, чем вода, а если и не изменит
завещание, то, может, при нем есть порядочная сумма наличными. Так или
эдак, а двум-трем кровным родственникам надо быть на месте и следить за
теми, кого и свойственниками-то только из вежливости называют. Известны
ведь и поддельные завещания, и оспариваемые завещания, которые словно бы
обладают радужным преимуществом перед настоящими в том смысле, что
неведомо как позволяют обойденным наследникам жить благодаря им
припеваючи. Опять-таки те, кто и в родстве-то не состоит, могут расхитить
вещи, пока бедный Питер "лежит на одре"! Кому-нибудь нужно быть на страже.
Однако в этом выводе они целиком сходились с Соломоном и Джейн, а еще
разные племянники, племянницы, двоюродные и троюродные братья, с еще
большей тонкостью строя предположения о том, как может человек
"распорядиться" своей собственностью при заведомой склонности к
чудачествам, ощутили великодушное желание оградить семейные интересы и
пришли к заключению, что посетить Стоун-Корт не только их право, но и
прямая обязанность. Сестрица Марта, она же миссис Крэнч, проживавшая,
страдая одышкой, в Меловой Долине, была не в силах отправиться в столь
дальний путь сама, однако ее сын, родной племянник бедного Питера, мог
успешно ее заменить и последить, чтобы его дяденька Иона не воспользовался
единолично результатами маловероятных событий, которые, того и гляди,
произойдут. Короче говоря, в фезерстоуновской крови повсеместно жило
убеждение, что каждый должен следить за всеми прочими и что каждому из
этих прочих не мешает помнить о всевидящем оке господнем, на него
устремленном.
Вот так теперь в Стоун-Корте что ни день появлялись кровные
родственники - один приезжал, другой отбывал, и на долю Мэри Гарт выпадала
неприятная обязанность передавать их словоизлияния мистеру Фезерстоуну, а
он никого из них видеть не желал и возлагал на нее еще более неприятную
обязанность сообщать им об этом. Как домоправительница, она по доброму
провинциальному обычаю считала своим долгом предложить им перекусить, но
тем не менее решила посоветоваться с миссис Винси о растущем расходе
съестных припасов с тех пор, как мистер Фезерстоун перестал вставать с
постели.
- Ах, дорогая моя, в дни последней болезни в богатом доме нельзя
скупиться и экономить. Бог свидетель, мне не жаль, если они съедят все
окорока, только самые лучшие сберегите до похорон. Пусть у вас всегда
будет наготове жареная телятина и уже нарезанный сыр, - сказала щедрая
миссис Винси, которая была теперь нарядна и бодра, как прежде.
Однако некоторые из посетителей, обильно угостившись телятиной и
ветчиной, не отправлялись восвояси. Братец Иона, например (такие
неприятные люди есть почти во всех семьях, и быть может, даже в знатнейших
фамилиях имеются свои бробдингнеги (*96) с поистине великанскими долгами и
растучневшие на мотовстве)... так вот братец Иона, разорившись,
поддерживал свое существование с помощью занятия, которым по скромности не
хвастал, хотя оно было много почтеннее мошенничества на бирже или на
ипподроме, и которое не требовало его присутствия в Брассинге, пока у него
был удобный угол и достаточно еды. Угол он выбрал на кухне - отчасти
потому, что это место наиболее отвечало его вкусам, а отчасти потому, что
не желал находиться в обществе Соломона, касательно которого придерживался
самого нелицеприятного братского мнения. С него было достаточно пребывать
в стенах Стоун-Корта - облаченный в свой лучший костюм, он удобно
расположился в покойном кресле, вдыхая аппетитные запахи, и порой ему
начинала мерещиться буфетная стойка "Зеленого молодца" в воскресный вечер
Мэри Гарт он заявил, что не намерен покидать брата Питера, пока бедняга
еще дышит. Обременительные члены семейных кланов, как правило, бывают либо
острословами, либо непроходимыми дураками. Иона был фезерстоуновским
острословом и перешучивался со служанками, хлопотавшими у плиты, однако
мисс Гарт, по-видимому, внушала ему подозрения, и он следил за ней весьма
холодным взглядом.
Этот взгляд Мэри еще могла бы переносить с равнодушием, но, к
несчастью, юный Крэнч, явившийся из Меловой Долины как представитель своей
матушки присматривать за дяденькой Ионой, тоже почувствовал, что его долг
- остаться здесь до конца и составить дяденьке компанию на кухне. Юного
Крэнча нельзя было назвать золотой серединой между острословом и
непроходимым дураком, поскольку он больше подходил под последнее
определение, а к тому же страдал косоглазием, что мешало догадываться о
его чувствах, - но, по-видимому, силой они не отличались. Когда Мэри Гарт
входила в кухню, мистер Иона Фезерстоун начинал сверлить ее холодным
сыщицким взглядом, а юный Крэнч поворачивал голову в том же направлении,
словно нарочно показывая ей, как он косит (подобно тем цыганам, которым
Борроу (*97) читал Новый завет). И вот тут терпение бедняжки Мэри
иссякало. Иногда она сердилась, а иногда с трудом подавляла смех. Как-то
она не удержалась и описала Фреду эту кухонную сцену, а он возжелал
немедленно отправиться на кухню и посмотреть на дядю с племянником, сделав
вид, что ему надо выйти через черный ход. Однако, едва узрев эти четыре
глаза, он выскочил в ближайшую дверь, которая, как оказалось, вела в
молочную, и там под высокой крышей среди бидонов расхохотался так, что
отголоски его хохота донеслись до кухни. Он убежал через другой ход,
однако мистер Иона успел заметить бледность Фреда, его длинные ноги,
обострившиеся черты лица и измыслил множество сарказмов, в которых эти
внешние особенности уничижительно объединялись с низменными нравственными
свойствами.
- Вот, Том, ты-то не носишь таких франтовских панталон и такими
длинными прекрасными ногами тоже похвастать не можешь! - заявил Иона и
подмигнул племяннику, точно намекая, что за бесспорностью этих утверждений
кроется еще что-то. Том поглядел на свои ноги, но предпочел ли он свои
нравственные преимущества порочной длине ног и предосудительной
щеголеватости панталон, так и осталось неясным.
В большой гостиной тоже настороженно шарили бдительные глаза и сменяли
друг друга кровные родственники, жаждущие "посидеть с больным". Многие,
закусив, уезжали, но братец Соломон и дама, которая двадцать пять лет была
Джейн Фезерстоун, пока не стала миссис Уол, находили нужным ежедневно
проводить там долгие часы без какого-либо видимого занятия и только
наблюдали за коварной Мэри Гарт (которая была настолько хитра, что ее ни в
чем не удавалось поймать), да иногда плаксиво щурили сухие глаза (как бы
обещая бурные потоки с наступлением сезона дождей) при мысли, что их не
допускают в спальню мистера Фезерстоуна. Ибо неприязнь старика к
единокровным родственникам, казалось, росла по мере того, как у него
становилось все меньше сил забавляться язвительными выпадами по их адресу.
Но оттого что он уже не мог жалить, яд накапливался у него в крови.
Усомнившись в переданном через Мэри Гарт отказе, они вдвоем появились
на пороге спальни, облаченные в черное (миссис Уол держала наготове белый
платок) и с траурным выражением на сизых лицах в ту самую минуту, когда
розовощекая миссис Винси в развевающихся розовых лентах подавала
укрепляющее питье их родному брату, а рядом сидел, развалившись в большом
кресле, бледный Фред, чьи остриженные волосы завивались тугими кудрями, -
да чего же и ждать от игрока!
Старик Фезерстоун полусидел, опираясь на подушки, а рядом, как всегда,
лежала трость с золотым набалдашником. Едва он увидел эти похоронные
фигуры, явившиеся ему на глаза вопреки его строжайшему запрету. бешенство
взбодрило его лучше всякого питья. Схватив трость, он начал ею
размахивать, словно тщась отогнать эти безобразные призраки, и выкрикивать
голосом, пронзительным, как лошадиное ржание:
- Вон отсюда, миссис Уол, вон! Вон отсюда, Соломон!
- Ах, братец Питер... - начала миссис Уол, но Соломон предостерегающе
поднес к ее рту ладонь. Этот доживавший седьмой десяток старик с пухлыми
обвисшими щеками и бегающими глазками был сдержаннее своего братца Питера
и считал себя много умнее его. Действительно, ему было нелегко обмануться
в человеке, поскольку он заранее подозревал всякого в такой алчности и
бессовестности, что реальность вряд ли могла превзойти его ожидания. А
невидимые силы, по его убеждению, можно было ублаготворить сказанными к
месту сладкими словами - ведь произносит-то их человек состоятельный,
пусть и не более благочестивый, чем все прочие.
- Братец Питер, - произнес он вкрадчивым и в то же время торжественным
тоном, - мне надобно поговорить с тобой о Трех полях и о магнезии.
Всевышнему ведомо, что у меня на уме...
- Ну, так ему ведомо больше, чем желаю знать я, - перебил Питер, но
положил трость словно в знак перемирия. Впрочем, положил он ее
набалдашником от себя, чтобы в случае рукопашной ею можно было
воспользоваться как булавой, и при этом внимательно посмотрел на лысую
макушку Соломона.
- Ты можешь пожалеть, братец, если не поговоришь со мной, - сказал
Соломон, оставаясь на месте. - Я бы посидел с тобой сегодня ночью, и Джейн
тоже, и ты сам выберешь минуту, чтобы поговорить либо выслушать меня.
- Уж конечно сам, тебя не спрошу, - сказал Питер.
- Но сами выбрать минуту, чтобы умереть, вы, братец, не можете, -
ввернула миссис Уол своим обычным приглушенным голосом. - А будете лежать
тут, языка лишившись, да вдруг расстроитесь, что кругом чужие люди, и
вспомните про меня и моих деток... - Тут ее голос прервался, столь
жалостной была мысль, которую она приписала своему лишившемуся языка
брату, - ведь что может быть трогательнее упоминания о себе самих?
- Как же, дожидайся! - сварливо отозвался Фезерстоун. - Не стану я о
вас думать. Я завещание написал, слышите! Написал! - Тут он повернулся к
миссис Винси и отхлебнул укрепляющего питья.
- Другие бы люди постыдились занимать не свое место, - сказала миссис
Уол, обратив туда же взгляд узеньких глазок.
- Что ты, сестрица! - вздохнул Соломон с иронической кротостью. - Мы
ведь с тобой против них ни манерами, ни красотой, ни умом не вышли. Наше
дело помалкивать, а те, кто ловчее, пусть лезут вперед нас.
Этого Фред не стерпел. Он вскочил на ноги и, глядя на мистера
Фезерстоуна, спросил:
- Может быть, сэр, нам с маменькой уйти, чтобы вы могли побыть наедине
с вашими близкими?
- Сядь, кому говорю! - прикрикнул Фезерстоун. - И сиди, где сидел.
Прощай, Соломон, - добавил он, пытаясь снова замахнуться тростью, но
тяжелый набалдашник перевесил и это ему не удалось. - Прощайте, миссис
Уол. И больше сюда не являйтесь.
- Я буду внизу, братец, - сказал Соломон. - Свой долг я исполню, а там
посмотрим, какое будет соизволение всевышнего.
- Да уж, распорядиться имением помимо семьи, - подхватила миссис Уол, -
когда есть степенные молодые люди, чтобы его приумножить. Но я жалею тех,
кто не такой, и жалею их матерей. Прощайте, братец Питер.
- Вспомни, братец, что после тебя я старший и с самого начала преуспел
наподобие тебя и обзавелся землей, тоже купленной на имя Фезерстоуна, -
сказал Соломон, рассчитывая, что мысль эта может принести всходы во время
ночных бдений. - Но покуда прощай!
Уход их был ускорен тем, что мистер Фезерстоун обеими руками потянул
свой парик на уши, зажмурил глаза и зажевал губами, словно решив оглохнуть
и ослепнуть.
Тем не менее они ежедневно приезжали в Стоун-Корт и сидели внизу на
своем посту, иногда вполголоса неторопливо переговариваясь с такими
паузами между вопросом и ответом, что случайный слушатель мог бы
вообразить, будто перед ним говорящие автоматы, хитроумный механизм
которых время от времени заедает. Соломон и Джейн знали, что поспешность
ни к чему хорошему не приводит, - живым примером тому служил братец Иона
по ту сторону стены.
Впрочем, их бдение в большой гостиной иногда разнообразилось
присутствием гостей, прибывавших из ближних мест и из дальних. Теперь,
когда Питер Фезерстоун лежал наверху у себя в спальне, можно было подробно
обсуждать судьбу его имущества, пользуясь сведениями, раздобытыми в его же
доме: кое-какие сельские соседи и обитатели Мидлмарча выражали глубокое
сочувствие близким больного и разделяли их негодование против семейства
Винси, а дамы, беседуя с миссис Уол, иной раз проливали слезы, вспомнив
собственные былые разочарования из-за приписок к завещаниям или из-за
браков, в которые назло им вступали неблагодарные дряхлеющие джентльмены -
а ведь, казалось бы, дни их были продлены для чего-то более высокого.
Такие разговоры сразу замирали, как звуки органа, когда из мехов выдавлен
весь воздух, едва в гостиную входила Мэри Гарт, и все глаза обращались на
нее - ведь она была возможной наследницей, а может быть, и имела доступ к
железным сундукам.
Мужчины помоложе - родственники и свойственники старика - находили
немало привлекательных свойств в девушке, на которую ложились эти
прихотливые и заманчивые отблески: она держалась с таким достоинством и в
этой лотерее могла оказаться если не главным, то все-таки недурным призом.
А потому Мэри получала свою долю комплиментов и лестного внимания.
Особенно щедр и на то и на другое был мистер Бортроп Трамбул, солидный
холостяк и местный аукционщик, без которого не обходилась ни одна продажа
земли или скота, - фигура бесспорно видная, ибо его фамилия значилась на
множестве объявлений, и он испытывал снисходительную жалость к тем, кто о
нем не слышал. Питеру Фезерстоуну он приходился троюродным братом, старик
был с ним приветливее, чем с остальными родственниками, как с человеком
полезным в делах, и в описании похоронной процессии, продиктованном самим
стариком, он числился среди выносящих гроб. Мерзкая алчность не гнездилась
в душе мистера Бортропа Трамбула, он лишь твердо знал цену своим
достоинствам и не сомневался, что любым соперникам с ним тягаться трудно.
А потому если Питер Фезерстоун, который с ним, Бортропом Трамбулом, всегда
вел себя выше всяких похвал, не забудет его в своем завещании, что же - он
никогда не заискивал перед стариком и ничего не старался у него выманить,
а давал ему наилучшие советы, какие только может обеспечить обширный опыт,
накапливаемый вот уже более двадцати лет, с тех самых пор, как он на
пятнадцатом году жизни поступил подручным к тогдашнему аукционщику. Его
умение восхищаться отнюдь не ограничивалось собственной персоной - и
профессионально, и в частной жизни он обожал оценивать всевозможные
предметы как можно выше. Он был любителем пышных фраз и, ненароком
выразившись по-простому, тут же поправлялся - к счастью, так как он
отличался громогласней и стремился всюду первенствовать: постоянно
вскакивал, расхаживал взад и вперед, одергивал жилет с видом человека,
остающегося при своем мнении, водил указательным пальцем по лицу и в
промежутках между этими движениями поигрывал внушительными печатками на
часовой цепочке. Иногда его брови сурово хмурились, но обычно гнев этот
бывал вызван очередным нелепым заблуждением, которых в мире такое обилие,
что человеку начитанному и умудренному опытом трудно не выйти из терпения.
По его убеждению, Фезерстоуны в целом звезд с неба не хватали, но, как
человек бывалый, с солидным положением, он ничего против них не имел и
даже побеседовал на кухне с мистером Ионой и юным Крэнчем, оставшись в
полной уверенности, что произвел на этого последнего глубокое впечатление
своей осведомленностью о делах Меловой Долины. Если бы кто-нибудь в его
присутствии сказал, что мистер Бортроп Трамбул, как аукционщик конечно,
знаток всего сущего, он бы улыбнулся и молча провел по своей физиономии
пальцем, не усомнившись, что так оно и есть. Короче говоря, в аукционном
смысле он был достойным человеком, не стыдился своего занятия и верил, что
"прославленный Пиль, ныне сэр Роберт" (*98), будучи ему представлен, не
преминул бы отдать ему должное.
- Я бы, с вашего разрешения, мисс Гарт, не отказался от кусочка окорока
и кружечки эля, - сказал он, входя в гостиную в половине двенадцатого,
после того как его допустил к себе старик Фезерстоун (редчайшая честь!), и
встал спиной к камину между миссис Уол и Соломоном. - Да не трудитесь
выходить, позвольте, я позвоню.
- Благодарю вас, - сказала Мэри, - но мне надо кое-чем заняться на
кухне.
- Вы, мистер Трамбул, в большой милости, как погляжу, - сказала миссис
Уол.
- А? Что я побывал у нашего старичка? - отозвался аукционщик,
равнодушно поигрывая печатками. - Так ведь он всегда на меня очень
полагался. - Тут он крепко сжал губы и задумчиво сдвинул брови.
- А нельзя ли людям полюбопытствовать, что говорил их родной брат? -
осведомился Соломон смиренным тоном (ради удовольствия похитрить: ведь он
был богат и в смирении не нуждался).
- Почему же нельзя? - ответил мистер Трамбул громко, добродушно и со
жгучей иронией. - Задавать вопросы всем дозволено. Любой человек имеет
право придавать своим словам вопросительную форму, - продолжал он, и
звучность его голоса возрастала пропорционально пышности стиля. - Лучшие
ораторы постоянно вопрошают, даже когда не ждут ответа. Это так называемая
фигура речи - фигуристая речь, иначе говоря. - И красноречивый аукционщик
улыбнулся своей находчивости.
- Я только рад буду услышать, что он не забыл вас, мистер Трамбул, -
сказал Соломон. - Я не против, если человек того заслуживает. Вот если
кто-то не заслуживает, так я против.
- То-то и оно, то-то и оно, - многозначительно произнес мистер Трамбул.
- Разве можно отрицать, что люди, того не заслуживавшие, включались в
завещания, и даже как главные наследники? Волеизъявление завещателя, что
поделаешь. - Он снова сжал губы и слегка нахмурился.
- Вы что же, мистер Трамбул, занаверное знаете что братец оставил свою
землю помимо семьи? - сказала миссис Уол, на которую при ее склонности к
пессимизму эти кудрявые фразы произвели самое гнетущее впечатление.
- Уж проще сразу отдать свою землю под богадельню, чем завещать ее
некоторым людям, - заметил Соломон, когда вопрос его сестрицы остался без
ответа.
- Это что же? Всю лучшую землю? - снова спросила миссис Уол. - Да не
может быть, мистер Трамбул. Это же значит прямо идти наперекор
всемогущему, который ниспослал ему преуспеяние.
Пока миссис Уол говорила, мистер Бортроп Трамбул направился от камина к
окну, провел указательным пальцем под галстуком, по бакенбардам и по
волосам. Затем подошел к рабочему столику мисс Гарт, открыл лежавшую там
книгу и прочел заглавие вслух с такой внушительностью, словно выставлял ее
на продажу:
- "Анна Гейрштейнская, или Дева Тумана, произведение автора "Уэверли",
- и, перевернув страницу, начал звучным голосом: - "Миновало почти четыре
столетия с тех пор, как события, изложенные в последующих главах,
разыгрались на континенте". - Последнее, бесспорно звонкое слово он
выговорил с ударением на втором слоге, не потому что не знал, как оно
произносится, но желая таким новшеством усилить величавый каданс, который
в его чтении приобрела эта фраза.
Тут вошла служанка с подносом, и мистер Трамбул благополучно избавился
от необходимости отвечать на вопрос миссис Уол, которая, наблюдая вместе с
Соломоном за каждым его движением, думала о том, что образованность -
большая помеха в серьезных делах. На самом деле мистер Бортроп Трамбул не
имел ни малейшего понятия о завещании старика Фезерстоуна, но он ни в коем
случае не признался бы в своей неосведомленности - разве что его
арестовали бы за недонесение о заговоре против безопасности государства.
- Я обойдусь кусочком ветчины и кружечкой эля, - сказал он благодушно.
- Как служитель общества я кушаю, когда выпадает свободная минута. Другой
такой ветчины, - заявил он, глотая кусок за куском с почти опасной
быстротой, - не найти во всем Соединенном Королевстве. По моему мнению,
она даже лучше, чем ветчина во Фрешит-Холле, а я в этом не такой уж дурной
судья.
- Некоторые люди предпочитают не класть в окорок столько сахару, -
сказала миссис Уол. - Но бедный братец сахару не жалел.
- Тем, кому такая ветчина плоха, не возбраняется поискать лучше. Но,
боже святый, что за аромат! Я был бы рад купить подобный окорок.
Джентльмен испытывает глубокое удовлетворение, - тут в голосе мистера
Трамбула проскользнула легкая укоризна, - когда на его стол подают
подобную ветчину.
Он отставил тарелку, налил свою кружечку эля и слегка выдвинул стул
вперед, что дало ему возможность обозреть внутреннюю сторону его ляжек,
которые он затем одобрительно погладил, - мистер Трамбул отлично усвоил
все более или менее чинные позы и жесты, которые отличают главнейшие
северные расы.
- У вас тут, как я вижу, лежит интересное произведение, мисс Гарт, -
сказал он, когда Мэри вернулась в гостиную. - Автора "Уэверли", иными
словами сэра Вальтера Скотта. Я сам приобрел одно из его произведений -
приятная вещица, превосходно изданная и озаглавленная "Айвенго". Такой
писатель, чтобы его побить, я думаю, не скоро сыщется - его, по моему
мнению, в ближайшее время превзойти никому не удастся. Я только что прочел
вступительные строки "Анны Гейрштейнской". Превосходный приступ. (Мистер
Бортроп Трамбул пренебрегал простым словом "начало" и в частной жизни, и в
объявлениях.) Вы, как вижу, любительница чтения. Вы состоите подписчицей
нашей мидлмарчской библиотеки?
- Нет - ответила Мэри. - Эту книгу привез мистер Фред Винси.
- Я сам большой поклонник книг, - продолжал мистер Трамбул. - У меня
имеется не менее двухсот томов в кожаных переплетах, и льщу себя мыслью,
что выбраны они со вкусом. А также картины Мурильо, Рубенса, Тенирса,
Тициана, Ван Дейка и других. Буду счастлив одолжить вам любое
произведение, какое вы пожелаете, мисс Гарт.
- Я весьма вам обязана, - ответила Мэри, вновь поспешно направляясь к
двери, - но у меня почти нет времени для чтения.
- Уж ее-то братец, наверное, в завещании упомянул, - сказал мистер
Соломон еле слышным шепотом, когда дверь закрылась, и кивнул головой вслед
исчезнувшей Мэри.
- Первая-то его жена была ему не пара, - заметила миссис Уол. Никакого
приданого не принесла, а эта девушка всего только ее племянница. И
гордячка. Братец ей жалованье платил.
- Но весьма разумная девица, по моему мнению, - объявил мистер Трамбул,
допил эль и, поднявшись, одернул жилет самым решительным образом. - Я
наблюдал, как она капала лекарство. Она, сэр, следит за тем, что делает.
Прекрасное качество для женщины и весьма кстати для нашего друга там
наверху, бедного страдальца. Человек, чья жизнь имеет ценность, должен
искать в жене сиделку. Вот что буду иметь в виду я, если почту нужным
жениться, и, полагаю, я достаточно долго был холостяком, чтобы не сделать
тут ошибки. Некоторые люди вынуждены жениться, чтобы добавить себе
благородства, но когда в этом возникнет нужда у меня, надеюсь, кто-нибудь
мне так и скажет - надеюсь, какой-нибудь индивид поставит меня в
известность об этом факте. Желаю вам всего хорошего, миссис Уол. Всего
хорошего, мистер Соломон. Надеюсь, мы еще встретимся при не столь
печальных обстоятельствах.
Когда мистер Трамбул удалился, отвесив изысканный поклон, Соломон
придвинулся к сестре и сказал:
- Уж поверь, Джейн, братец оставил этой девчонке кругленькую сумму.
- По тому, как мистер Трамбул тут разливался, догадаться нетрудно, -
ответила Джейн. И помолчав, добавила: - Его послушать, так мои дочки уж и
капель накапать не сумеют.
- Аукционщики сами не знают, что болтают, - отозвался Соломон. - Хотя
Трамбул немало нажил, это у него не отнимешь.
33
...Закройте
Ему глаза и опустите полог;
А нам предаться должно размышленьям.
Шекспир, "Генрих VI", часть II
В эту ночь около двенадцати часов Мэри Гарт поднялась в спальню к
мистеру Фезерстоуну и осталась с ним одна до рассвета. Она часто брала на
себя эту обязанность, находя в ней некоторое удовольствие, хотя старик,
когда ему требовались ее услуги, бывал с ней груб. Но нередко выпадали
целые часы, когда она могла посидеть в полном покое, наслаждаясь глубокой
тишиной и полумраком. В камине чуть слышно шуршали угли, и багровое пламя,
казалось, жило своей благородной жизнью, безмятежно не ведая ничтожных
страстей, глупых желаний и мелких интриг, которые она день за днем
презрительно наблюдала. Мэри любила размышлять и не скучала, тихо сидя в
темной комнате. Еще в детстве она убедилась, что мир создан не ради ее
счастья, и не тратила времени на то, чтобы огорчаться и досадовать из-за
этого. Жизнь давно представлялась ей комедией, и она гордо - нет,
благородно - решила, что не будет играть в этой комедии ни низкой, ни
коварной роли. От насмешливого цинизма Мэри спасала любовь к родителям,
которых она глубоко уважала, и умение радоваться и быть благодарной за все
хорошее, не питая несбыточных надежд.
В эту ночь она по своему обыкновению перебирала в памяти события дня и
чуть-чуть улыбалась всяким нелепостям и несуразицам, которые ее фантазия
украшала новыми смешными подробностями. Как забавны люди с их склонностью
к иллюзиям и самообману! Они, сами того не замечая, расхаживают в дурацких
колпаках, верят, будто их собственная ложь всегда сходит за истину, а не
очевидна, как у других, и считают себя исключением из любого правила,
точно они одни остаются розовыми при свете лампы, которая желтит всех
остальных. Тем не менее не все иллюзии, которые наблюдала Мэри, вызывали у
нее улыбку. Хорошо зная старика Фезерстоуна, она была втайне убеждена, что
семью Винси, как бы ему ни нравилось общество Фреда и его матери, ждет не
меньшее разочарование, чем всех тех родственников, которых он к себе не
допускает. Она с пренебрежением замечала опасливые старания миссис Винси
не оставлять их с Фредом наедине, однако на сердце у нее становилось
тревожно, едва она начинала думать о том, что придется перенести Фреду,
если дядя и правда ему ничего не оставит. Она посмеивалась над Фредом в
его присутствии, но это не мешало ей огорчаться из-за его недостатков.
Тем не менее ей нравилось размышлять над всем этим: энергичный молодой
ум, не отягченный страстью, увлеченно познает жизнь и с любопытством
испытывает собственные силы. Несмотря на свою сдержанность, Мэри умела
посмеяться в душе.
Сострадание к старику не омрачало ее мыслей - подобное чувство можно
внушить себе, но трудно искренне испытывать к дряхлой развалине, все
существование которой исчерпывается лишь эгоизмом и остатками былых
пороков. Мистер Фезерстоун всегда был с ней суров и придирчив - он ею не
гордился и считал всего лишь полезной. Оставим святым тревогу за души тех,
от кого вы никогда не слышали ничего, кроме окриков и ворчания, - а Мэри
не была святой. Она ни разу не позволила себе резкого ответа и ухаживала
за стариком со всем старанием, но и только. Впрочем, сам мистер Фезерстоун
тоже о своей душе не тревожился и не пожелал побеседовать об этом предмете
с мистером Такером.
В эту ночь он ни разу не заворчал на нее и часа два лежал без всякого
движения. Потом Мэри услышала позвякивание - это связка ключей ударилась о
жестяную шкатулку, которую старик всегда держал возле себя на кровати.
Время близилось к трем, когда он сказал очень внятно:
- Поди сюда, девочка!
Мэри подошла к кровати и увидела, что старик уже сам извлек шкатулку
из-под одеяла, хотя обычно просил об этом ее, и выбрал из связки нужный
ключ. Он отпер шкатулку, вынул из нее другой ключ, поглядел на Мэри почти
прежним сверлящим взглядом и спросил:
- Сколько их в доме?
- Вы спрашиваете о ваших родственниках, сэр? - сказала Мэри, привыкшая
к его манере выражаться. Он чуть наклонил голову, и она продолжала: -
Мистер Иона Фезерстоун и мистер Крэнч ночуют здесь.
- А-а! Впились пиявки? А остальные? Небось каждый день являются -
Соломон, Джейн и все молокососы? Подглядывают, подсчитывают, прикидывают?
- Нет, каждый день бывают только мистер Соломон и миссис Уол. Но
остальные приезжают часто.
Старик слушал ее, скривившись в гримасе, но затем его лицо приняло
обычное выражение и он сказал:
- Ну и дураки. Ты слушай, девочка. Сейчас три часа ночи, и я в полном
уме и твердой памяти. Я знаю всю свою недвижимость, и куда деньги вложены,
и прочее. И я так устроил, чтобы напоследок мог все переменить и сделать
по своему желанию. Слышишь, девочка? Я в полном уме и твердой памяти.
- Так что же, сэр? - спокойно спросила Мэри.
Он с хитрым видом понизил голос до шепота:
- Я сделал два завещания и одно хочу сжечь. Слушай, что я тебе говорю.
Это вот ключ от железного сундука в алькове. Надави на край медной дощечки
на крышке. Она отодвинется, как засов, и откроется скважина замка. Отопри
сундук и вынь верхнюю бумагу, "Последняя воля и распоряжения" - крупные
такие буквы.
- Нет, сэр, - твердо сказала Мэри. - Этого я сделать не могу.
- Как так не можешь? Я же тебе велю. - Голос старика, не ожидавшего
возражений, задрожал.
- Ни к вашему железному сундуку, ни к вашему завещанию я не прикоснусь.
Ничего, что могло бы бросить на меня подозрение, я делать не стану.
- Говорю же тебе, я в здравом уме. Что ж, я под конец не могу сделать
по своему желанию? Я нарочно составил два завещания. Бери ключ, кому
сказано!
- Нет, сэр, не возьму, - еще решительнее ответила Мэри, возмущение
которой росло.
- Да говорят же тебе, времени остается мало.
- Это от меня не зависит, сэр. Но я не хочу, чтобы конец вашей жизни
замарал начало моей. Я не прикоснусь ни к вашему железному сундуку, ни к
вашему завещанию. - И она отошла от кровати.
Старик несколько мгновений растерянно смотрел на ключ, который держал
отдельно от связки, потом, дернувшись всем телом, начал костлявой левой
рукой извлекать из жестяной шкатулки ее содержимое.
- Девочка, - заговорил он торопливо. - Послушай! Возьми эти деньги...
банкноты, золото... Слушай же!.. Возьми, все возьми! Только сделай, как я
говорю.
Он с мучительным усилием протянул ей ключ, но Мэри попятилась.
- Я не прикоснусь ни к ключу, ни к вашим деньгам, сэр. Пожалуйста, не
просите меня больше. Или я должна буду позвать вашего брата.
Фезерстоун уронил руку, и впервые в жизни Мэри увидела, как Питер
Фезерстоун заплакал, точно ребенок. Она сказала уже мягче:
- Пожалуйста, уберите ваши деньги, сэр, - и опять села на свое место у
огня, надеясь, что ее отказ убедил его в бесполезности дальнейших просьб.
Через минуту старик встрепенулся и сказал настойчиво:
- Послушай. Тогда позови мальчика. Позови Фреда Винси.
Сердце Мэри забилось сильнее. В голове у нее вихрем закружились догадки
о том, к чему может привести сожжение второго завещания. Она должна была,
почти не размышляя, принять трудное решение.
- Я позову его, если вы разрешите позвать мистера Иону и остальных.
- Только его! Мальчика, и никого больше. Я сделаю по своему желанию.
- Подождите до утра, сэр, когда все проснутся. Или, хотите, я разбужу
Симмонса и пошлю его за нотариусом? Он будет здесь через два часа, а может
быть, и раньше.
- За нотариусом? Зачем мне нотариус? Никто не узнает... говорю же тебе,
никто не узнает. Я сделаю по своему желанию.
- Разрешите, сэр, я кого-нибудь позову, - сказала Мэри, стараясь его
убедить. Она боялась оставаться наедине со стариком, который находился во
власти странного нервного возбуждения и, говоря с ней, даже ни разу не
закашлялся, и ей не хотелось все время возражать ему, волнуя его еще
больше.
- Никого мне не надо, говорят же тебе. Послушай, девочка, возьми
деньги. Больше у тебя такого случая не будет. Тут почти двести фунтов, а в
шкатулке еще больше, и никто не знает, сколько там всего было. Возьми их и
сделай, что я сказал.
Красный отсвет огня в камине ложился на полусидящего в постели старика,
на подушки за его спиной, на ключ, зажатый в костлявых пальцах, на деньги
рядом с его рукой. Мэри до конца своих дней запомнила его таким -
человека, который, и умирая, хотел сделать все по своему желанию. Но
упрямая настойчивость, с какой он навязывал ей деньги, заставила ее
сказать еще тверже:
- Не надо, сэр. Я этого не сделаю. Уберите свои деньги, я к ним не
прикоснусь. Если я еще как-то могу помочь вам, только скажите, но ни к
вашим ключам, ни к вашим деньгам я не прикоснусь.
- Еще как-то, еще как-то! - повторил старик, захрипев от ярости. Голос
не слушался его, точно в кошмаре. Он пытался говорить громко, но только
шептал еле слышно. - Мне ничего другого не нужно. Подойди сюда. Да подойди
же.
Мэри приблизилась к нему осторожно, так как хорошо его знала. Он
выпустил ключи и попытался схватить трость, его лицо исказилось от усилия,
стало похожим на морду дряхлой гиены. Девушка остановилась на безопасном
расстоянии.
- Позвольте, я дам вам лекарство, - сказала она мягко. - И постарайтесь
успокоиться. Быть может, вы уснете. А утром сделаете по своему желанию.
Старик все-таки ухватил трость и попытался швырнуть ее в девушку, но
силы ему изменили и трость соскользнула с кровати на пол. Мэри не стала ее
поднимать и вернулась на свое место у камина, решив немного выждать, а
потом дать ему лекарство. Утомление укротит его. Приближался холодный час
рассвета, огонь в камине почти угас, и между неплотно сдвинутыми
занавесками виднелась полоска белесого света, пробивающегося сквозь
ставни. Мэри подложила поленьев в камин, накинула на плечи шаль и снова
села. Мистер Фезерстоун как будто задремал, и она опасалась подходить к
нему, чтобы не вызвать нового взрыва раздражения. После того как он бросил
трость, старик не промолвил ни слова, но она видела, что он снова взял
ключи и положил левую руку на деньги. Однако в шкатулку он их не убрал и,
по-видимому, уснул.
Но сама Мэри, обдумывая недавнюю сцену, пришла в гораздо большее
волнение, чем тогда, когда спорила со стариком; она уже не знала,
правильно ли поступила, отказавшись выполнить его желание, хотя в то
мгновение у нее никаких сомнений не было.
Вскоре сухие поленья вспыхнули ярким пламенем, озарившим все темные
углы, и Мэри увидела, что старик лежит спокойно, чуть повернув голову
набок. Она неслышным шагом подошла к нему и подумала, что его лицо
выглядит странно неподвижным, но в следующий миг пламя затанцевало, все
вокруг словно зашевелилось и Мэри подумала, что ошиблась. Ее сердце
стучало так сильно, что она не доверяла себе и осталась в нерешительности,
даже когда положила руку ему на лоб и прислушалась, дышит ли он. Подойдя к
окну, она осторожно отодвинула занавеску, открыла ставню, и на кровать
упал отблеск утреннего неба.
В следующее мгновение она бросилась к колокольчику и громко позвонила.
Сомнений больше быть не могло: Питер Фезерстоун лежал мертвый, правая его
рука сжимала ключи, а левая накрывала кучку банкнот и золотых монет.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ТРИ ЛЮБОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
34
_Первый джентльмен_:
Такие люди - пух, солома, щепки,
Ни веса в них, ни силы.
_Второй джентльмен_:
Легкость их
Свою имеет власть. Бессилье ведь
Есть сила, и движение вперед
Сокрыто в остановке. А корабль
Бывает в бурю выкинут на риф
Затем, что кормчий не сумел найти
Для сил противных равновесья...
Хотя Питера Фезерстоуна хоронили майским утром, май в прозаических
окрестностях Мидлмарча далеко не всегда бывает солнечным и теплым, и в это
утро холодный ветер сыпал на зеленеющие могилы лоуикского кладбища
цветочные лепестки сорванные в соседних садах. Солнечные лучи лишь изредка
прорывались сквозь тучи, озаряя какой-нибудь предмет, красивый или
безобразный, оказавшийся в пределах их золотого потока. На кладбище
предметы эти были весьма разнообразны, так как туда явилось поглазеть на
похороны немало местных жителей. По слухам, погребение ожидалось "пышное"
- поговаривали, что старик оставил подробные письменные распоряжения,
чтобы его похоронили, "как и знать не хоронят". Это соответствовало
истине. Старик Фезерстоун вовсе не походил на Гарпагона (*99), все страсти
которого были пожраны одной ненасытной страстью к накопительству и который
перед смертью, конечно, постарался бы выторговать у гробовщика скидку.
Фезерстоун любил деньги сами по себе, но с удовольствием тратил их на
удовлетворение своих чудаковатых прихотей, и пожалуй, больше всего он
ценил деньги за то, что они давали ему власть над людьми и возможность
доставлять этим людям неприятные минуты. Если кто-нибудь захочет тут
возразить, что не мог Фезерстоун быть вовсе лишен душевной доброты, я не
возьму на себя смелость отрицать это, но ведь душевная доброта по сути
своей скромна и даже робка, и когда в раннюю пору жизни ее бесцеремонно
оттирают в сторону наглые пороки, она обычно затворяется от мира, а потому
в нее легче верить тем, кто создает воображаемый образ старого эгоиста,
чем тем, кто более нетерпим в своих заключениях, опирающихся на личное
знакомство. Как бы то ни было, мистер Фезерстоун хотел, чтобы его
похоронили с большой помпой и чтобы в последний путь его провожали люди,
которые предпочли бы остаться дома. Он даже выразил желание, чтобы за
гробом обязательно следовали его родственницы, и бедная сестрица Марта
ради этого должна была, не считаясь с трудностями, приехать из Меловой
Долины. Она и сестрица Джейн, несомненно, воспряли бы духом (хотя и
скорбя), ибо такое распоряжение было знаком, что братец, не терпевший их
присутствия, пока был жив, потребовал его как завещатель, но, к большому
их огорчению, знак этот утратил определенность, поскольку распространялся
и на миссис Винси, которая не пожалела денег на черный креп, явно
свидетельствовавший о самых неуместных надеждах, тем более
предосудительных, что ее цветущий вид сразу выдавал принадлежность не к
семейному клану, но к пронырливому племени, именуемому родней жены.
Все мы в той или иной степени наделены воображением, ибо образы суть
порождение желаний, и бедняга Фезерстоун, постоянно потешавшийся над тем,
как другие поддаются самообману, тоже не избежал плена иллюзий. Составляя
программу своих похорон, он, несомненно, забывал, что его удовольствие от
спектакля, частью которого будут эти похороны, ограничивается
предвкушением. Посмеиваясь над тем, сколько досады, обид и раздражения
вызовет окостенелая хватка его мертвой руки, старик невольно приписывал
недвижному бесчувственному праху свое нынешнее сознание и, не заботясь о
жизни будущей, смаковал злорадное удовлетворение, которое рассчитывал
получить в гробу. Таким образом, старик Фезерстоун, бесспорно, обладал
своеобразным воображением.
Как бы то ни было, три траурные кареты заполнились в точном
соответствии с письменными указаниями покойного. Шарфы всадников,
сопровождавших гроб, и ленты на их шляпах были из самого дорогого крепа, и
даже знаки скорби на одежде помощников гробовщика отличались добротной
солидностью и обошлись в немалую сумму. Провожающие вышли из карет,
всадники спешились, и черная процессия, вступившая на маленькое кладбище,
выглядела очень внушительно, а насупленные лица людей и их черные одежды,
которые трепал ветер, казалось, принадлежали особому миру, странно
несовместимому с кружащимися в воздухе лепестками и солнечными бликами
среди маргариток. Священником, который встретил процессию, был мистер
Кэдуолледер - также выбор Питера Фезерстоуна, объяснявшийся характерными
для него соображениями. Он презирал младших священников - недомерков, как
он их называл, - и хотел, чтобы его хоронил священник, имеющий приход.
Мистер Кейсобон для этого не годился не только потому, что всегда
перекладывал подобные обязанности на мистера Такера, но и потому, что
Фезерстоун терпеть его не мог - как приходского священника, взимающего
дань с его земли в виде десятины, а также за утренние проповеди, которые
хорошо выспавшийся старик волей-неволей выслушивал, чинно сидя на своей
скамье и внутренне кипя. Он бесился, что его поучает поп, который глядит
на него сверху вниз. Отношения же его с мистером Кэдуолледером были совсем
иного рода: ручей с форелью протекал не только по земле мистера Кейсобона,
но и огибал фезерстоуновское поле, а потому мистер Кэдуолледер был попом,
который просил об одолжении, а не поучал с кафедры. Кроме того, он жил в
четырех милях от Лоуика и принадлежал к местной знати, пребывая таким
образом на одном небе с шерифом графства и другими высокопоставленными
лицами, которые по неисповедимым причинам необходимы для системы всего
сущего. Мысль, что служить по нему заупокойную службу будет мистер
Кэдуолледер, тешила старика еще и потому, что эту фамилию можно было при
желании переиначивать на всякие лады.
Честь, оказанная священнику приходов Типтон и Фрешит, привела к тому,
что в группе лиц, наблюдавших за похоронами Фезерстоуна из окна комнаты на
втором этаже Лоуик-Мэнора, находилась и миссис Кэдуолледер. Она не любила
бывать в этом доме, но, по ее словам, обожала коллекции редких животных,
вроде тех, которые соберутся на эти похороны, а потому уговорила сэра
Джеймса и молодую леди Четтем отвезти ее с мужем в Лоуик, чтобы этот визит
стал совсем уж приятным.
"Я поеду с вами, куда вы захотите, миссис Кэдуолледер, - ответила
Селия, - но я не люблю похорон".
"Ах, душечка, раз у вас в семье есть священнослужитель, вам следует
переменить вкусы. Я проделала это очень давно. Выходя замуж за Гемфри, я
твердо решила, что полюблю проповеди, и начала с того, что с удовольствием
слушала самый конец. Затем это чувство распространилось на середину и на
начало, так как без них не было бы и конца".
"О, разумеется", - величественно подтвердила вдовствующая леди Четтем.
Удобнее всего смотреть на похороны было из той комнаты на втором этаже,
в которой проводил время мистер Кейсобон, когда ему запретили работать.
Однако теперь он вопреки всем предостережениям и предписаниям уже почти
вернулся к привычному образу жизни и, вежливо поздоровавшись с миссис
Кэдуолледер, ускользнул в библиотеку, чтобы продолжать пережевывать жвачку
ученой ошибки, касавшейся Куша и Мицраима.
Если бы не гости, Доротея тоже затворилась бы в библиотеке и не увидела
бы похорон старика Фезерстоуна, которые, как ни далеки они казались от
всего строя ее жизни, впоследствии постоянно вставали перед ней, когда
что-то задевало некие чувствительные струны ее памяти, - точно так же, как
собор святого Петра в Риме был для нее неразрывно слит с ощущением уныния
и безнадежности. Сцены, связанные с важнейшими переменами в судьбе других
людей, составляют лишь фон нашей жизни, но, как поля и деревья в особом
освещении, они ассоциируются для нас с определенными моментами нашей
собственной истории и становятся частью того единства, в которое слагаются
самые яркие наши впечатления.
Такое приобщение чего-то чуждого и малопонятного к заветнейшим тайнам
души, невнятное, как сонное видение, словно отражало то ощущение
одиночества, на которое обрекала Доротею пылкость ее натуры.
Провинциальная знать былых времен обитала в разреженном социальном
воздухе: из уединенных приютов на горных вершинах они взирали на кишевшую
внизу жизнь близорукими глазами. Но Доротее было на этих высотах тоскливо
и холодно.
- Я не стану больше смотреть, - сказала Селия, когда процессия скрылась
в дверях церкви, и встала позади мужа, чтобы тайком касаться щекой его
плеча. - Возможно, это во вкусе Додо: ведь ей нравятся всякие печальные
вещи и безобразные люди.
- Мне нравится узнавать новое о людях, среди которых я живу, - ответила
Доротея, следившая за похоронами с интересом монахини, отправившейся
странствовать но белому свету. - Мне кажется, мы ничего не знаем о наших
соседях, кроме самых бедных арендаторов. А ведь невольно задумываешься над
тем, как живут другие люди и как они смотрят на мир. Я очень благодарна
миссис Кэдуолледер за то, что она приехала к нам и позвала меня сюда из
библиотеки.
- И есть за что! - отозвалась миссис Кэдуолледер. - Ваши богатые
лоуикские фермеры занятны не меньше всяких буйволов и бизонов, а ведь в
церкви, полагаю, вам их приходится видеть не так уж часто. Они совсем не
похожи на арендаторов вашего дяди или сэра Джеймса: настоящие чудища -
фермеры, которые владеют собственной землей. Даже непонятно, к какому
сословию их относить.
- Ну, в этой процессии лоуикских фермеров не так уж много, - заметил
сэр Джеймс. - По-моему, это наследники из Мидлмарча и всяких отдаленных
мест. Лавгуд говорил, что старик оставил не только землю, но и порядочный
капитал.
- Только подумать! А младшие сыновья хороших фамилий иной раз не могут
даже пообедать на собственный счет! - воскликнула миссис Кэдуолледер. - А!
- произнесла она, оборачиваясь на скрип двери. - Вот и мистер Брук! Меня
все время мучило ощущение, что тут кого-то не хватает, и вот объяснение.
Вы, разумеется, приехали посмотреть эти странные похороны?
- Нет, я приехал взглянуть на Кейсобона, посмотреть, как он себя
чувствует, знаете ли. И сообщить одну новость, да, новость, милочка, -
объявил мистер Брук, кивая Доротее, которая подошла поздороваться с ним. -
Я заглянул в библиотеку и увидел, что Кейсобон сидит над книгами. Я сказал
ему, что так не годится, я сказал ему: "Так не годится, знаете ли.
Подумайте о своей жене, Кейсобон". И он обещал подняться сюда. Я не
сообщил ему мою новость. Я сказал, чтобы он поднялся сюда.
- А, они выходят из церкви! - вскричала миссис Кэдуолледер. - До чего
же удивительная смесь! Мистер Лидгейт... как врач, я полагаю. Какая
красивая женщина! А этот белокурый молодой человек, наверное, ее сын. Вы
не знаете, сэр Джеймс, кто они?
- Рядом с ними идет Винси, мидлмарчский мэр. По-видимому, это его жена
и сын, - ответил сэр Джеймс, бросая вопросительный взгляд на мистера
Брука. Тот кивнул и сказал:
- Да, и очень достойная семья. Винси - превосходный человек и
образцовый фабрикант. Вы встречали его у меня, знаете ли.
- Ах да! Член вашего тайного кабинета, - поддразнила его миссис
Кэдуолледер.
- Любитель скачек! - заметил сэр Джеймс с пренебрежением любителя
лисьей травли.
- И один из тех, кто отнимает последний кусок хлеба у несчастных ткачей
в Типтоне и Фрешите (*100). Вот почему у его семейства такой сытый и
ухоженный вид, - сказала миссис Кэдуолледер. - Эти темноволосые люди с
сизыми лицами служат им отличным фоном. Ну, просто набор кувшинов! А
Гемфри! В белом облачении он выглядит среди них настоящим архангелом, хотя
и не блещет красотой.
- А все-таки похороны - торжественная штука, - сказал мистер Брук. -
Если взглянуть на них в таком свете, знаете ли.
- Но я на них в таком свете не гляжу. Я не могу все время благоговеть,
не то мое благоговение скоро истреплется. Старику была самая пора умереть,
и никто из них там никакого горя не испытывает.
- Как это ужасно! - воскликнула Доротея. - Ничего более унылого, чем
эти похороны, мне видеть не доводилось. Из-за них утро словно померкло.
Страшно подумать, что кто-то умер и ни одно любящее сердце о нем не
тоскует.
Она собиралась сказать еще что-то, но тут вошел ее муж и сел в
некотором отдалении от остальных. В его присутствии ей было трудно
говорить. Нередко у нее возникало ощущение, что он внутренне не одобряет
ее слова.
- А вот кто-то совсем новый! - объявила миссис Кэдуолледер. - Вон
позади того толстяка. И пожалуй, самый забавный: приплюснутый лоб и
выпученные глаза. Ну настоящая лягушка! Да посмотрите же! Наверное, он
другой крови, чем они все.
- Дайте я погляжу! - сказала Селия, с любопытством наклоняясь через
плечо миссис Кэдуолледер. - Какая странная физиономия! - И внезапно с
удивлением, но уже совсем другим тоном, она добавила: - А ты мне не
говорила, Додо, что приехал мистер Ладислав!
Сердце Доротеи тревожно сжалось. Она тотчас повернулась к дяде, и все
заметили, как она побледнела. Мистер Кейсобон не спускал с нее глаз.
- Он приехал со мной, знаете ли. Как мой гость - он гостит у меня в
Типтон-Грейндже, - объяснил мистер Брук самым непринужденным тоном и
кивнул Доротее, словно она была обо всем осведомлена заранее. - И мы
привезли картину, привязали ее к верху кареты. Я знал, что вы будете
довольны моим сюрпризом, Кейсобон. И он совсем как живой, то есть я имею в
виду Фому Аквинского. Очень, очень мило. Вам надо послушать, как говорит о
картине Ладислав. Он прекрасно говорит, указывает на то и на это... Весьма
осведомлен в искусстве, ну и так далее. И превосходный собеседник: может
поддержать разговор о чем угодно. Мне давно требовалось что-нибудь такое,
знаете ли.
Мистер Кейсобон поклонился с холодной учтивостью. Он справился со своим
раздражением, но настолько лишь, чтобы промолчать. Он, как и Доротея,
прекрасно помнил о письме Уилла и, не обнаружив его среди писем, которые
разбирал после своего выздоровления, заключил про себя, что Доротея
известила Уилла, чтобы он не приезжал в Лоуик, а болезненная гордость не
позволила ему вновь коснуться этой темы. Теперь он решил, что она
попросила дядю пригласить Уилла в Типтон-Грейндж. Доротея догадывалась о
его мыслях, но сейчас было не время для объяснений.
Миссис Кэдуолледер оторвалась от созерцания кладбища и, увидев не
вполне понятную ей немую картину, не удержалась от вопроса:
- А кто такой этот мистер Ладислав?
- Молодой родственник мистера Кейсобона, - тотчас ответил сэр Джеймс.
Сердечная доброта делала его чутким: он заметил взгляд, который Доротея
бросила на мужа, и понял, что она встревожена.
- Очень приятный молодой человек, и всем обязан Кейсобону, - объяснил
мистер Брук. - И вполне оправдывает ваши затраты на него, Кейсобон, -
продолжал он, одобрительно кивая. - Надеюсь, он погостит у меня подольше и
мы разберем мои документы. У меня есть множество идей и фактов, знаете ли,
а он как раз такой человек, который может придать им надлежащую форму...
Умеет подобрать подходящую цитату - omne tulit punctum [снискал всеобщее
одобрение (лат.)], ну и так далее - и придает предмету особый поворот. Я
пригласил его некоторое время тому назад. Когда вы хворали, Кейсобон,
Доротея сказала, что вы никого не можете принять у себя, и попросила меня
написать.
Бедняжка Доротея чувствовала, что каждое слово ее дяди доставляло
мистеру Кейсобону такое же удовольствие, как соринка в глазу. Теперь было
уже совсем невозможно сказать, что она вовсе не желала, чтобы мистер Брук
посылал приглашение Уиллу Ладиславу. Она не понимала причин неприязни
своего мужа к молодому родственнику - неприязни, в которой ее так жестоко
убедила сцена в библиотеке, но не считала возможным хотя бы косвенно
посвящать в это посторонних. По правде говоря, сам мистер Кейсобон не
вполне отдавал себе отчет в этих причинах - он испытывал раздражение и,
подобно всем нам, склонен был искать ему оправдания, вместо того чтобы
разбираться в своих побуждениях. Но он не хотел выдавать себя, и только
Доротея уловила, что он несколько переменился в лице, когда произнес с еще
большим достоинством и напевностью, чем обычно:
- Вы чрезвычайно гостеприимны, любезный сэр. И я весьма вам обязан за
то, что вы приняли у себя моего родственника.
Похороны кончились, и кладбище уже почти опустело.
- Вон он, миссис Кэдуолледер, - сказала Селия. - И как две капли воды
похож на миниатюру тетки мистера Кейсобона в будуаре Доротеи. У него очень
приятное лицо.
- Да, смазливый мальчик, - сухо произнесла миссис Кэдуолледер. - Чем
занимается ваш племянник?
- Прошу прощения, он мне не племянник. Родство между нами довольно
дальнее.
- Он, знаете ли, еще пробует свои крылья, - вмешался мистер Брук. -
Такие молодые люди взлетают очень высоко. И я буду рад ему содействовать.
Он может быть прекрасным секретарем - как Гоббс (*101), Мильтон или Свифт,
знаете ли.
- А, понимаю, - сказала миссис Кэдуолледер. - Такой, который умеет
писать речи.
- Так я позову его, э, Кейсобон? - спросил мистер Брук. - Он не хотел
входить, пока я не сообщу о его приезде, знаете ли. И мы все спустимся
взглянуть на картину. Вы на ней совсем как живой - глубокий тонкий
мыслитель, и указательный палец упирается в книгу, а святой Бонавентура
или какой-то еще святой, довольно толстый и цветущий, смотрит вверх на
Троицу. И все это символы, знаете ли - очень высокая форма искусства. Мне
она нравится - до определенного предела, конечно: ведь все время за ней
поспевать - это, знаете ли, утомительно. Но вы-то, Кейсобон, в таких вещах
как у себя дома. И ваш художник отлично пишет тело - весомость,
прозрачность, ну и так далее. Одно время я серьезно этим занимался.
Впрочем, я схожу за Ладиславом.
35
О, что за зрелище: наследников толпа
В слезах и в трауре, на лицах всех страданье,
Пока нотариус вскрывает завещанье
(Ну что? - у всех в глазах застыл немой вопрос),
В котором им мертвец натягивает нос.
Чтоб только посмотреть картину скорби эту;
Я, кажется, готов с того вернуться свету.
Реньяр (*102), "Единственный наследник"
Когда животные парами вступали в ковчег, родственные виды, надо
полагать, отпускали по адресу друг друга всяческие замечания "в сторону" и
были склонны думать, что вполне можно было бы обойтись без такого
множества претендентов на одни и те же запасы корма, поскольку это
урезывает порцию наиболее достойных. (Боюсь, что роль, которая тогда
выпала на долю стервятников, слишком неприглядна, чтобы воспроизводить ее
средствами искусства: ведь их жадные зобы ничем, к их несчастью, не
прикрыты, а сами они, по-видимому, не придерживаются никаких обрядов и
церемоний.)
Подобному же искушению подверглись и христианские хищники, которые
провожали гроб Питера Фезерстоуна, - все их мысли были сосредоточены на
одних и тех же запасах житейских благ, и каждый жаждал получить наибольшую
их долю. Давно известные кровные родственники, а также родственники обеих
жен покойного уже составляли вполне солидное число, которое, умноженное на
всяческие другие возможности, открывало самое широкое поле для завистливых
расчетов и безнадежного отчаяния. Зависть к Винси объединила узами общей
вражды всех, в чьих жилах текла фезерстоуновская кровь: поскольку не
имелось никаких признаков, что кто-то из них получит больше остальных, их
сплачивал общий страх, как бы земля не досталась длинноногому Фреду Винси,
но страх этот, впрочем, оставлял достаточно места для более смутных
опасений, связанных, например, с Мэри Гарт. Соломон нашел время
поразмыслить о том, что Иона не достоин стать наследником, а Иона мысленно
хулил алчность Соломона. Джейн, старшая сестра, полагала, что детям Марты
не к лицу рассчитывать на равную долю с молодыми Уолами, а Марта, не столь
свято чтившая права первородства, огорчалась про себя, что Джейн такая
"загребущая". Все эти ближайшие родственники, естественно, негодовали на
необоснованные претензии всяких там двоюродных и троюродных и прикидывали,
в какой огромный итог сложатся мелкие суммы, если их будет завещано
слишком много. А зачтения завещания вместе с ними ожидали два двоюродных
брата и один троюродный (не считая мистера Трамбула). Этот троюродный брат
был мидлмарчским галантерейщиком с учтивыми манерами и простонародным
выговором. Двоюродные братья оба проживали в Брассинге - один из них
считал, что имеет определенные права, ввиду устриц и других
гастрономических подарков, преподнесенных в ущерб себе богатому кузену
Питеру, а другой, с мрачной миной уперший подбородок в руки, сложенные на
набалдашнике трости, полагался не на прежние корыстные услуги, но на
признание общих своих достоинств. Оба эти беспорочные обитателя Брассинга
от души жалели, что там проживает Иона Фезерстоун: семейные острословы
обычно встречают больше радушия у чужих людей.
- Ну, Трамбул не сомневается, что получит пять сотен фунтов, можете мне
поверить. Не удивлюсь даже, если мой братец их прямо ему обещал, - заметил
Соломон, беседуя с сестрами вечером накануне похорон.
- Ох-хо-хо! - вздохнула неимущая сестрица Марта, представление которой
о сотнях, как правило, не шло дальше просроченной арендной платы.
Однако утром все прошлые расчеты и предположения нарушил неизвестный в
траурной одежде, который появился среди них неведомо откуда. Именно его
миссис Кэдуолледер уподобила лягушке. Это был человек лет тридцати двух -
тридцати трех. Выпученные глаза, изогнутые книзу тонкие губы, скошенный
лоб и гладко прилизанные волосы действительно придавали его лицу
неподвижное лягушачье выражение. Конечно, еще один наследник, а то почему
бы его пригласили на похороны? И сразу возникли новые возможности, новые
неясности, и в траурных каретах воцарилось почти полное молчание. Всех нас
расстраивает внезапное открытие факта, который существовал давным-давно и,
быть может, прямо-таки бросался в глаза, а мы тем временем устраивали свой
мирок в полном о нем неведении. Никто, кроме Мэри Гарт, прежде не видел
этого сомнительного незнакомца, да и она знала о нем только, что он дважды
приезжал в Стоун-Корт, пока мистер Фезерстоун еще был на ногах, и провел
несколько часов наедине со стариком. Она выбрала минуту сказать об этом
отцу, и пожалуй, только Кэлеб (если не считать нотариуса) посматривал на
незнакомца с любопытством, а не со злобой или подозрением. Кэлеб Гарт,
которого не терзали ни надежды, ни алчность, интересовался лишь тем,
насколько правильными окажутся его догадки, и спокойствие, с каким он
внимательно разглядывал этого неизвестного человека и потирал подбородок,
словно определяя ценность дерева, приятно контрастировало с тревогой и
желчностью, появившимися на многих лицах, едва таинственный незнакомец,
чья фамилия, как выяснилось, была Ригг, вошел в большую гостиную и
опустился на стул у двери, чтобы вместе с остальными присутствовать при
оглашении завещания. Мистер Соломон и мистер Иона как раз отправились с
нотариусом в спальню на поиски этого документа, и миссис Уол, заметив, что
два стула между ней и мистером Бортропом Трамбулом освободились, смело
воспользовалась случаем подсесть к признанному авторитету, который
поигрывал печатками и обводил пальцем контуры своего лица, дабы случайно
не выдать удивления или недоумения, не подобающего осведомленному
человеку.
- Уж, наверное, мистер Трамбул, вам известны все распоряжения покойного
братца, - произнесла миссис Уол самым глухим своим голосом, наклонив
отороченный крепом чепец к уху аукционщика.
- Дражайшая дама, все, что могло быть мне сказано, было сказано
конфиденциально, - заметил мистер Трамбул, прикладывая ладонь ко рту, дабы
еще надежнее спрятать этот секрет.
- Те, кто сейчас потирает руки, еще могут остаться ни с чем, -
продолжала миссис Уол, пользуясь случаем облегчить душу.
- Надежды нередко бывают обманчивы, - заметил мистер Трамбул все еще
под защитой ладони.
- А-а! - произнесла миссис Уол, поглядев в ту сторону, где сидели
Винси, и вернулась на свой стул рядом с сестрицей Мартой.
- Только диву даешься, до чего бедный Питер был скрытен, - заметила она
все тем же глухим шепотом. - Ведь никто из нас понятия не имеет, что у
него было на уме. Я только на то уповаю, Марта, что он не был хуже, чем мы
думаем.
Бедная миссис Крэнч была дородна и дышала астматически, отчего вдвойне
старалась придавать своим словам неопределенность и расплывчатость, - даже
ее шепот был громким, а время от времени становился пронзительным, как это
случается с расстроенными шарманками.
- Я, Джейн, никогда завистливой не была, - ответила она, - но у меня
шестеро детей, да еще трех я схоронила, а замуж я не за богача вышла.
Моему старшему, что тут сидит, только девятнадцать сравнялось - вот сама
посуди. А скотины маловато, и земля не родит. Но если я когда плакалась
кому или просила у кого, так у одного у бога всемогущего. А только когда у
тебя один брат холостой, а другой бездетный, пусть и дважды женатый... так
всякий мог бы надеяться.
Тем временем мистер Винси, поглядев на невозмутимую физиономию мистера
Ригга, достал было табакерку и постучал по ней, однако не открыл и снова
опустил в карман, словно в последнюю минуту спохватился, что удовольствие
это, как ни проясняет мысли хорошая понюшка, все же не соответствует
случаю.
- Не удивлюсь, если окажется, что все мы были несправедливы к
Фезерстоуну, - сказал он на ухо жене. - Эти похороны свидетельствуют, что
он о каждом вспомнил: похвально, когда человек хочет, чтобы его в
последний путь проводили друзья, и не стыдится тех, чей жребий скромен. Я
буду только рад, если он отказал понемногу многим. Небольшая сумма может
очень выручить человека, если он ее не ждет.
- Все в самом лучшем вкусе - и креп, и шелк, и все прочее, - благодушно
отозвалась миссис Винси.
Но приходится с сожалением сказать, что Фред лишь с трудом удерживался
от смеха, который был бы еще более неуместен, чем табакерка его отца. Он
случайно услышал, как мистер Иона, взглянув на незнакомца, пробормотал:
"Дитя любви", и теперь, стоило ему взглянуть на физиономию мистера Ригга,
сидевшего прямо напротив, его начинал разбирать смех. Мэри Гарт заметила,
как подрагивают уголки его рта, как он покашливает, догадалась, что с ним
происходит, и поспешила на выручку, попросив уступить ей стул и таким
образом водворив его в полутемный угол. Фред был полон самых дружеских
чувств ко всему миру, включая Ригга. Испытывая теперь к собравшимся лишь
снисходительную жалость, потому что их обошла стороной удача, по его
мнению, улыбнувшаяся ему, он всеми силами старался соблюдать
благопристойность. Но ведь когда на душе легко, так и хочется смеяться.
Тут вернулся нотариус с братьями покойного, и все глаза устремились на
них.
Нотариус, известный нам мистер Стэндиш, приехал утром в Стоун-Корт в
полном убеждении, что ему хорошо известно, кто будет в этот день
обрадован, а кто разочарован. Завещание, которое ему, как он полагал,
предстояло огласить, было третьим из тех, что он в свое время составил для
мистера Фезерстоуна. Мистер Стэндиш по обыкновению держался со всеми
одинаково - учтиво, но непринужденно, словно для него все собравшиеся тут
были равны, и его бас сохранял неизменную любезность, хотя придерживался
он главным образом таких тем, как травы ("отличное будет сено, черт
побери!"), последние бюллетени о здоровье короля и герцог Кларенс (*103) -
настоящий моряк, словно созданный управлять таким островом, как Британия.
Старик Фезерстоун, размышляя у камина, нередко представлял себе, как
удивится Стэндиш. Правда, если бы в последний час он сделал по своему
желанию и сжег завещание, составленное другим нотариусом, он не достиг бы
этой второстепенной цели. Тем не менее он успел сполна насладиться
предвкушением. И действительно, мистер Стэндиш удивился, но не
почувствовал никакого огорчения - наоборот, если прежде он просто смаковал
сюрприз, который ожидал Фезерстоунов, то обнаруженное новое завещание
пробудило в нем к тому же и живейшее любопытство.
Соломон и Иона пока воздерживались от каких-либо чувств: оба полагали,
что прежнее завещание должно обладать определенной силой, и если между
первоначальными и заключительными распоряжениями бедного Питера могут
возникнуть противоречия, начнутся бесконечные тяжбы, мешая кому бы то ни
было вступить в права наследства, - однако это неприятное обстоятельство
уравнивало всех. Вот почему братья, войдя вслед за мистером Стэндишем в
гостиную, хранили на лицах только выражение ни о чем не говорящей скорби.
Впрочем, Соломон вновь достал белоснежный носовой платок, полагая, что
завещание в любом случае будет содержать немало трогательного, а глаза на
похоронах, пусть и совершенно сухие, принято утирать батистом.
Пожалуй, самое жгучее волнение испытывала в эту минуту Мэри Гарт,
сознававшая, что второе завещание, которое могло решающим образом повлиять
на жизнь кого-то из присутствующих, оказалось в руках нотариуса только
благодаря ей. Но о том, что произошло в ту последнюю ночь, знала она одна.
- Завещание, которое я держу в руках, - объявил мистер Стэндиш,
который, усевшись за столик посреди комнаты, нисколько не спешил начать и
даже откашлялся весьма неторопливо, - это завещание было составлено мною и
подписано нашим покойным другом девятого августа одна тысяча восемьсот
двадцать пятого года. Но оказалось, что существует другой документ, прежде
мне неизвестный, который датирован двадцатым июля одна тысяча восемьсот
двадцать шестого года, то есть он был составлен менее чем через год после
предыдущего. Далее, как я вижу... - мистер Стэндиш вперил в завещание
внимательный взгляд через очки, - тут имеется добавление, датированное
первым марта одна тысяча восемьсот двадцать восьмого года.
- Ох-хо-хо! - невольно вздохнула сестрица Марта, не выдержав этого
потока дат.
- Я начну с оглашения более раннего завещания, - продолжал мистер
Стэндиш, - ибо, по-видимому, таково было желание усопшего, поскольку он
его не уничтожил.
Это вступление показалось присутствующим невыносимо долгим, и не только
Соломон, но еще несколько человек печально покачивали головами, уставясь в
пол. Все избегали смотреть друг на друга и пристально разглядывали узор
скатерти или лысину мистера Стэндиша. Только Мэри Гарт, заметив, что на
нее никто не смотрит, позволила себе тихонько наблюдать за окружающими. И
едва прозвучало первое "завещаю и отказываю", она увидела, что по всем
лицам словно пробежала легкая рябь. Один лишь мистер Ригг сохранил прежнюю
невозмутимость. Впрочем, остальным теперь было не до него: они взвешивали,
рассчитывали и ловили каждое слово распоряжений, которые, быть может,
отменялись в следующем завещании. Фред покраснел, а мистер Винси, не
совладав с собой, вытащил табакерку, хотя и не стал ее открывать.
Вначале перечислялись мелкие суммы, и даже мысль о том, что имеется
другое завещание и бедный Питер, возможно, опомнился, не могла угасить
нарастающего негодования и возмущения. Каждому человеку хочется, чтобы ему
воздавалось должное в любом времени - прошедшем, настоящем и будущем. А
Питер пять лет назад не постыдился оставить всего по двести фунтов своим
родным братьям и сестрам, лишь по сто фунтов своим родным племянникам и
племянницам. Гарты упомянуты не были вовсе, но миссис Винси и Розамонда
получали по сто фунтов каждая. Мистеру Трамбулу была завещана трость с
золотым набалдашником и пятьдесят фунтов; второй троюродный брат и оба
двоюродных получали каждый такую же внушительную сумму - наследство, как
выразился мрачный двоюродный брат, с которым не поймешь что и делать.
Далее следовали подобные же оскорбительные крохи, брошенные лицам, здесь
не присутствовавшим, никому не известным и едва ли не принадлежащим к
низшим сословиям. Многие тотчас подсчитали, что всего таким образом было
завещано около трех тысяч фунтов. Так как же Питер распорядился остальными
деньгами? И землей? Что отменит последнее завещание, а что не отменит? К
лучшему или к худшему? Ведь все чувства, испытываемые теперь, были, так
сказать, черновыми и могли оказаться совершенно напрасными. У мужчин
хватило сил сохранять внешнее спокойствие, как ни томительна была
неизвестность, - одни оттопыривали губы, другие поджимали их, смотря по
тому, что было привычнее. Но Джейн и Марта, не выдержав вихря
предположений, расплакались - бедная миссис Крэнч несколько утешилась
мыслью о сотнях фунтов, которые без всякого труда предстояло получить ей и
ее детям, хотя и мучилась оттого, что их могло быть и больше, тогда как
миссис Уол чувствовала одно: ей, кровной сестре, досталось так мало, а
кому-то предстоит получить так много! Почти все присутствующие уже не
сомневались, что "много" достанется Фреду Винси, но сами Винси удивились,
когда ему было отказано десять тысяч фунтов, размещенных так-то и так-то.
Ну, а земля?.. Фред кусал губы, с трудом сдерживая улыбку. А миссис Винси
чувствовала себя на седьмом небе: мысль о том, что завещатель мог изменить
свою волю, утонула в розовом сиянии.
Кроме земли, оставались еще деньги и другое имущество, но все это
целиком было завещано одному человеку, и человеком этим оказался... О,
неисчислимые возможности! О, расчеты, опиравшиеся на "благоволение"
скрытного старика! О, бесконечные восклицания, которым все же не под силу
передать всю степень человеческого безумия!.. Человеком этим оказался
Джошуа Ригг, назначавшийся также единственным душеприказчиком и
принимавший отныне фамилию Фезерстоун.
По комнате, словно судорожная дрожь, пробежал шорох. Все вновь
уставились на мистера Ригга, который как будто совершенно не был удивлен.
- Поистине странные завещательные распоряжения! - воскликнул мистер
Трамбул, против обыкновения предпочитая, чтобы его сочли неосведомленным.
- Однако есть второе завещание, отменяющее первое. Пока еще мы не знаем
последней воли покойного.
Но то, что им предстояло услышать, подумала Мэри Гарт, вовсе не было
последней волей старика. Второе завещание отменяло все распоряжения
первого за исключением тех, которые касались мелких сумм, оставленных
упомянутым выше лицам низших сословий (кое-какие изменения тут
перечислялись в добавлении), а также статей, по которым вся земля в
пределах Лоуикского прихода со всем движимым и недвижимым имуществом
отходила Джошуа Риггу. Прочее имущество завещалось на постройку и
содержание богадельни для стариков, которую надлежало назвать
Фезерстоуновской богадельней и воздвигнуть на участке земли неподалеку от
Мидлмарча, приобретенном для этой цели завещателем, "дабы (как говорилось
в документе) угодить Всевышнему Богу". Никто из присутствующих не получил
ни фартинга, хотя мистеру Трамбулу была-таки отказана трость с золотым
набалдашником. Прошло несколько мгновений, прежде чем общество вновь
обрело дар речи. Мэри не решалась поглядеть на Фреда.
Первым заговорил мистер Винси - после энергичной понюшки, - и заговорил
он громким негодующим голосом:
- О таком вздорном завещании мне еще слышать не приходилось! Мне
кажется, он составил его в помрачении ума. Мне кажется, это последнее
завещание недействительно, - закончил мистер Винси, чувствуя, что ставит
все на свои места. - Как по-вашему, Стэндиш?
- По моему мнению, наш покойный друг всегда отдавал себе отчет в своих
действиях, - сказал мистер Стэндиш. - Все формальности соблюдены. К
завещанию приложено письмо Клемменса. Весьма уважаемого нотариуса в
Брассинге.
- Я ни разу не замечал никакого расстройства рассудка, никакого
ослабления умственных способностей у покойного мистера Фезерстоуна, -
объявил Бортроп Трамбул, - но завещание это я назвал бы эксцентричным. Я
всегда с охотой оказывал услуги старичку, и он ясно давал понять, что
считает себя обязанным мне и выразит это в завещании. Трость с золотым
набалдашником - это насмешка, если видеть в ней выражение признательности,
но, к счастью, я стою выше корыстных соображений.
- На мой взгляд, ничего удивительного в этом завещании нет, - заметил
Кэлеб Гарт. - Куда удивительнее было бы, если бы оно оказалось таким,
какого можно ожидать от прямодушного и справедливого человека. Но я вообще
против завещаний.
- Странные слова в устах христианина, черт побери! - сказал нотариус. -
Какими же доводами можете вы их подкрепить, Гарт?
- Да что здесь говорить... - пробормотал Кэлеб, аккуратно складывая
кончики пальцев и наклоняясь вперед, чтобы удобнее было рассматривать пол.
Ему всегда казалось, что объяснения - самая трудная сторона "дела".
Тут раздался голос мистера Ионы Фезерстоуна:
- Он всегда был на редкость лицемерен, мой братец Питер. Но уж тут он
показал себя во всей красе. Знай я, так меня бы и силком из Брассинга не
вытащили. Завтра же надену белую шляпу и коричневый сюртук.
- Ох-хо-хо! - всхлипнула миссис Крэнч. - А мы так на дорогу
потратились, и мой бедный сынок столько времени просидел сложа руки. В
первый раз слышу, чтобы братец Питер думал о том, как бы угодить богу. Но
пусть у меня язык отнимется, а все-таки это жестоко... По-другому и не
скажешь.
- Это ему отзовется там, где он теперь, вот что я думаю, - сказал
Соломон с горечью, которая была поразительно искренней, хотя его голос
сохранял обычную вкрадчивость. - Питер вел дурную жизнь, и богадельнями ее
не прикрыть, после того как у него хватило бесстыдства напоследок
выставить ее всем напоказ.
- И все-то это время у него была собственная кровная родня, братья,
сестры, племянники и племянницы. И он с ними рядом в церкви сидел, когда
выбирал время сходить в церковь, - заявила миссис Уол. - И мог
собственность свою им завещать, как у хороших людей водится, тем, кто
мотать не привык и во всем себя соблюдает; да и сами не нищие и каждый
пенни сохранили бы и приумножили. И я-то, я-то... подумать только, сколько
раз я сюда приезжала по-сестрински, а он уже тогда замыслил такое, что и
подумать страшно. Но если всемогущий допустил это, так для того только,
чтобы покарать его. Братец Соломон, я бы поехала, если вы меня подвезете.
- Ноги моей здесь больше не будет, - сказал Соломон. - У меня у самого
есть что завещать - и земля и другое имущество.
- Вот так оно в мире и заведено: ни удачи по заслугам, ни
справедливости! - воскликнул Иона. - А уж если есть в тебе настоящая
закваска, так и вовсе беда. Куда лучше быть собакой на сене. Но тем, кто
еще по земле ходит, следовало бы из этого извлечь урок. Одной дурацкой
духовной в семье с избытком хватит.
- Ну, свалять дурака можно по-разному, - заметил Соломон. - Я своими
деньгами распоряжусь как следует, на ветер их не выброшу и найденышам
африканским не оставлю. По мне, Фезерстоуны - это те, кто так
Фезерстоунами и родились, а не нацепили на себя фамилию, точно ярлык.
Соломон адресовал эти громогласные "реплики в сторону" миссис Уол,
направляясь вслед за ней к дверям. По мнению братца Ионы, сам он сумел бы
отпустить шуточку куда язвительнее, но прежде чем оскорблять нового
хозяина Стоун-Корта, следовало убедиться, что он не намерен привечать у
себя остроумцев, фамилию которых собирается принять.
Впрочем, мистер Джошуа Ригг, казалось, пропустил все намеки и шпильки
мимо ушей, хотя весь как-то переменился. Он невозмутимо подошел к мистеру
Стэндишу и с той же невозмутимостью начал задавать нотариусу деловые
вопросы. У него оказался высокий чирикающий голос и невозможно
простонародный выговор. Фред, у которого он больше не вызывал смеха,
подумал, что никогда еще не видел такого мерзкого плебея. На душе у Фреда
скребли кошки. Мидлмарчский галантерейщик выжидал случая завести разговор
с мистером Риггом: как знать, скольким парам ног покупает чулки новый
владелец Стоун-Корта, а прибыль - вещь куда более надежная, чем любое
наследство. К тому же галантерейщик, как троюродный брат, был достаточно
беспристрастен и испытывал только обыкновенное любопытство.
Мистер Винси после своей вспышки хранил гордое молчание, но был так
расстроен, что продолжал сидеть, поглощенный мрачными мыслями, пока вдруг
не заметил, что его жена отошла к Фреду и тихо плачет, сжимая руку своего
любимца. Он тотчас поднялся и, повернувшись спиной к остальному обществу,
сказал ей вполголоса:
- Крепись, Люси. Не позорь себя перед этими людьми, душа моя.
Затем произнес обычным громким голосом:
- Фред, поди распорядись, чтобы подали фаэтон. У меня нет лишнего
времени.
Мэри Гарт заранее уложила свои вещи, чтобы вернуться домой вместе с
отцом. Они с Фредом встретились в передней, и только теперь Мэри собралась
с духом и посмотрела на него. Его лицо покрывала та землистая бледность,
которая порой старит юные лица, а рука, которой он пожал ее руку, была
холодна, как лед. Мэри тоже мучилась: она сознавала, что роковым образом,
хотя и не по своей воле, изменила всю судьбу Фреда.
- До свидания, Фред, - сказала она с грустной нежностью. - Будьте
мужественным. Я верю, что эти деньги не принесли бы вам ничего хорошего.
Какая польза была от них мистеру Фезерстоуну?
- Все это прекрасно, - с сердцем сказал Фред. - А я-то в каком
положении? Теперь уж мне придется стать священником! (Он знал, что его
слова заденут Мэри - ну и очень хорошо! Пусть скажет, что еще ему
остается!) И ведь я думал, что сразу отдам долг вашему отцу и все
поправлю. А вам он даже ста фунтов не оставил. Что вы теперь будете
делать, Мэри?
- Постараюсь поскорее найти другое место, что же еще? Отцу и без меня
хватает кого содержать. Ну, до свидания.
Очень скоро в Стоун-Корте не осталось ни одного прирожденного
Фезерстоуна и никого из обычных гостей. В окрестностях Мидлмарча появился
еще один чужой человек, но на этот раз главное неудовольствие вызывали
непосредственные следствия появления здесь мистера Ригга Фезерстоуна, а не
возможные плоды, которые могло принести оно в будущем. Не нашлось ни одной
пророческой души, которая провидела бы то, что могло бы открыться на суде
над Джошуа Риггом.
И тут мне приходится поразмыслить над средствами, которыми можно
возвысить низкую тему. Особенно полезны тут исторические параллели. Однако
против них есть свои возражения: добросовестному повествователю может не
хватить места или же (что, в сущности, то же самое) он не сумеет подобрать
достаточно уместные примеры, хотя и сохранит философское убеждение, что
они очень многое осветили бы, если бы их удалось отыскать. Гораздо легче и
достойнее указать - поскольку всякую истинную историю можно изложить в
виде аллегории, заменив мартышку на маркграфа и наоборот, - что все
рассказанное (и пока еще не рассказанное) здесь о людях низкого
происхождения можно облагородить, признав это аллегорией, так, чтобы
читатель мог спокойно считать дурные привычки и их скверные последствия
всего лишь фигурально неблагородными и ощущать себя в обществе знатных
людей. Таким образом, пока я рассказываю правду о деревенских увальнях,
моему читателю совершенно не обязательно изгонять лордов из своих мыслей,
а ничтожные суммы, недостойные внимания высокопоставленных банкротов,
можно возвести до уровня крупных коммерческих сделок с помощью ничего не
стоящего добавления нескольких нулей.
Ну, а провинциальная история, в которой все действующие лица блистают
высокой нравственностью, может относиться только ко времени гораздо более
позднему, чем эпоха первого билля о реформе. Питер же Фезерстоун - вы,
несомненно, заметили это - скончался и был погребен за несколько месяцев
до того, как главой кабинета стал лорд Грей (*104).
36
Сколь странны склонности великих душ,
Хоть их должна бы мудрость осенять
Великим душам нравится блистать,
А потому они бывают там,
Где дань восторгов можно пожинать,
И, презирая нас, приходят к нам.
Им мнится, что благоговейно чтим
Мы речи их любые и дела.
Но наш восторг умножить нужно им,
И верят, будто новая хвала
Раздастся, коль покажут нам они
Величье дум своих.
Даниел, "Филотас"
Мистер Винси вернулся домой после оглашения завещания, заметно
переменив точку зрения на многие предметы. Он не отличался скрытностью,
однако был склонен выражать свои чувства обиняком. Когда его шелковые
шнурки залеживались на складе, он кричал на конюха; когда его зять
Булстрод досаждал ему, он поносил методизм; теперь же он выбросил из
курительной комнаты в прихожую вышитую шапочку, из чего следовало, что он
смотрит на болезнь Фреда без прежней снисходительности.
- Ну-с, сударь, - сказал он, когда этот молодой джентльмен собрался
идти спать, - надеюсь, вы подумываете о том, чтобы возобновить занятия в
следующем семестре и сдать экзамен. Я принял твердое решение и советую вам
не тратить времени по пустякам.
Фред ничего не ответил: слишком велико было его уныние. Ведь накануне
он неколебимо верил, что ему больше не придется решать, чем заняться, -
еще двадцать четыре часа, и он узнает, что может ничего не делать. Он
будет ездить на лисью травлю в красном охотничьем костюме, на отличном
гунтере, а стрелять фазанов - на породистой кобыле, и все его будут
уважать. Он немедленно вернет долг мистеру Гарту, и у Мэри больше не будет
причин ему отказывать. И все это он получит, не сдавая экзаменов и не
испытывая никаких других неудобств, а просто по милости провидения, то
есть благодаря капризу своенравного старика. Но теперь, когда двадцать
четыре часа прошли, все эти столь твердые надежды рухнули. И как будто
этого горького разочарования мало - его еще корят, точно он же и виноват!
Однако Фред промолчал и отправился в спальню, предоставив матери
заступиться за него.
- Не будь так суров с бедным мальчиком, Винси! Он еще покажет себя,
пусть этот злой старик и обманул его. Я знаю, знаю, что Фред покажет себя,
иначе зачем же болезнь его пощадила? А это просто грабеж. Обещать ему
землю или прямо отдать - какая разница? Разве это не обещание, если он
намекал, пока все не поверили? И ты сам слышал, что он оставил ему десять
тысяч фунтов, а потом опять отобрал.
- Опять отобрал! - сердито повторил мистер Винси. - Из него никакого
толку не выйдет, Люси. И ведь ты совсем избаловала мальчишку.
- Так он же мой первенький, Винси, и ты сам тогда на него надышаться не
мог. Себя не помнил от гордости, - сказала миссис Винси, уже улыбаясь
своей обычной веселой улыбкой.
- А кто заранее знает, каким вырастет ребенок? Вот я и радовался по
глупости, - ответил ее муж, впрочем, более мягким тоном.
- Но у кого дети красивей и лучше наших? С Фредом тут никто потягаться
не может - он только слово скажет, и сразу понятно, что он обучался в
университете и знакомства у него там были самые хорошие. А уж Розамонда!
Где ты еще найдешь такую? Да поставь ее рядом с какой хочешь леди, она
только краше покажется. Ну, ты подумай - Лидгейт в самом высшем обществе
бывал и где только не ездил, а влюбился в нее, чуть увидел. Хотя,
по-моему, Розамонде незачем было торопиться с обручением. Ведь она могла
бы познакомиться с женихом и получше - ну, у своей школьной подруги мисс
Уиллобай. У нее ведь родственники не хуже, чем у мистера Лидгейта.
- Черт бы побрал всех родственников! - объявил мистер Винси. - Я ими
сыт по горло. И мне не нужен зять, если у него за душой нет ничего, кроме
родственников.
- Как же так, милый! - воскликнула миссис Винси. - Ведь ты рад был.
Конечно, это без меня случилось, но Розамонда говорила, что ты слова
против не сказал. И ведь она уже начала покупать тонкое полотно и батист
себе на белье.
- Без моего позволения, - отрезал мистер Винси. - Мне в этом году
хватит забот с сынком-бездельником, чтобы еще платить за приданое. Времена
тяжелые, хуже некуда, все разоряются, а у Лидгейта, по-моему, нет ни
фартинга. Я согласия на свадьбу не дам. Пусть подождут, как и другие
ждали.
- Розамонда совсем расстроится, Винси. И ведь ты сам ей никогда не
перечил.
- Как бы не так! Чем скорее с этой помолвкой будет покончено, тем
лучше. Я на него насмотрелся и вижу, что ему состояния ввек не нажить.
Врагов он себе наживает, это верно, а больше ничего.
- Зато, милый, Булстрод его высоко ставит. И, наверное, будет доволен,
если они поженятся.
- Ну и будет, так что? - проворчал мистер Винси. - Содержать-то их не
Булстроду придется. А если мистер Лидгейт думает, что я им дам денег на
обзаведение, так он ошибается, только и всего. Мне ведь, того гляди,
придется продать лошадей! Смотри, передай Рози, что я сказал.
Такое с мистером Винси случалось нередко - согласившись на что-то под
веселую руку, он затем спохватывался и возлагал на других неприятную
обязанность взять это обещание назад. Но как бы то ни было, миссис Винси,
которая никогда не поступала наперекор мужу, поспешила утром сообщить Рози
его слова. Розамонда слушала молча, внимательно рассматривая свое шитье, а
когда миссис Винси кончила, чуть изогнула прелестную шейку - лишь долгий
опыт мог бы открыть вам, о каком неколебимом упрямстве говорило это
движение.
- Так как же, душенька? - спросила мать с робкой нежностью.
- Папа ничего подобного не думает, - ответила Розамонда с невозмутимым
спокойствием. - Он всегда говорил что хочет, чтобы я вышла за человека,
которого полюблю. И я выйду за мистера Лидгейта. А ведь папа дал согласие
почти два месяца назад. Полагаю, более подходящего дома, чем дом миссис
Бретон, нам не найти.
- С отцом, душенька, ты уж сама поговори. Ты всегда умеешь настоять на
своем. А если покупать дамаск, то у Сэдлера - у него выбор куда лучше, чем
у Хопкинса. Только дом миссис Бреттон слишком уж велик. Я, конечно, была
бы рада, чтобы ты жила в таком доме но ведь сколько мебели понадобится, и
ковров, и всего не говоря уж о посуде и хрустале. А твой отец сказал, что
денег не даст, ты ведь поняла? А мистер Лидгейт рассчитывает на них, ты не
знаешь?
- Неужели, по-вашему, я стала бы его спрашивать, мама? Разумеется, он
знает состояние своих дел.
- Но, может, он искал богатую невесту, душечка, и мы ведь все думали,
что не один Фред получит наследство, а и ты тоже. До чего же все плохо
вышло. Просто думать ни о чем приятном не хочется, когда бедного мальчика
так обманули.
- Это не имеет никакого отношения к моей свадьбе мама. А Фреду довольно
бездельничать. Я поднимусь наверх отдать этот муслин мисс Морган: она
отлично обметывает швы. И, пожалуй, кое-что я поручу Мэри Гарт. Она шьет
прекрасно, этого у нее не отнимешь. Мне хотелось бы, чтобы на всех
батистовых оборках, был рубчик а для этого нужно много времени.
Миссис Винси не напрасно верила, что Розамонда сумеет поговорить со
своим папенькой. Во всем, что не касалось его обедов или скачек, мистер
Винси, несмотря на шумную настойчивость, был столь же мало самостоятелен
как премьер-министр: подобно большинству полнокровных мужчин, любящих
пожить в свое удовольствие, он подчинялся силе обстоятельств, а
обстоятельство, называемое Розамондой, обладало той силой, благодаря
которой прозрачная струящаяся субстанция, как нам известно, пробивает
самые твердые скалы. Папенька же далеко не был скалой. Его твердость
исчерпывалась определенной системой устремлений, то есть привычками, что
сильно мешало ему принять против помолвки дочери единственно возможные
решительные меры - иначе говоря, точно выяснить имущественное положение
Лидгейта, предупредить, что сам он денег дать не может, и наложить запрет
как на скорую свадьбу, так и на длительную помолвку. На словах все это
выглядит просто, но неприятное решение, принятое в холодные часы рассвета,
нередко оказывается столь же эфемерным, как утренний иней, и не
выдерживает тепла, которое приносит с собой день. Мистер Винси даже не
посмел прибегнуть к своим излюбленным обинякам: Лидгейт держался гордо и,
конечно, не потерпел бы намеков в свой адрес, а об открытом объяснении и
речи быть не могло. Мистер Винси отчасти был польщен, что он хочет
жениться на Розамонде, отчасти его побаивался, отчасти избегал заводить
разговор о деньгах с невыгодной для себя позиции, отчасти страшился
потерпеть поражение в споре с человеком более образованным и
благовоспитанным, чем он сам, и отчасти опасался пойти наперекор желанию
дочки. Всем другим ролям мистер Винси предпочитал роль хлебосольного
хозяина, которого никто ни в чем не может упрекнуть. В первую половину дня
облечь принятое решение в официальную форму отказа мешали дела, а во
вторую - обед, вино, вист и благодушное настроение. А час шел за часом, и
каждый оставлял свой маленький след, так что мало-помалу складывалась
самая веская причина для бездействия - сознание, что действовать уже
поздно.
Новоявленный жених теперь почти все вечера проводил в доме на
Лоуик-Гейт, и влюбленность, нисколько не зависевшая от денежных даров
тестя или размеров будущего докторского дохода, продолжала расцветать на
глазах у мистера Винси. Юная влюбленность - что за тончайшая паутинка!
Даже точки ее опоры - то, на чем держится ее кружевная сеть, - почти
незаметны. Чуть-чуть соприкоснутся кончики пальцев, встретятся взоры синих
и темных очей, останется неоконченной фраза, слегка порозовеют щеки, еле
заметно дрогнут губы. Материалом для этой паутины служат мечтания и
неясная радость, тяготение одной жизни к другой, манящий призрак
совершенства, безотчетное доверие. И Лидгейт принялся ткать эту паутину из
своей души с поразительной быстротой вопреки трагическому опыту любви к
Лауре - а также вопреки медицине и биологии, ибо не раз наблюдалось, что
научные исследования - например, иссеченной мышцы или глаз, лежащих на
блюде (подобно глазам святой Лючии), - гораздо более совместимы с
поэтичной любовью, чем прозаичность будничных интересов. Что до Розамонды,
то она, точно раскрывшаяся водяная лилия, упивалась новой полнотой своей
жизни и тоже усердно ткала их общую паутину. Ткалась она в уголке гостиной
у фортепьяно и, несмотря на всю воздушность, играла радужным блеском,
который замечал вовсе не только мистер Фербратер. Весь Мидлмарч знал, что
мисс Винси и мистер Лидгейт помолвлены, хотя официально ничего объявлено
не было.
Гарриет Булстрод опять встревожилась, но на сей раз она решила
поговорить с братом и поехала к нему на склад, чтобы избежать разговора с
легкомысленной миссис Винси. Однако его ответы ее не успокоили.
- Уолтер, неужели ты хочешь сказать, что допустил подобное, не наведя
справок о состоянии мистера Лидгейта? - спросила миссис Булстрод, с
недоумением глядя на брата, который пребывал в своем раздраженном
складском настроении. - Подумай, как такая девушка, приученная к роскоши -
и к суетности, должна я с огорчением сказать, - как такая девушка будет
жить на небольшой доход?
- Оставь, Гарриет! При чем тут я, если люди приезжают в город без моего
приглашения? А вы что, не пускали Лидгейта к себе на порог? Это Булстрод,
а не кто-нибудь, с ним носился. Я ему ни в чем не содействовал. Так ты
лучше со своим мужем поговори, а не со мной.
- Ах, право, Уолтер, как можно тут винить мистера Булстрода? Он этой
помолвки не желал, я уверена.
- Ну, если бы Булстрод не взял его себе под крылышко, стал бы я
приглашать его к нам!
- Но ведь ты пригласил его лечить Фреда, и я первая скажу, что это была
рука провидения, - возразила миссис Булстрод, запутавшись в тонкостях этой
деликатной темы.
- Не знаю, как там провидение! - раздраженно бросил мистер Винси. - А
вот из-за моей семьи хлопот у меня больше, чем мне хотелось бы. Я ведь был
тебе хорошим братом, Гарриет, пока ты не вышла замуж, и должен сказать,
Булстрод не всегда относится к твоим близким по-родственному, как
следовало бы.
Мистер Винси совсем не походил на иезуита, но самый хитрый иезуит не
сумел бы так ловко переменить тему, Гарриет пришлось защищать мужа, вместо
того чтобы упрекать брата, и помолвка была забыта в разборе
препирательств, возникших между мистером Винси и мистером Булстродом на
недавнем заседании церковного совета.
Миссис Булстрод не стала передавать мужу жалобы брата, но вечером
заговорила с ним о Лидгейте и Розамонде. Однако он не заразился ее
горячностью и ограничился безразличными замечаниями об опасностях, которые
подстерегают молодого врача в начале его карьеры и требуют большой
осмотрительности.
- Но право же, нам следует молиться за эту легкомысленную девочку,
воспитанную в суетности, - сказала миссис Булстрод, надеясь воздействовать
на чувства мужа.
- Воистину, дорогая, - согласился мистер Булстрод. - Как еще люди,
чуждые миру сему, могут противостоять заблуждениям тех, кто предан суете?
А таково семейство твоего брата, и нам следует свыкнуться с этой мыслью.
Возможно, я предпочел бы, чтобы мистер Лидгейт не вступал в этот брак, но
мои отношения с ним исчерпываются использованием его дарований для целей
господних, как наставляет нас божественное провидение.
Миссис Булстрод больше ничего не сказала, приписав свое огорчение
недостаточной духовности. Она верила, что ее муж - один из тех людей, о
которых после их кончины следует писать книги.
Что касается самого Лидгейта, то, получив согласие, он готов был
принять все последствия, которые, как ему казалось, представлял себе
совершенно ясно. Безусловно, свадьбу не следует откладывать больше чем на
год или даже на полгода. Правда, он не собирался жениться так скоро, но в
остальном его планы остаются прежними: нужно будет просто приспособить их
к новому положению. Ну, а к свадьбе следует готовиться заведенным порядком
- например, снять дом вместо квартиры, в которой он жил до сих пор.
Лидгейт не раз слышал, как Розамонда восхищалась домом старой миссис
Бреттон (тоже на Лоуик-Гейт), вспомнил об этом, когда дом освободился
после смерти старушки, и тотчас начал вести переговоры о найме.
Сделал он это словно между прочим - точно так же, как заказывал
портному модный костюм со всеми принадлежностями, вовсе не думая о том,
чтобы пустить пыль в глаза. Напротив, всякая трата напоказ не вызвала бы у
него ничего, кроме презрения: как врач он близко узнал все степени
бедности и горячо принимал к сердцу судьбу неимущих. Он безупречно
держался бы за столом, на котором соус стоял в чашке с отбитой ручкой, а о
великолепном званом обеде вспомнил бы только, что встретил там интересного
собеседника. Однако он ни на минуту не собирался отказываться от образа
жизни, который считал обычным, - зеленые рюмки для хереса и вышколенный
слуга, разносящий блюда. Погревшись у французских социальных теорий, он не
привез с собой запах паленого. Мы можем безнаказанно заигрывать с самыми
крайними мнениями, когда наша мебель, наши званые обеды и фамильный герб,
которым мы гордимся, неразрывно связывают нас с установленным порядком
вещей. А Лидгейт к тому же не симпатизировал крайним мнениям, босоногие
доктрины были ему не по вкусу - он носил щегольские сапоги и чуждался
радикализма, если только речь не шла о необходимости реформ в медицинской
профессии и о косности, препятствующей научным исследованиям. В
практической жизни он руководствовался наследственными привычками,
гордостью и бессознательным эгоизмом (той пошлостью в его натуре, о
которой уже говорилось), а также наивностью, неизбежной при увлечении
излюбленными идеями.
И если Лидгейт был как-то озабочен последствиями своей неожиданной
помолвки, то смущал его недостаток времени, а вовсе не денег. Бесспорно,
влюбленность и сознание, что его ожидает та, что каждый раз оказывается
прелестнее, чем образ, живущий в его памяти, мешали ему посвящать
исследованиям свободные часы, которых могло достать какому-нибудь
"усердному немцу", чтобы сделать великое и уже столь близкое открытие.
Выход был один - не откладывать свадьбы, как он и дал понять мистеру
Фербратеру, когда тот явился к нему с какой-то извлеченной из пруда
живностью, чтобы рассмотреть свою находку под более сильным микроскопом, и
саркастически сказал, увидев, что на столе Лидгейта, заставленном
приборами и препаратами, царит полнейший беспорядок:
- Эрос (*105) заметно пал: он начал с того, что принес в мир порядок и
гармонию, а теперь вновь ввергает его в хаос.
- Да, на определенных этапах, - ответил Лидгейт, с улыбкой поднимая
брови, и начал настраивать микроскоп. - Но затем порядок станет еще лучше.
- И скоро? - спросил мистер Фербратер.
- Надеюсь, что да. Это неопределенное положение отнимает массу времени,
а в научных изысканиях каждая минута может оказаться решающей. И по моему
мнению, тому, кто хочет работать систематически, необходимо жениться.
Тогда у него дома есть все и ему уже не досаждают всякие отвлекающие
мелочи. Он обретает спокойствие и свободу.
- Вам можно позавидовать! - заметил священник. - Вы получаете
Розамонду, спокойствие и свободу. А у меня всего лишь моя трубка и
мельчайшие обитатели пруда. Ну как, готово?
Однако Лидгейт ничего не сказал мистеру Фербратеру о другой причине,
побуждавшей его сократить срок жениховства. Даже с вином любви в жилах он
досадовал на то, что вынужден участвовать в семейных вечерах и столько
времени тратить на мидлмарчские сплетни, пустое веселье и вист, предаваясь
бессмысленной праздности. Ему приходилось почтительно выслушивать вопиюще
невежественные рассуждения мистера Винси, например о том, какие спиртные
напитки лучше всего дубят внутренности и спасают человека от миазмов. Да и
добродушная миссис Винси в своей простоте нисколько не подозревала, что
может оскорблять вкус нареченного зятя. Короче говоря, Лидгейт должен был
признаться себе, что родители Розамонды ему все-таки неровня. Но ведь его
обворожительная чаровница испытывает те же страдания. И Лидгейт находил
особую радость в мысли, что, женясь на ней, он спасает ее от этого
прозябания.
- Любимая! - сказал он ей как-то вечером самым ласковым своим тоном,
садясь рядом и внимательно вглядываясь в ее лицо...
Но мне следует сперва объяснить, что он застал ее одну в гостиной,
большое старомодное окно которой, занимавшее чуть ли не всю стену, было
распахнуто, и в него вливались летние ароматы сада, расположенного позади
дома. Ее родители были в гостях, а питомцы мисс Морган гонялись где-то за
мотыльками.
- Любимая! У вас красные глазки.
- Неужели? - сказала Розамонда. - Отчего бы это? - Ей было
несвойственно изливать жалобы и огорчения: она деликатно открывала причину
своих страданий, только если ее долго упрашивали.
- Как будто вы можете что-то от меня скрыть! - воскликнул Лидгейт,
нежно накрывая ладонью ее сложенные руки. - Разве я не вижу крохотную
капельку на реснице? Вас что-то удручает, а вы не хотите открыться мне!
Так любящие не поступают.
- Зачем рассказывать вам о том, чего вы изменить не можете? Это все
самые обычные вещи. Ну, может быть, в последнее время они стали немного
хуже.
- Домашние неурядицы. Вы спокойно можете мне довериться. Я ведь
догадываюсь в чем дело.
- Папа стал таким раздражительным! Он сердится на Фреда, и сегодня
утром была новая ссора: Фред грозит выбрать себе какое-то низкое занятие и
не хочет считаться с тем, что ему дали образование вовсе не для этого. А
кроме того...
Розамонда запнулась и чуть-чуть покраснела. Лидгейт впервые после их
объяснения видел ее расстроенной и никогда еще не испытывал к ней такой
страстной любви, как в эту минуту. Он нежно поцеловал умолкшие губки,
словно желая придать им смелости.
- Мне кажется, папа недоволен нашей помолвкой, - продолжала Розамонда
почти шепотом. - Вчера вечером он сказал, что должен поговорить с вами и
что от нее надо отказаться.
- И вы согласитесь? - с жаром, почти с гневом спросил Лидгейт.
- Я никогда не отказываюсь от того, чего хочу, - ответила Розамонда, к
которой, едва он коснулся этой струны, вернулось обычное спокойствие.
- Умница! - воскликнул Лидгейт, снова ее целуя. Такое уместное упорство
было обворожительно. Он продолжал:
- Ваш отец уже не вправе настаивать на расторжении нашей помолвки. Вы
совершеннолетняя и дали мне слово. А если вам причиняют огорчения, значит,
надо ускорить свадьбу.
Устремленные на него голубые глаза просияли радостью, словно озарив
мягким солнечным светом все его будущее. Идеальное счастье (прямо из
сказок "Тысячи и одной ночи", когда достаточно одного шага, чтобы покинуть
тяжкий труд и сумятицу улиц и очутиться в раю, где вам дается все, а от
вас ничего не требуется), казалось, было совсем близко - лишь несколько
недель ожидания.
- Зачем нам откладывать? - спросил он с пылкой настойчивостью. - Я уже
снял дом, а остальные приготовления можно закончить быстро, не так ли?
Ваши новые платья подождут. Их можно купить и после.
- Какие у вас, умных мужчин, странные понятия! - сказала Розамонда, и
на ее лице заиграло больше смешливых ямочек, чем обычно. - Нет, только
подумать! Я в первый раз слышу, чтобы подвенечное платье покупали после
свадьбы.
- Но неужели вы будете настаивать, чтобы я из-за платьев ждал еще
месяц? - спросил Лидгейт, полагая, что Розамонда мило его поддразнивает, и
все же опасаясь, что на самом деле она вовсе не хочет торопиться со
свадьбой. - Вспомните, ведь нас ожидает еще большее счастье, чем это, - мы
будем все время вместе, ни от кого не завися, распоряжаясь нашей жизнью,
как захочется нам самим. Любимая, ну, скажите же мне, что скоро вы можете
стать совсем моей!
Лидгейт говорил серьезно и настойчиво, словно она оскорбляла его
нелепыми отсрочками, и Розамонда тотчас стала серьезной и задумалась.
Собственно говоря, она перебирала в уме сложные вопросы обметывания швов,
подрубания оборок и отделки юбок, прежде чем дать хотя бы приблизительный
ответ.
- Полутора месяцев должно вполне хватить, Розамонда, не так ли? -
настойчиво сказал Лидгейт и, выпустив ее руки, нежно обнял ее за талию.
Одна маленькая ручка тотчас прикоснулась к волосам, поправляя их, и
Розамонда, чуть наклонив голову, сказала озабоченно:
- Но ведь остается еще столовое белье и мебель. Впрочем, мама может все
это устроить к нашему возвращению.
- Ах да, конечно! Нам ведь придется уехать на неделю в свадебное
путешествие.
- Нет, не на неделю! - воскликнула Розамонда и подумала о вечерних
туалетах, предназначенных для поездки в имение сэра Годвина Лидгейта, где
она втайне надеялась восхитительно провести хотя бы четверть медового
месяца, пусть даже это отсрочит ее знакомство с другим дядей Лидгейта,
доктором богословия (в сочетании с аристократической кровью внушительный,
хотя и не столь блистательный титул). Она бросила на жениха взгляд, полный
недоумения, похожего на упрек, и он тотчас решил, что ей хотелось бы
продлить пленительные дни уединения вдвоем.
- Только назначьте день свадьбы, и все будет по вашему желанию,
любимая. Но решимся же и положим конец вашим досадам. Полтора месяца!
Разумеется, такой срок вполне достаточен.
- Да, конечно, я могу ускорить приготовления, - сказала Розамонда. -
Так вы поговорите с папой? Хотя, по-моему, лучше написать ему. - Она
порозовела и взглянула на Лидгейта, как глядят на нас садовые цветы, когда
в прозрачном вечернем свете мы беспечно прогуливаемся между клумбами, -
ведь верно, что в этих нежных лепестках, собранных в легкий трепетный
венчик вокруг темно-алой сердцевины, прячется неизъяснимая душа полунимфы,
полуребенка?
Лидгейт коснулся губами ее ушка, и они молча сидели много минут,
которые струились мимо них, точно ручеек, искрящийся от поцелуев солнца.
Розамонда думала, что никто еще не был так влюблен, как она, а Лидгейт
думал, что после всех безумных ошибок, рожденных нелепой доверчивостью,
он, наконец, обрел идеальное воплощение женственности, и на него словно
уже веяло будущим блаженством с той, что так высоко ставит его научные
изыскания и никогда не станет им мешать, что тихим волшебством будет
поддерживать порядок в доме и счетах, не отказываясь в любой миг коснуться
пальцами струн лютни и претворить будни в романтический праздник, с той,
что образованна в истинно женских пределах и ни на йоту больше, а потому
полна кротости и готова послушно принимать все выходящее за эти пределы.
Он никогда еще так ясно не понимал, насколько неверным было его намерение
еще долго оставаться холостяком: женитьба не только не станет помехой его
планам, но поможет их осуществлению. И когда на следующий день,
сопровождая пациента в Брассинг, он увидел там сервиз, показавшийся ему
превосходным во всех отношениях, то немедленно его купил. Откладывать
подобные решения - значит напрасно терять время, а Лидгейт терпеть не мог
плохую посуду. Правда, сервиз был дорогим, но такова, наверное, природа
сервизов. Обзаведение всем необходимым, естественно, обходится недешево,
зато это случается только раз в жизни.
- Он, верно, чудо что такое, - сказала миссис Винси, когда Лидгейт
упомянул про свою покупку и в двух словах описал сервиз. - Как раз для
Рози. Дай-то бог, чтобы он подольше оставался цел.
- Надо нанимать такую прислугу, которая не бьет посуды, - объявил
Лидгейт. (Бесспорно, в его рассуждении причина и следствие несколько
смешались, но в ту эпоху трудно было найти систему рассуждений, которую
ученые мужи так или иначе не санкционировали бы.)
Разумеется, от маменьки не было нужды что-либо скрывать: она
предпочитала на все смотреть бодро и - сама счастливая жена - о замужестве
дочери думала только с радостной гордостью. Однако Розамонда знала, что
говорила, когда посоветовала Лидгейту написать ее папеньке. На следующее
утро она подготовила почву, проводив отца на склад и по дороге упомянув,
что мистер Лидгейт торопится со свадьбой.
- Вздор, милочка, - сказал мистер Винси. - На какие средства он
собирается содержать жену? Лучше бы ты порвала с ним помолвку. Ведь у нас
с тобой уже был об этом разговор. К чему ты получала такое воспитание,
если теперь выйдешь замуж за бедняка? Каково отцу смотреть на это?
- Но мистер Лидгейт вовсе не бедняк, папа. Он купил практику мистера
Пикока, а она, говорят, приносит в год восемьсот - девятьсот фунтов.
- Чепуха! Практику купил! А почему бы ему не купить журавля в небе? Он
ее всю растеряет.
- Ничего подобного, папа. Он приобретает много новых пациентов. Ведь
его уже пригласили к Четтемам и к Кейсобонам.
- Надеюсь, он знает, что я за тобой ничего не даю? Фред остался ни при
чем, парламент, того гляди, распустят, машины повсюду ломают, и выборы
скоро...
- Милый папа! Но при чем тут моя свадьба?
- Очень даже при чем! Мы, того гляди, станем нищими - такое в стране
творится! Может, и правда наступает конец света, как некоторые говорят! Во
всяком случае, свободных денег у меня сейчас нет, брать из дела я их не
могу, и Лидгейту следует это знать.
- Но он ничего не ждет, я уверена. И у него такое знатное родство! Так
или иначе, он займет высокое положение в свете. Он делает научные
открытия.
Мистер Винси ничего не сказал.
- Папа, я не могу отказаться от моей единственной надежды на счастье.
Мистер Лидгейт - джентльмен. А я бы никогда никого не полюбила, кроме
безупречного джентльмена. Ты ведь не хочешь, чтобы я заболела чахоткой,
как Арабелла Хоули. И ты знаешь, что я никогда от своих решений не
отступаю.
Но папа снова ничего не сказал.
- Обещай, папа, что ты дашь свое согласие. Мы ни за что не откажемся
друг от друга, а ты сам всегда осуждал долгие помолвки и поздние браки.
Она продолжала настаивать, и в конце концов мистер Винси сказал:
- Ну что же, деточка, он должен мне сперва написать, чтобы я мог дать
ответ.
И Розамонда поняла, что добилась своего.
Ответ мистера Винси свелся главным образом к требованию, чтобы Лидгейт
застраховал свою жизнь, - что тот немедленно и исполнил. Это была
превосходная предосторожность на случай, если бы Лидгейт вдруг умер, но
пока она требовала расходов. Однако теперь все препятствия, казалось, были
устранены и приготовления к свадьбе продолжались с большим воодушевлением.
Впрочем, не без разумной экономии. Новобрачная (намеревающаяся гостить у
баронета) никак не может обойтись без модных носовых платков, но если не
считать абсолютно необходимой полудюжины, Розамонда не стала настаивать на
самой дорогой вышивке и валансьенских кружевах. И Лидгейт, обнаруживший,
что его восемьсот фунтов после переезда в Мидлмарч значительно убыли,
предпочел отказаться от понравившегося ему старинного столового серебра,
которое он увидел в Брассинге, в лавке Кибла, куда зашел купить вилки и
ложки. Гордость не позволяла ему расходовать слишком много, словно в
расчете на то, что мистер Винси выдаст им деньги на обзаведение, и хотя не
за все нужно было платить сразу, он не тратил время на предположения,
какую сумму тесть вручит ему в качестве приданого и насколько она облегчит
оплату счетов. Он не собирался позволять себе лишних расходов, но было бы
неразумно экономить на качестве необходимых приобретений. Впрочем, все это
было достаточно кстати. Лидгейт по-прежнему видел свое будущее в
увлеченных занятиях наукой и практической медициной, но он не мог
представить себе, что занимается ими в обстановке, в какой, например, жил
Ренч - все двери распахнуты, стол накрыт старой клеенкой, дети в
замусоленных платьицах и остатки второго завтрака: обглоданные косточки,
ножи с роговыми ручками и дешевая посуда. Но ведь жена Ренча, вялая
апатичная женщина, только куталась в большой платок, точно мумия, и он, по
всей видимости, с самого начала неверно поставил свой дом.
Однако Розамонда была погружена во всяческие расчеты, хотя безошибочное
чутье предостерегало ее против того, чтобы открыто в них признаваться.
- Мне так хотелось бы познакомиться с вашими родными, - сказала она
однажды, когда они обсуждали свадебное путешествие. - Не выбрать ли нам
такое место, чтобы на обратном пути мы могли побывать у них? Кого из ваших
дядей вы особенно любите?
- Ну... дядю Годвина, пожалуй. Очень милый старик.
- Вы ведь в детстве подолгу жили у него в Куоллингеме, правда? Мне бы
так хотелось увидеть старое поместье и все, что было вам тогда дорого. Он
знает, что вы женитесь?
- Нет, - беззаботно ответил Лидгейт, поворачиваясь в кресле и ероша
волосы.
- Ну, так напишите ему, гадкий, непочтительный племянник. Может быть,
он пригласит нас в Куоллингем, и вы покажете мне парк, и я представлю вас
себе мальчиком. Вы ведь видите меня в той обстановке, в какой я росла. И
будет нечестно, если я буду знать о вас меньше. Но я забыла: вам,
возможно, будет немножко неловко за меня.
Лидгейт нежно ей улыбнулся и, конечно, подумал, что похвастать
очаровательной женой - большое удовольствие и ради него стоит
побеспокоиться. А к тому же действительно будет очень приятно обойти с
Розамондой все старые милые уголки.
- Хорошо, я напишу ему. Но мои кузены и кузины на редкость скучны.
Иметь право так презрительно отзываться о детях баронета! Розамонда
пришла в восторг и уже предвкушала, как сама отнесется к ним
пренебрежительно.
Однако дня через два ее маменька чуть было не испортила всего, заявив:
- Мне бы так хотелось, мистер Лидгейт, чтобы ваш дядюшка, сэр Годвин,
обошелся с Рози по-родственному. Чтобы он не поскупился. Ведь для баронета
тысяча-другая - просто мелочь.
- Мама! - воскликнула Розамонда, густо покраснев.
Лидгейту стало так ее жаль, что он промолчал и, отойдя к стене,
принялся, словно в рассеянности, разглядывать какую-то гравюру. Маменька
позже выслушала строгую дочернюю нотацию и, как всегда, не стала
возражать. Однако Розамонде пришло в голову; что на редкость скучные
высокородные кузены, если удастся пригласить их в Мидлмарч, увидят в ее
родительском доме немало такого, что должно шокировать их
аристократические понятия. А потому было бы лучше, если бы Лидгейт
поскорее нашел прекрасный пост где-нибудь подальше от Мидлмарча. А это не
должно составить никаких затруднений для человека с титулованным дядей и
делающего открытия. Лидгейт, как видите, увлеченно описывал Розамонде свое
намерение посвятить жизнь служению высочайшей пользе и наслаждался тем,
что его слушает прелестное создание, которое подарит ему поддержку нежной
любви... красоту... покой - все то, чем пленяют нас и укрепляют наши
душевные силы летнее небо или цветущий луг.
Лидгейт весьма полагался на психологические различия между гусаком и
гусыней, как я выражусь разнообразия ради, - особенно на врожденную
кротость и покорность гусыни, столь прекрасно дополняющей силу гусака.
37
Та счастлива, что, сделав выбор свой,
Себя не даст сомненьям обмануть,
Мечтой не очаруется иной,
Прогонит страх, тайком заползший в грудь.
Так галион упорно держит путь
В морскую гавань средь морских зыбей -
Его не могут в сторону свернуть
Ни бури, ни прельщенья миражей.
Оплотом твердым верность служит ей:
Не нужно козней убегать врагов,
Не нужно помощи искать друзей.
Ей верность - и опора и покров.
Счастливица! Но трижды счастлив тот,
Кого такое сердце изберет.
Эдмунд Спенсер (*106)
Мистер Винси, как мы видели, не мог решить, ждать ли всеобщих выборов
или конца света теперь, когда Георг Четвертый скончался, парламент был
распущен, Веллингтон и Пиль утратили популярность, а новый король толь ко
виновато разводил руками. Но растерянность мистера Винси лишь слабо
отражала растерянность, господствовавшую в провинциальном общественном
мнении тех дней. Как могли люди разобраться в собственных мыслях при свете
еле теплящихся огоньков окрестных поместий, если консервативный кабинет
прибегал к либеральным мерам, а аристократам-тори и избирателям-тори даже
либералы казались предпочтительнее, чем друзья отступников-министров, и
всюду раздавались требования спасительных средств, которые имели лишь
самое отдаленное отношение к личным интересам и приобретали подозрительный
душок, так как за них ратовали неприятные соседи? Читатели мидлмарчских
газет оказались в нелепом положении: в дни треволнений по поводу билля о
католиках многие отвергли "Мидлмарчский пионер", который взял девиз у
Чарлза Джеймса Фокса (*107) и стоял за прогресс, потому что "Пионер"
принял сторону Пиля в вопросе о папистах и тем самым запятнал свой
либерализм терпимостью к иезуитам и Ваалу. Однако не были они довольны и
"Рупором" - хотя не так давно он метал громы против Рима, теперь вялость
общественного мнения (никто не знал, кто кого будет поддерживать)
заставила его глас заметно приутихнуть.
Это было время, как указывала статья в "Пионере", напечатанная на самом
видном месте, когда вопиющие нужды страны могли призвать из добровольного
затворничества людей, чей ум благодаря большой житейской мудрости обрел не
только сосредоточенность, но и широту, не только целеустремленность, но и
терпимость, не только энергию, но и беспристрастность - короче говоря, все
те качества, которые, как показывает печальный опыт человечества, вовсе не
склонны уживаться под одной крышей.
Мистер Хекбат, чье красноречие в те дни разливалось даже еще более
широким половодьем, чем обычно, и не позволяло точно угадать, в какое
русло предполагает оно войти, во всеуслышание заявил в конторе мистера
Хоули, что указанная статья "исходит" от Брука, владельца Типтон-Грейнджа,
и что Брук несколько месяцев назад тайно купил "Мидлмарчский пионер".
- Тут уж хорошего не жди, э? - осведомился мистер Хоули. - Сначала он
тыкался где-то, как заблудившаяся черепаха, а теперь ему взбрело в голову
стать популярным. Тем хуже для него. Я к нему давно приглядываюсь. Его под
орех разделают. Землевладелец он из рук вон плохой. С какой стати помещику
заигрывать с городской чернью? Ну, а газета... надеюсь, он сам будет в нее
пописывать. Тогда не жалко платить за нее деньги.
- Насколько мне известно, он нашел редактора - очень талантливого
молодого человека, который способен писать передовые статьи в самом лучшем
стиле, - не во всякой лондонской газете такие найдутся. И он намерен
грудью стоять за реформу.
- Пусть-ка Брук сначала реформирует плату, которую выжимает из своих
арендаторов. Старый выжига - вот кто он такой, и его арендаторы живут в
таких ветхих лачугах, что просто позор. Наверное, этот его молодой человек
- какой-нибудь лондонский бездельник.
- Его фамилия Ладислав. Говорят, он иностранного происхождения.
- Это народ известный! - сказал мистер Хоули. - Какой-нибудь тайный
агент. Начнет с пышных рассуждений о правах человека, а потом придушит
деревенскую девчонку. Так у них ведется.
- Однако согласитесь, Хоули, злоупотребления существуют, - заметил
мистер Хекбат, предвидя, что разойдется в политических взглядах со своим
поверенным. - Я далек от крайностей, собственно говоря, я разделяю позицию
Хаскиссона (*108), но я не могу закрывать глаза на то, что отсутствие
представительства крупных городов...
- К черту крупные города! - нетерпеливо перебил мистер Хоули. - Мне
слишком хорошо известно, как проходят выборы в Мидлмарче. Ну, пусть они
уничтожат все гнилые местечки (*109) и дадут представительство каждому
скороспелому городу в стране, а в результате выборы будут обходиться
кандидатам куда дороже. Я исхожу из фактов.
Раздражение, которое мистер Хоули испытал при мысли, что "Мидлмарчский
пионер" редактируется тайным агентом, а Брук занялся политической
деятельностью (точно черепаха, тихонько ползавшая туда и сюда, вдруг
честолюбиво задрала крохотную головенку к небу и встала на задние лапы),
далеко уступало негодованию, охватившему некоторых родственников самого
мистера Брука. Все выяснилось постепенно - так мы узнаем, что сосед завел
не слишком благоуханную мастерскую и она теперь вечно будет оскорблять
наши ноздри, а закон тут ничего поделать не может. "Мидлмарчский пионер"
был куплен тайно еще до приезда Уилла Ладислава: бывший владелец весьма
охотно расстался с ценной собственностью, переставшей приносить доход, и в
промежуток времени, протекший после того, как мистер Брук написал Уиллу,
желание заставить мир прислушаться к себе, зародыш которого таился в его
душе с юношеских лет, но до сих пор оставался в небрежении, теперь дал под
покровом тайны обильные всходы.
Содействовал этому и молодой гость. Он оказался даже восхитительней,
чем предвкушал мистер Брук. Ибо Уилл, по-видимому, не только был
превосходно осведомлен во всех областях искусства и литературы, которыми
мистер Брук в свое время занимался, но так же поразительно умел схватывать
особенности политической ситуации и освещать их с той широтой, какая при
наличии прекрасной памяти выражается в большом количестве цитат и общей
эффектности.
- Он мне напоминает Шелли (*110), знаете ли, - при первом же удобном
случае сообщил мистер Брук, чтобы доставить удовольствие мистеру
Кейсобону. - Не в каком-либо неблаговидном смысле - атеизм, знаете ли,
распущенность, ну и так далее. Убеждения Ладислава во всех отношениях
здравы, я уверен - вчера вечером мы очень долго беседовали. Но он не
меньше его преклоняется перед свободой, вольностью, эмансипацией - при
должном руководстве отличные идеи, знаете ли. Я думаю, что сумею поставить
его на правильную дорогу. И мне это тем более приятно, что он ваш
родственник, Кейсобон.
Хотя речь мистера Брука была весьма расплывчата, мистер Кейсобон
невольно пожелал про себя, чтобы "правильная дорога" означала нечто более
конкретное - какое-нибудь место подальше от Лоуика. Он испытывал неприязнь
к Уиллу, даже пока помогал ему, но теперь, когда Уилл отказался от этой
помощи, его неприязнь еще увеличилась. Так бывает со всеми нами, когда в
нас живет подозрительная ревность: если наши таланты пригодны главным
образом для того, чтобы, так сказать, прокладывать ходы под землей, то,
разумеется, наш упивающийся нектаром родич (который по серьезным причинам
вызывает наше неудовольствие) исподтишка питает к нам презрение, и всякий,
кто его хвалит, тем самым косвенно принижает нас. Будучи людьми
щепетильными, мы не доходим до такой низости, чтобы вредить ему, а,
наоборот, во исполнение родственного долга спешим сами его
облагодетельствовать. Каждый подаренный ему чек доказывает наше
превосходство и тем смягчает нашу горечь. И вдруг мистера Кейсобона
капризно лишили права чувствовать свое превосходство (разве что в
воспоминаниях). Его антипатия к Уиллу родилась не из обычной ревности
старого мужа, она была куда более глубока и питалась всеми обманутыми
надеждами и разочарованиями его жизни. Однако Доротея, раз уж она вошла в
его жизнь, Доротея, молодая жена, которая и сама проявила оскорбительные
критические наклонности, способствовала усилению и прояснению этого
чувства, прежде довольно смутного.
Уилл Ладислав, со своей стороны, вместо благодарности испытывал все
большую неприязнь к мистеру Кейсобону и без конца спорил с собой,
оправдывая ее. Кейсобон его ненавидит, в этом он не сомневался: злобно
сжатые губы и полный яда взгляд, каким он был встречен, перевешивают былые
одолжения и прямо-таки требуют открытой войны. Да, он многим обязан
Кейсобону, но, право же, подобная женитьба перечеркивает любые
обязательства. Неужели благодарность за добро, сделанное тебе, запрещает
негодовать, когда другому причиняют зло? А Кейсобон, женившись на Доротее,
причинил ей большое зло. Человек обязан лучше понимать, что он такое, и
если ему нравится до седых волос грызть кости в темной пещере, у него нет
права заманивать туда юную девушку. "Никакое самое ужасное
жертвоприношение не сравнится с этим!" - воскликнул Уилл и нарисовал себе
внутренние муки Доротеи так живо, словно клал на музыку причитания
греческого хора. Но он ее не покинет. Он станет оберегать ее - да, станет,
пусть ради этого ему придется отказаться от чего угодно! Зато она будет
знать, что у нее есть преданный раб! Уилл (используя выражение сэра Томаса
Брауна) (*111) был склонен к "страстной щедрости" речи, говорил ли он сам
с собой или с другими. На самом же деле все обстояло гораздо проще: в то
время ему больше всего на свете хотелось видеть Доротею.
Однако законные поводы для этого выпадали редко: в Лоуик его не
приглашали. Правда, мистер Брук, всегда готовый сделать мистеру Кейсобону
приятное (бедняга так поглощен своими занятиями, что становится
забывчив!), несколько раз привозил Ладислава в Лоуик, а во всех других
местах при каждом удобном случае представлял его как молодого родственника
Кейсобона. И хотя Уилл ни разу не оставался с Доротеей наедине, этих
встреч оказалось достаточно, чтобы к ней вернулось ощущение духовной
общности с этим молодым человеком, который, хотя и был умнее ее, тем не
менее охотно соглашался с ее доводами. До замужества бедняжка Доротея ни у
кого не находила отклика своим заветным мыслям, и, как известно,
снисходительные поучения супруга приносили ей гораздо меньше радости, чем
она ожидала. Если она начинала говорить с мистером Кейсобоном о том, что
ее интересовало, он выслушивал ее с терпеливым видом, точно она цитировала
хрестоматию, известную ему с детских лет, порой сухо сообщал, какие
древние авторы исповедовали подобные идеи, словно считал, что их и так
вполне достаточно, а порой указывал, что она ошибается, и повторял то,
против чего она возражала.
Но Уилл Ладислав, казалось, всегда находил в ее словах больше, чем она
в них вкладывала. Доротея не отличалась тщеславием, но в ней жила обычная
потребность пылкой женской души благостно царствовать, даря счастье другой
душе. Вот почему даже эти мимолетные встречи с Уиллом словно на миг
распахивали окошко в стене ее темницы, впуская туда солнечные лучи, и,
радуясь им, она мало-помалу переставала тревожиться о том, как мог
истолковать ее муж приглашение, которое мистер Брук послал Уиллу. Сам же
мистер Кейсобон ни разу ни словом, ни намеком не коснулся этой темы.
Однако Уилл жаждал увидеться с Доротеей наедине, и у него не хватало
терпения покорно ждать счастливого случая. Пусть редки и кратки были
земные свидания Данте и Беатриче, Петрарки и Лауры, времена меняются, и
более поздние века предпочитают, чтобы сонетов было поменьше, а встреч и
разговоров - побольше. Необходимость извиняет хитрости, но к какой
хитрости мог он прибегнуть, не оскорбив Доротею? В конце концов он решил,
что ему просто необходимо написать уголок парка в Лоуике, и как-то утром,
когда мистер Брук отправился в город по Лоуикской дороге, попросил
подвезти его до Лоуика вместе с этюдником и складным стулом. Там, не
заходя в дом, он расположился в таком месте, откуда должен был увидеть
Доротею, если бы она вышла на прогулку, - а он знал, что в эти часы она
обычно гуляет.
Но его хитрость оказалась бессильной перед погодой. Небо со
злокозненной быстротой заволокли тучи, хлынул дождь, и Уиллу пришлось
искать приюта в доме. Он намеревался на правах родственника пройти без
доклада в гостиную и переждать там. В передней он попросил дворецкого,
своего старого знакомого:
- Не докладывайте обо мне, Прэтт. Я подожду до второго завтрака. Я
знаю, мистер Кейсобон не любит, чтобы его беспокоили, когда он занимается
в библиотеке.
- Хозяина нет дома, сэр. Миссис Кейсобон в библиотеке одна Так я, сэр,
доложу ей о вас, - сказал Прэтт, краснощекий толстяк, любивший поболтать с
Тэнтрип и вполне согласный с ней в том, что барыня, наверное, скучает.
- Ну, хорошо. Этот проклятый дождь помешал мне писать, - ответил Уилл,
охваченный такой радостью, что изобразить безразличие оказалось
удивительно легко.
Минуту спустя он уже входил в библиотеку, и Доротея поднялась ему
навстречу с милой непринужденной улыбкой.
- Мистер Кейсобон поехал к архидьякону, - сразу же объяснила она. - Я
не знаю, когда он вернется. Возможно, только к обеду. Он не мог сказать,
сколько времени там пробудет. Вам нужно было с ним о чем-нибудь
поговорить?
- Нет. Я приехал посидеть с альбомом, но дождь прогнал меня из парка. Я
думал, мистер Кейсобон работает в библиотеке, а мне известно, как он не
любит, чтобы ему мешали в этот час.
- В таком случае, дождь оказал мне услугу. Я очень рада вас видеть. -
Доротея произнесла эти банальные слова с безыскусственной искренностью
тоскующей в пансионе маленькой девочки, которую вдруг навестили родные.
- На самом деле я приехал, чтобы попытаться увидеть вас одну, - сказал
Уилл, почему-то чувствуя, что должен ответить ей такой же искренностью, и
даже не сделал паузы, чтобы спросить себя: а почему бы и нет? - Мне
хотелось поговорить с вами о всякой всячине, как в Риме. Но в присутствии
других людей получается совсем не то.
- Да, - столь же безыскусственно согласилась Доротея. - Так садитесь
же.
Она опустилась на темную оттоманку перед рядами книг в коричневых
переплетах. На ней было простое белое шерстяное платье, и ни одной
драгоценности, ни одного украшения, если не считать обручального кольца.
Можно было подумать, что она дала клятву не походить на других женщин.
Уилл сел напротив, и свет падал на его блестящие кудри, на тонкий
чуть-чуть упрямый профиль, на дерзкую линию губ и подбородка. Они смотрели
друг на друга, как два только что раскрывшихся цветка. Доротея на миг
забыла таинственное озлобление мужа против Уилла: разговаривая без тревоги
и опасений с единственным человеком, который понимал ее мысли, она словно
освежала жаждущие губы ключевой водой. Ведь вспоминая в грустные минуты
былое утешение, она невольно его преувеличивала.
- Я часто думала, что была бы рада снова побеседовать с вами, - сказала
она тут же. - Просто удивительно, о чем только я вам ни говорила.
- И я все помню, - ответил Уилл, чью душу переполняло невыразимое
блаженство оттого, что перед ним была женщина, достойная самой высокой
любви. Мне кажется, его собственные чувства были в то мгновение безупречно
высокими, ибо нам, смертным, выпадают божественные мгновения, когда любовь
обретает удовлетворение в совершенстве своего предмета.
- С тех пор как мы виделись с вами в Риме, я многому научилась, -
продолжала Доротея. - Я немного знаю по-латыни и начинаю чуть-чуть
понимать греческий. Теперь я способна больше помогать мистеру Кейсобону -
нахожу нужные ссылки, чтобы поберечь его глаза, и еще многое. Но очень
трудно стать ученым: люди словно бы утомляются на пути к великим мыслям и
от усталости уже не в силах достичь их в полной мере.
- Если человек способен к великим мыслям, он, наверное, успевает
обрести их до того, как одряхлеет, - быстро сказал Уилл, не удержавшись,
от намека, но тут же заметил по изменившемуся лицу Доротеи, что она не
менее быстро уловила этот намек, и поспешил добавить: - Впрочем,
совершенно справедливо и то, что многие великие умы порой перенапрягались,
отшлифовывая свои идеи.
- Вы правы, - сказала Доротея. - Я неточно выразилась. Я подразумевала,
что создатели великих мыслей слишком устают, чтобы отшлифовывать их. Я
думала об этом даже в детстве и всегда чувствовала, что хотела бы
посвятить жизнь помощи кому-нибудь из тех, кто занят великим трудом, и
хоть немного облегчить его ношу.
Доротея рассказала о своей детской мечте, нисколько не предполагая, что
ее слова могут явиться откровением, но для Уилла они ярким светом осветили
загадку ее брака. Он не пожал плечами и, лишенный возможности облегчить
душу этим движением, со злостью подумал о прекрасных губах, целующих
святые черепа и прочие пустоты, одетые церковной парчой. Но он постарался
ничем не выдать своего раздражения.
- Однако, помогая, вы можете утратить меру и переутомитесь сами, -
сказал он. - По-моему, вы слишком много времени проводите взаперти. Раньше
вы были не так бледны. Лучше бы мистер Кейсобон взял секретаря: он без
труда найдет человека, который освободит его от половины работы. Это
сберегло бы ему много сил, а вам осталось бы только скрашивать его досуг.
- Как вы могли об этом подумать? - произнесла Доротея тоном глубокого
упрека. - Если я перестану помогать ему, то буду несчастна. Чем мне тогда
заняться? В Лоуике нет бедняков, нуждающихся в моих заботах. Я была бы
рада помогать ему еще больше. А секретаря он брать не хочет. Пожалуйста,
никогда больше об этом не упоминайте.
- Конечно, раз я знаю теперь ваши желания. Но ведь то же самое говорят
мистер Брук и сэр Джеймс Четтем.
- Да, но они не понимают... - сказала Доротея. - Они хотели бы, чтобы я
побольше ездила верхом, а для развлечения занялась перепланировкой сада и
постройкой оранжерей. Мне казалось, вы понимаете, что можно желать
совершенно иного, - добавила она с некоторой досадой. - И к тому же мистер
Кейсобон не хочет и слышать о секретаре.
- Моя ошибка извинительна, - сказал Уилл. - В прежние времена я не раз
слышал, как мистер Кейсобон выражал желание взять секретаря. Он даже
предлагал эту должность мне. Но я оказался... недостаточно хорош.
Доротея постаралась найти оправдание явной враждебности мужа и заметила
с веселой улыбкой:
- Вернее, недостаточно прилежен.
- Да, - ответил Уилл, встряхивая головой, как норовистый конь, и тут же
бес раздражения подтолкнул его выщипнуть еще одно перышко из крыльев славы
бедного мистера Кейсобона. - С тех пор я заметил, что мистер Кейсобон
никому не показывает свой труд во всей совокупности и предпочитает
скрывать, что он делает. Он слишком полон сомнений, слишком мало уверен в
себе. Возможно, я и правда никуда не гожусь, но он-то меня не любит
потому, что я с ним не соглашаюсь.
Уилл намеревался быть великодушным, но наши языки - это курки, которые
спускаются прежде, чем мы успеваем вспомнить о наших великодушных
намерениях. Да и нельзя же оставлять Доротею в заблуждении - она должна
знать, почему мистер Кейсобон его не терпит. Тем не менее он испугался,
что его слова произвели на нее дурное впечатление.
Однако Доротея не вспыхнула, как тогда в Риме, и несколько секунд
хранила непонятное молчание. На то была своя глубокая причина. Она уже не
восставала против фактов, а старалась понять их и приспособиться к ним.
Теперь, когда она думала о неудаче своего мужа и о том, что он, возможно,
сознает эту неудачу, перед ней открывался только один путь, на котором
долг преображался в нежность. Она отнеслась бы строже к несдержанности
Уилла, если бы не чувствовала, что неприязнь мистера Кейсобона, веской
причины для которой она пока не находила, дает ему право на ее симпатию.
Доротея опустила глаза в задумчивом молчании, а затем сказала с
живостью:
- Поступки мистера Кейсобона показывают, что он умел побороть свою
неприязнь к вам, и это прекрасно.
- Да, в семейных делах ему нельзя отказать в справедливости. Просто
чудовищно, что мою бабушку лишили наследства за мезальянс, как они
выражались. Хотя в вину ее мужу можно было поставить только то, что он был
польским эмигрантом и жил уроками.
- Мне бы хотелось узнать о ней побольше! - воскликнула Доротея. - Как
она свыклась с бедностью после богатства, была ли она счастлива со своим
мужем. Вам много о них известно?
- Нет. Только - что дед мой был патриотом... талантливым человеком...
говорил на многих языках, был хорошим музыкантом... и зарабатывал себе на
хлеб преподаванием самых разных предметов. Они оба умерли еще молодыми. И
о своем отце я знаю очень мало - только то, что мне рассказывала матушка.
Но он унаследовал музыкальный талант деда. Я помню его медлительную
походку, длинные худые пальцы. И еще тот день, когда он лежал больной, а я
был очень голоден, но мне дали только маленький кусочек хлеба.
- Как эта жизнь не похожа на мою! - взволнованно произнесла Доротея,
крепко сжав руки. - Я всегда все имела в излишке. Но расскажите, почему
так случилось... конечно, мистер Кейсобон тогда еще ничего о вас не знал.
- Да. Но мой отец написал мистеру Кейсобону, и это был мой последний
голодный день. Отец вскоре умер, а мы с матушкой больше не знали нужды.
Мистер Кейсобон всегда прямо признавал, что заботиться о нас - его
обязанность, так как с сестрой его матери обошлись несправедливо и
жестоко. Впрочем, все это вы уже знаете и ничего нового тут для вас нет.
В глубине души Уилл сознавал, что хотел бы сказать Доротее нечто совсем
новое даже для его собственного истолкования событий - а именно, что
мистер Кейсобон всего лишь выплачивал свой долг. Уилл был слишком
порядочным и добрым малым, и ему неприятно было ощущать себя
неблагодарным. Но когда благодарность становится предметом рассуждений,
есть много способов вырваться из ее пут.
- Напротив, - ответила Доротея. - Мистер Кейсобон всегда избегал
подробно говорить о своих благородных поступках. - Она не заметила,
насколько объяснения Уилла принижают поведение ее мужа, но зато в ее
сознании прочно укоренилась мысль, что мистер Кейсобон делал для Уилла
Ладислава не более, чем того требовала справедливость. Помолчав, она
добавила: - Он не говорил мне, что помогал вашей матушке. А она жива?
- Нет. Она умерла четыре года назад вследствие несчастного случая...
Она упала и тяжело ушиблась. Как ни странно, моя мать тоже убежала из
родительского дома, но не для того, чтобы выйти замуж. Она ничего не
рассказывала мне о своих родных - только объяснила, что порвала с ними,
чтобы самой зарабатывать свой хлеб... Собственно говоря, она поступила на
сцену. У нее были темные глаза, пышные кудри, и она выглядела удивительно
молодо. Как видите, я по обеим линиям унаследовал непокорную кровь, -
закончил Уилл и весело улыбнулся Доротее, которая все еще смотрела прямо
перед собой серьезным завороженным взглядом, точно ребенок, впервые в
жизни следящий за драмой, развертывающейся на театральных подмостках.
Однако она тоже улыбнулась и сказала:
- Вероятно, так вы оправдываете собственную непокорность. То есть
нежелание считаться с мнением мистера Кейсобона. Но не забывайте, вы ведь
не следовали его благожелательным советам. И если он питает к вам
неприязнь... это вы так выразились, но я скажу иначе: если он был с вами
неприветлив, то подумайте о том, каким нервным сделало его переутомление
от занятий. Быть может, - продолжала она умоляющим тоном, - дядя не
говорил вам, насколько серьезной была болезнь мистера Кейсобона. Нагл ли,
тем, кто здоров, кому легко терпеть, считаться мелочными обидами с теми,
кто страдает?
- Вы помогаете мне стать лучше. И я никогда больше не буду ворчать по
этому поводу, - ответил Уилл с кроткой нежностью, но в душе он ликовал,
убедившись, что чувство Доротеи к мужу (хотя сама она этого еще почти не
замечала) все больше переходит в отвлеченную жалость и лояльность. Уилл
был готов преклониться перед жалостью и лояльностью, лишь бы она захотела,
чтобы он разделял их. - Я действительно обижался по пустякам, - продолжал
он. - Но я постараюсь больше никогда не говорить и не делать ничего, что
вы могли бы не одобрить.
- Вы очень любезны, - сказала Доротея, снова весело улыбнувшись. -
Итак, у меня теперь есть маленькое королевство, послушное моим законам. Но
вы недолго будете нести иго моей власти. Вам, наверное, скоро надоест
гостить в Типтон-Грейндже.
- Вот об этом-то я и хотел поговорить с вами - поговорить наедине.
Мистер Брук предлагает мне остаться здесь. Он купил одну из мидлмарчских
газет и хочет, чтобы я вел ее, а также помогал ему во многом другом.
- Но ведь так вы принесете в жертву более высокое предназначение? -
сказала Доротея.
- Быть может. Но меня всегда упрекали в том, что я думаю о
предназначениях, вместо того чтобы заняться делом. И вот мне предлагают
место. Если вы сочтете, что мне следует отказаться, я откажусь, хотя
предпочел бы остаться тут, а не уезжать. Ведь больше у меня нигде никого
нет.
- Я буду очень рада, если вы останетесь, - тотчас ответила Доротея
столь же просто и бесхитростно, как во время их бесед в Риме, и без
малейшей мысли о том, что ей не следовало говорить так.
- Тогда я останусь, - сказал Уилл, встряхивая головой. Он встал и
подошел к окну, словно желая удостовериться, что дождь прекратился.
Однако тут Доротея по новой своей привычке подумала, что ее муж
отнесется к этому иначе, и густо покраснела, вдвойне смутившись: она не
только высказала мнение, заведомо неприятное мистеру Кейсобону, но ей еще
придется объяснить это Уиллу. Немного ободренная тем, что он стоит к ней
спиной, она заставила себя сказать:
- Но мое мнение тут роли не играет. Мне кажется, вы должны
посоветоваться с мистером Кейсобоном. Я исходила лишь из того, что
чувствую, а это никакого отношения к сути вопроса не имеет. И мне пришло в
голову... может быть, мистер Кейсобон сочтет, что это было бы неразумно.
Вы не подождете его возвращения?
- К сожалению, мне пора, - ответил Уилл, испуганно представив себе, что
мистер Кейсобон входит в дверь. - Дождь кончился. Я просил мистера Брука
не заезжать за мной. Мне приятнее прогуляться пять миль пешком. Я пойду
напрямик через Холселлский луг и полюбуюсь, как блестит мокрая трава.
Он торопливо подошел к ней попрощаться. Его томило желание сказать: "Не
говорите об этом мистеру Кейсобону", но он не посмел. Попросить ее
покривить душой, схитрить - значило бы затуманить своим дыханием кристалл,
светлой прозрачностью которого восхищаешься. И еще одна грозная опасность
- самому потускнеть в ее глазах, лишиться солнечного блеска.
- Жаль, что вы не можете остаться, - грустно сказала Доротея, вставая и
протягивая ему руку. У нее тоже мелькнула мысль, которую она не хотела
высказать вслух. Уиллу следует как можно скорее узнать желания мистера
Кейсобона! Но если бы она начала настаивать, это значило бы злоупотребить
его любезностью.
А потому они сказали только "до свидания", и Уилл, выйдя на аллею,
тотчас свернул с нее и быстро пошел через луг, чтобы не попасться
навстречу карете мистера Кейсобона, которая, впрочем, въехала в ворота
только в четыре. Это был неудачный час для возвращения домой: слишком
ранний, чтобы собраться с нравственными силами для скучного переодевания к
обеду, и слишком поздний, чтобы, освободив мысли от воспоминаний о
тривиальных делах и пустых разговорах, еще успеть погрузиться в серьезные
занятия. В подобных случаях он чаще всего опускался в кресло в библиотеке,
закрывал глаза и позволял Доротее почитать ему лондонские газеты. Однако
на сей раз он отказался от этого развлечения, заметив, что сегодня
выслушал уже достаточно подробностей о том, что занимает внимание публики.
Но когда Доротея спросила, не устал ли он, мистер Кейсобон ответил веселее
обычного и добавил с тем церемонным видом, который сохранял, даже когда
снимал жилет и галстук:
- Сегодня я имел удовольствие встретить моего старинного знакомца
доктора Спэннинга и выслушать похвалы того, кто сам заслуженно восхваляем.
Он весьма любезно отозвался о моем последнем трактате, посвященном
египетским мистериям, - настолько любезно, что мне неловко повторять его
слова. - Договорив последнее придаточное предложение, мистер Кейсобон
оперся на ручку кресла и несколько раз кивнул - по-видимому, чтобы размять
шею, а не в подтверждение сказанного доктором Спэннингом, что было бы
неловко.
- Как хорошо, что вы встретились с ним! - сказала Доротея, радуясь, что
ее муж выглядит оживленнее обычного. - Но до вашего возвращения я жалела,
что вам пришлось сегодня уехать.
- Почему же, моя дорогая? - спросил мистер Кейсобон, вновь откидываясь
на спинку кресла.
- Потому что приходил мистер Ладислав и упомянул о предложении, которое
сделал ему мой дядя. Мне хотелось бы узнать ваше мнение.
Доротея чувствовала, что ее мужу это не может быть безразлично. Как ни
мало знала она о мире и его делах, ей все же казалось, что предложенное
Уиллу место не вполне соответствует его родственным связям, а потому у
мистера Кейсобона есть право ждать, что с ним посоветуются.
- У дядюшки, как вам известно, есть множество проектов. И он, кажется,
купил какую-то мидлмарчскую газету и попросил мистера Ладислава остаться
здесь, вести эту газету и помогать ему во многом другом.
Говоря все это, Доротея смотрела на мужа. Сначала он заморгал, потом
закрыл глаза, словно давая им отдохнуть, и крепче сжал губы.
- Так что же вы скажете? - робко спросила она после короткой паузы.
- Мистер Ладислав приезжал, чтобы узнать мое мнение? - осведомился
мистер Кейсобон, чуть приоткрыв глаза и бросая на Доротею взгляд, острый
как нож. Доротею этот вопрос немного смутил, но она стала только чуть
серьезней и ответила сразу, не отводя глаз:
- Нет. Он не сказал, что приехал узнать ваше мнение. Но он, конечно,
полагал, что я расскажу вам о дядином предложении.
Мистер Кейсобон промолчал.
- Я боялась, что вы будете против. Но ведь такой талантливый молодой
человек может быть очень полезен дяде... он поможет ему делать добро более
умело. И мистер Ладислав хочет найти постоянное занятие. Его винили,
говорит он, за то, что он все медлил заняться делом, и ему хотелось бы
остаться здесь, так как больше у него нигде никого нет.
Доротея не сомневалась, что это соображение должно смягчить ее мужа. Но
он продолжал молчать, и она вернулась к завтраку у архидьякона и к доктору
Спэннингу, однако эта тема уже не рассеяла туч.
На следующее утро мистер Кейсобон без ведома Доротеи отправил следующее
письмо, начинающееся с обращения "Дорогой мистер Ладислав" (прежде он
всегда называл его Уиллом):
"Миссис Кейсобон поставила меня в известность о том, что вам предложено
место, каковое вы, по-видимому, намерены принять и остаться здесь в таком
качестве, которое, как у меня есть все основания утверждать, затрагивает
мое собственное положение таким образом, что с моей стороны не только
естественно и позволительно, если рассматривать последствия в свете вполне
законного чувства, но и совершенно необходимо, если взглянуть на них в
свете моих обязанностей, прямо и сразу указать, что принятие вами
вышеупомянутого предложения будет для меня весьма оскорбительным. Полагаю,
я обладаю тут определенным правом вето, как не стал бы отрицать ни один
разумный человек, осведомленный об отношениях между нами - отношениях,
которые, хотя из-за ваших недавних действий и отошли в область прошлого,
однако этого прошлого тем самым не аннулировали. У меня нет желания
ставить под сомнение чью-либо способность суждения. Мне достаточно
напомнить вам о существовании определенных общественных норм и приличий,
каковые должны бы воспрепятствовать моему не такому уж дальнему
родственнику более или менее заметно фигурировать здесь, заняв положение
не только много ниже моего собственного, ко и связанное в лучшем случае с
невежественными претензиями литературных и политических авантюристов. Во
всяком случае, иной исход неминуемо закроет перед вами двери моего дома.
Искренне ваш
Эдвард Кейсобон".
Тем временем Доротея в полном неведении готовила новый повод для
ожесточения своего мужа, сначала сочувственно, а потом и с волнением
размышляя о том, что рассказал ей Уилл про своих родителей и деда с
бабкой. Свободные часы она обычно проводила в зелено-голубом будуаре и не
только свыклась с его старомодной блеклостью, но и полюбила ее. Внешне там
все оставалось прежним, но, по мере того как лето мало-помалу воцарялось
на лугах за вязовой аллеей, безликая комната одевалась отблесками
внутренней жизни и словно наполнялась роем добрых (или злых) ангелов -
невидимыми, но деятельными образами наших духовных побед или наших
духовных падений. Доротея так привыкла в минуты душевных борений и
обретения новой решимости смотреть в даль аллеи на закатное небо в рамке
темных деревьев, что вид этот исполнился особого смысла. Даже выцветший
олень, казалось, глядел на нее понимающими глазами и безмолвно говорил:
"Да, мы знаем". И люди на изящных миниатюрах как будто не скорбели о своем
земном жребии, а с сочувственным интересом внимали ей. Даже таинственная
"тетка Джулия", о которой мистер Кейсобон, когда Доротея пыталась его
расспрашивать, отвечал коротко и неохотно.
Теперь же, после разговора с Уиллом, вокруг тетки Джулии, которая была
бабушкой Уилла, витало много новых образов, и прелестный портрет, так
напоминавший знакомое живое лицо, помогал Доротее разбираться в ее
чувствах. Как жестоко и несправедливо лишить девушку семьи и наследства
только за то, что она отдала сердце бедняку! Доротея, совсем еще крошкой
смущавшая старших вопросами о самых неожиданных вещах, составила
собственное мнение об исторических и политических причинах, объяснявших,
почему старшие сыновья обладают особыми правами и зачем нужны майораты.
Причины эти внушали ей почтение, и она полагала, что, возможно, не
постигает всей их важности, но здесь ведь речь шла только о семейных узах.
Здесь речь шла о дочери, чей сын - даже с точки зрения богатых
бакалейщиков и всех прочих, кто рабски копирует аристократические
институты, хотя их "родовые земли" включают только палисадник да задний
двор, - обладал преимущественным правом. Что должно определять право на
наследство - личные чувства или долг? Для Доротеи тут не могло быть
никаких сомнений. Долг! Исполнение обязательств, которые мы сами на себя
налагаем, когда вступаем в брак и даем жизнь детям.
Мистер Кейсобон действительно в долгу у Ладиславов, сказала она себе, и
обязан вернуть то, что у них несправедливо отняли. Тут ее мысли обратились
к завещанию мужа, которое было составлено перед свадьбой и назначало ее
единственной наследницей с определенными оговорками на случай, если у них
будут дети. Завещание надо безотлагательно изменить! Предложенное Уиллу
Ладиславу место как раз дает возможность устроить все по-иному и
справедливо. Ее муж, конечно, согласится: порукой тому все его прежние
поступки. Он примет более честную точку зрения, если на нее укажет она -
та, кому должно отойти это неправедно завещанное состояние. Его
щепетильность превозмогала и вновь превозможет всякую антипатию. Мистер
Кейсобон, кажется, не одобрил плана дяди, но тем удобнее именно сейчас все
переменить - вместо того чтобы начинать жизнь бедняком и хвататься за
первое предложенное ему место, Уилл начнет жизнь, располагая законным
доходом, который будет выплачивать ему ее муж, немедленно изменив
завещание так, чтобы Уилл продолжал получать этот доход и после его
смерти. Доротее казалось, что на нее хлынул поток солнечного света и
рассеял туман глупой сосредоточенности на самой себе, которая оставляла ее
равнодушной и нелюбопытной к отношениям между ее мужем и другими людьми.
Уилл Ладислав, отказавшись от дальнейшей помощи мистера Кейсобона,
поступил неверно, а мистер Кейсобон не вполне отдавал себе отчет в лежащих
на нем обязанностях.
- Но он все поймет! - воскликнула Доротея. - В том то и заключается
великая сила его характера. Да и на что нам деньги? Мы не тратим и
половины нашего дохода. А мои деньги не приносят мне ничего, кроме
угрызений совести.
Разделение предназначенного ей состояния, которое она всегда считала
чрезмерным, показалось Доротее удивительно заманчивым. Видите ли, она была
слепа к тому, что другим представлялось очевидным, и часто не замечала,
где она и что у нее под ногами, о чем ей в свое время сказала Селия.
Однако ее слепота ко всему, кроме собственных чистых намерений, помогала
ей благополучно проходить мимо пропастей, когда зрячий мог бы стать
жертвой губительного страха.
Мысли, ставшие столь ясными в уединении будуара, продолжали занимать
Доротею весь день - тот день, когда мистер Кейсобон отправил письмо Уиллу.
Ей не терпелось открыть мужу свое сердце, но с разговорами, которые могли
отвлечь его от занятий, не следовало торопиться, а к тому же со времени
его болезни она страшилась взволновать его. Однако когда юная душа жаждет
благородного деяния, оно словно обретает самостоятельное существование и
легко преодолевает любые мысленные препятствия. День прошел уныло - что не
было необычным, хотя мистер Кейсобон был, пожалуй, необычно молчалив. Но
оставались еще ночные часы, пожалуй, даже более подходящие для разговора,
так как Доротея, едва она замечала, что мужа томит бессонница, обыкновенно
вставала, зажигала свечу и читала ему, пока он не засыпал. А в эту ночь,
взволнованная принятым решением, она вовсе не смыкала глаз. Мистер
Кейсобон, как обычно, проспал два-три часа, но Доротея тихонько поднялась
и около часа сидела в темноте, пока он, наконец, не сказал:
- Доротея, раз вы встали, то вам не трудно будет зажечь свечу?
- Вы плохо себя чувствуете, дорогой? - спросила Доротея, исполнив его
просьбу.
- Нет, отнюдь. Но раз уж вы встали, я хотел бы, чтобы вы почитали мне
Лоута (*112).
- А можно мне немножко с вами поговорить? - спросила она.
- Разумеется.
- Я весь день думала о деньгах - о том, что у меня их всегда было
слишком много. А главное, это "слишком" может стать еще больше.
- Такова, дорогая Доротея, воля провидения.
- Но если у одного их слишком много, потому что с другим обошлись
несправедливо, мне кажется, следует повиноваться божьему гласу,
наставляющему нас загладить несправедливость.
- К чему вы это говорите, любовь моя?
- Вы были слишком щедры ко мне... Я имею в виду то, как вы меня
обеспечили. И это меня огорчает.
- Но почему же? У меня ведь нет никаких родственных связей, кроме
довольно дальних.
- Последнее время я все думаю о вашей тетке Джулии и о том, как ее
обрекли на бедность только потому, что она вышла замуж за бедняка. А это
нельзя считать проступком - ведь он был достойным человеком. Вот почему, я
знаю, вы дали образование мистеру Ладиславу и позаботились о его матери.
Доротея сделала паузу в ожидании ответа, который помог бы ей
продолжать. Но мистер Кейсобон молчал, и ее следующие слова показались ей
особенно убедительными потому, что прозвучали среди темного безмолвия.
- Но ведь мы должны признать, что он имеет право на большее, на
половину того, что вы, как я знаю, предназначили мне. И мне кажется, это
достаточное основание, чтобы теперь же возместить ему все. Несправедливо,
если он страдает от бедности, а мы богаты. И раз место, о котором он
говорил, вызывает возражения, то возвращение его законного положения и его
законной доли откроет перед ним возможность отказаться.
- Мистер Ладислав, вероятно, беседовал с вами на эту тему? - желчно
спросил мистер Кейсобон с необычной для него быстротой.
- Разумеется, нет! - воскликнула Доротея. - Как вы могли это подумать?
Ведь он совсем недавно отказался от вашей помощи! Боюсь, дорогой, вы
слишком строги к нему. Он только рассказал мне кое-что о своих родителях и
о деде с бабкой. Да и то в ответ на мои расспросы. Вы так добры, так
благородны и сделали все, что полагали справедливым. Но, по-моему, нельзя
сомневаться, что справедливость требует большего. И я должна была сказать
об этом - ведь вся так называемая выгода от того, что это большее сделано
не будет, достанется мне.
После ощутимой паузы мистер Кейсобон ответил уже не так быстро, но еще
более желчно:
- Доротея, любовь моя, это не первый случай, хотя, будем надеяться,
последний, когда вы судите о предметах, недоступных вашему пониманию. Я не
стану сейчас касаться вопроса о том, в какой мере определенное поведение и
особенно вступление в нежелательный брак можно считать равносильным отказу
от всех семейных прав. Достаточно того, что вы об этом судить
некомпетентны. Я прошу вас только понять, что я не приемлю никаких
замечаний, не говоря уж о требованиях, относительно круга дел, которые
мною обдуманы и решены, как касающиеся только меня. Вам неприлично
вмешиваться в отношения между мной и мистером Ладиславом и тем более
благосклонно выслушивать от него объяснения, подвергающие сомнению мои
действия.
Бедняжку Доротею, укрытую покровом тьмы, обуревали самые разные
чувства. Страх, как бы эта вспышка гнева не причинила мистеру Кейсобону
вреда, помешал бы ей высказать свое возмущение, даже если бы ее уже не
мучили сомнения и угрызения при мысли, что в его последнем упреке
заключена доля истины. Испуганно прислушиваясь к его учащенному дыханию,
она замерла. Все ее существо безмолвно взывало о помощи. Хватит ли у нее
сил и дальше выносить этот кошмар, эту необходимость все время сдерживать
свою энергию, опасливо гасить каждый порыв? Но ничего не произошло. Ни он,
ни она не произнесли больше ни слова, хотя еще долго лежали без сна.
На следующий день мистер Кейсобон получил от Уилла Ладислава следующий
ответ:
"Дорогой мистер Кейсобон! Я с должным уважением отнесся к вашему
вчерашнему письму, но не могу разделить вашу точку зрения на наше взаимное
положение. Во всей полноте признавая ваши щедроты в прошлом, я тем не
менее по-прежнему считаю, что подобное обязательство, вопреки тому, что,
по-видимому, считаете вы, не может и не должно связывать меня по рукам и
ногам. Бесспорно, желания благодетеля имеют силу, однако многое зависит от
того, каковы эти желания. Они ведь могут вступить в противоречие с более
вескими соображениями. Или же вето благодетеля может разбить человеку
жизнь и его жестокие последствия перевесят все блага, дарованные
великодушием. Я просто привожу крайние примеры. В данном же случае я не
могу согласиться с вами, будто, взяв на себя предложенные мне обязанности
- бесспорно, не сулящие денежных выгод, но ни в чем не противоречащие
правилам порядочности, - я нанесу ущерб вашему положению, которое, мне
кажется, настолько солидно, что столь несущественное обстоятельство никак
не может на него повлиять. И хотя я убежден, что в наших отношениях не
может произойти такого изменения (во всяком случае, оно не произошло),
которое сняло бы с меня обязательства, налагаемые прошлым, вы простите
меня, если я не соглашусь, что они лишают меня свободы жить, где я хочу, и
зарабатывать на жизнь любым избранным мной законным способом. Глубоко
сожалея, что мы здесь расходимся во взглядах на отношения, в которых вам
всегда принадлежала роль великодушного благодетеля, остаюсь вечно
обязанный вам
Уилл Ладислав".
Бедный мистер Кейсобон чувствовал (и храня беспристрастность, мы поймем
его), что у него есть все основания негодовать и питать подозрения. Он не
сомневался, что Уилл Ладислав намерен во всем перечить и досаждать ему,
намерен вкрасться в доверие к Доротее и посеять в ее душе семена
неуважения и, быть может, даже отвращения к мужу. Внезапное решение Уилла
отказаться от его помощи и вернуться в Англию, несомненно, было
продиктовано каким-то тайным побуждением. И вот он упрямо и дерзко
вознамерился поселиться вблизи Лоуика, для чего готов даже принять участие
в мидлмарчских прожектах мистера Брука, что прямо противоречит всем его
прежним вкусам, - следовательно, это тайное побуждение должно быть как-то
связано с Доротеей. Мистер Кейсобон ни на миг не заподозрил Доротею в
двуличии. Нет, он ее ни в чем не подозревал, но он убедился на опыте (и
это было немногим лучше), что ее неприятной склонности судить поведение
мужа сопутствует симпатия к Уиллу Ладиславу и разговоры с ним вредно на
нее влияют. А из-за своей гордой замкнутости мистер Кейсобон по-прежнему
был уверен в том, что мистер Брук пригласил Уилла погостить в
Типтон-Грейндже по просьбе Доротеи.
И теперь, прочитав письмо Уилла, мистер Кейсобон должен был решить, в
чем заключается его долг. Он привык смотреть на свои поступки как на
исполнение долга, и ему было бы тяжело признать в них что-нибудь иное.
Однако на этот раз противоборствующие побуждения заводили его в тупик.
Обратиться прямо к мистеру Бруку и потребовать, чтобы этот неуемный
прожектер взял свое предложение назад? Или посоветоваться с сэром Джеймсом
Четтемом, чтобы вместе с ним попытаться отговорить мистера Брука от этого
шага, который касается всей семьи? Но мистер Кейсобон сознавал, что в
обоих случаях надежда на успех невелика. Упомянуть про Доротею было
немыслимо, а мистер Брук, если не указать ему на какую-нибудь несомненную
и близкую опасность, конечно, выслушает все доводы с видимым согласием, а
в заключение скажет: "Не бойтесь, Кейсобон! Поверьте мне, молодой Ладислав
будет достоин вас! Поверьте, я знаю, что делаю". Мысль же о разговоре с
сэром Четтемом на эту тему вызывала у мистера Кейсобона нервный страх:
отношения между ними оставались самыми холодными, и конечно, сэр Джеймс
без всяких упоминаний сразу подумает о Доротее.
Бедный мистер Кейсобон готов был всех подозревать в недоброжелательном
к себе отношении, особенно как к мужу молодой жены. Дать кому-то повод
предположить, что он ревнует, значило бы согласиться с их (предполагаемой)
оценкой его особы. Позволить им догадаться, как мало блаженства принес ему
брак, было бы равносильно признанию, что они были правы, когда (вероятно)
осудили его помолвку. Нет, это немногим лучше, чем допустить, чтобы Карп и
оксфордские светила узнали, как мало продвинулся он в разборе материала
для своего "Ключа ко всем мифологиям". На протяжении всей жизни мистер
Кейсобон даже от себя скрывал мучительную неуверенность в своих силах, а
также склонность к завистливой ревности. И его привычка к гордой
недоверчивой сдержанности оказалась особенно непреодолимой теперь, когда
дело шло о самой щекотливой из всех личных тем.
А потому мистер Кейсобон продолжал хранить высокомерное горькое
молчание. Однако он запретил Уиллу бывать в Лоуик-Мэноре и мысленно
готовил другие меры противодействия.
38
Суждение людей о человеческих поступках
имеет большую силу: рано или поздно оно
окажет свое действие.
Франсуа Гизо (*113)
Сэр Джеймс Четтем думал о новых замыслах мистера Брука без малейшего
удовольствия, но возражать было легче, чем помешать. И как-то раз,
явившись на завтрак к Кэдуолледерам, он следующим образом объяснил, почему
приехал один:
- Я не могу говорить с вами откровенно в присутствии Селии. Это ее
расстроило бы. И вообще это было бы нехорошо.
- Я понимаю - "Мидлмарчский пионер" в Типтон-Грейндже! - воскликнула
миссис Кэдуолледер, едва он договорил. - Это ужасно: накупить свистулек и
дуть в них на глазах у всех! Даже лежать весь день в постели, играя в
домино, как бедный лорд Плесси, было бы гораздо пристойнее.
- Как вижу, "Рупор" начинает нападать на нашего друга Брука, - заметил
мистер Кэдуолледер, откидываясь на спинку кресла и весело улыбаясь, как
улыбнулся бы газетным нападкам на самого себя. - Жгучие сарказмы по адресу
некоего землевладельца, который проживает не так уж далеко от Мидлмарча,
исправно взыскивает арендную плату и ничего не делает для своих
арендаторов.
- Я бы предпочел, чтобы Брук отказался от этого намерения, - заявил сэр
Джеймс, досадливо сдвинув брови.
- Но выдвинут ли его кандидатуру? - сказал мистер Кэдуолледер. - Вчера
я видел Фербратера... Он ведь сам склоняется к вигам, превозносит Брума
(*114) и его "полезные знания" - это самое скверное, что я о нем знаю...
Ну, так он говорит, что Брук сколачивает довольно-таки сильную клику. Его
сторонников возглавляет Булстрод... Ну, этот банкир. Однако он считает,
что кандидатом Бруку не бывать.
- Совершенно верно, - подтвердил сэр Джеймс. - Я наводил справки: ведь
до сих пор я никогда политикой Мидлмарча не интересовался - с меня
довольно графства. Брук рассчитывает, что Оливер не пройдет, потому что он
поддерживает Пиля. Но Хоули сказал мне, что если уж выдвинут вига, то это
несомненно будет Бэгстер, один из тех кандидатов, которые берутся бог
знает откуда, но зато с большим опытом в парламенте и не идут на поводу у
министров. Хоули человек грубый. Он забыл, что говорит со мной, и прямо
заявил: "Если Брук так уж хочет, чтобы его забросали тухлыми яйцами, то
мог бы найти способ подешевле, чем лезть на трибуну".
- Я вас всех предупреждала! - сказала миссис Кэдуолледер, разводя
руками. - Я давно говорила Гемфри, что мистер Брук взбаламутит грязь. Вот
мы и дождались.
- Ну, ему могло взбрести в голову жениться, - заметил ее муж. - А это
было бы, пожалуй, хуже легкого флирта с политикой.
- Не взбрело, так еще взбредет, - предрекла миссис Кэдуолледер. - Когда
он вынырнет из грязи с болотной лихорадкой.
- Меня особенно тревожит то, как его будут чернить, - сказал сэр
Джеймс. - Конечно, меня заботит и семейное имя, но он уже в годах, и мне
неприятно, что он подставляет себя под удар. Ведь они раскопают против
него все, что смогут.
- Я полагаю, переубедить Брука невозможно, - сказал мистер Кэдуолледер.
- В нем так странно сочетаются упрямство и непоследовательность. Вы с ним
говорили?
- Да нет, - ответил сэр Джеймс. - Мне это не совсем ловко. Словно я
требую от него отчета в его действиях. Но я говорил с этим Ладиславом,
которого Брук прочит себе в помощники. Он далеко не глуп, и я решил
послушать, что он скажет. Так по его мнению, Бруку на этот раз выставлять
свою кандидатуру не следует. И я думаю, он убедит его отложить выставление
кандидатуры.
- Да-да, - кивнула миссис Кэдуолледер. - Независимый кандидат еще не
успел выдолбить свои речи.
- Но этот Ладислав... Тут тоже есть некоторая неловкость, - продолжал
сэр Джеймс. - Мы его раза два-три приглашали пообедать у нас (кстати, вы
же с ним тогда познакомились) - ну, как гостя Брука и родственника
Кейсобона. Мы ведь считали, что он здесь только с визитом. А теперь он
вдруг оказался редактором "Мидлмарчского пионера", и в Мидлмарче о нем
идут толки - его называют безродным писакой, иностранным агентом и бог
знает чем еще.
- Кейсобону это не понравится, - заметил мистер Кэдуолледер.
- Но ведь Ладислав по отцу действительно иностранец, - возразил сэр
Джеймс. - Будем все-таки надеяться, что он не станет проповедовать крайних
мнений и не заразит ими Брука.
- О, он опасная каналья, этот мистер Ладислав! - сказала миссис
Кэдуолледер. - Оперные арии, острый язык. Прямо-таки байронический герой -
влюбленный заговорщик. А Фома Аквинский его не слишком обожает. Я это
сразу заметила в тот день, когда он привез картину.
- Мне не хочется говорить об этом с Кейсобоном, - признался сэр Джеймс.
- Хотя у него больше прав вмешиваться, чем у меня. Очень неприятное
положение, как ни взглянуть. Что за роль для человека с приличными
семейными связями - газетный борзописец! Посмотрите хоть на Кэка, который
редактирует "Рупор". Я на днях встретил его с Хоули. Пишет он вполне
здраво, но сам такой темный субъект, что лучше бы уж он выступал не на
нашей стороне.
- Чего еще ждать от грошовых мидлмарчских листков? - сказал мистер
Кэдуолледер. - Где вы найдете порядочного человека, который будет
отстаивать интересы, в сущности ему чуждые, за плату настолько жалкую, что
даже одеться прилично никак невозможно?
- Совершенно верно. Тем более неприятно, что Брук поставил в такое
положение человека, не совсем чужого его семье. И по-моему, Ладислав
сделал глупость, что согласился.
- Это Фома Аквинский виноват, - вставила миссис Кэдуолледер. - Почему
он не воспользовался своим влиянием, чтобы сделать Ладислава третьим
секретарем какого-нибудь посольства или не отправил его в Индию? Хорошие
семьи именно так избавляются от нашаливших молокососов.
- И неизвестно, как это все обернется, - с тревогой сказал сэр Джеймс.
- Но если Кейсобон молчит, что могу сделать я?
- А, дорогой сэр Джеймс, не надо придавать этому такого значения, -
благодушно произнес мистер Кэдуолледер. - Почти наверное никаких
последствий не будет. Через месяц-другой Брук и этот мистер Ладислав
надоедят друг другу. Ладислав отправится восвояси, а Брук продаст газету.
Тем дело и кончится.
- Есть, правда, надежда, что ему не понравится бросать деньги на ветер,
- сказала миссис Кэдуолледер. - Если бы я могла расчесть по статьям
расходы на предвыборную кампанию, я бы его напугала. Общие слова вроде
"затрат" пользы не принесут: я бы не стала рассуждать об отворении крови,
а просто опрокинула на него банку пиявок. Мы, люди скаредные, больше всего
не терпим, чтобы из нас высасывали наши шиллинги и пенсы.
- И ему не понравится, как его будут чернить, - добавил сэр Джеймс. -
За то, например, как он управляет своим поместьем. А они уже начали. И
ведь тут правда на их стороне - мне самому тяжело на это смотреть. Тем
более что такое творится у меня прямо под боком. Я считаю, что мы обязаны
заботиться о своей земле и о своих арендаторах как следует, и уж тем более
в наши тяжелые времена.
- Худа без добра не бывает, и, может быть, "Рупор" заставит его принять
меры, - сказал мистер Кэдуолледер. - Я был бы только рад. Не пришлось бы
выслушивать столько ворчания и жалоб из-за моей десятины." Хорошо хоть,
что Типтон выплачивает ее мне сообща, не то не знаю, как бы я обходился.
- Ему нужен надежный управляющий, и я бы хотел, чтобы он опять взял
Гарта, - сказал сэр Джеймс. - Он отказал ему двенадцать лет назад, и с тех
пор у него все идет вкривь и вкось. Я сам подумываю о том, чтобы
пригласить Гарта. План для моих построек он сделал превосходный. Лавгуду
до него далеко. Но Гарт возьмется управлять Типтоном, только если Брук
предоставит ему полную свободу.
- Так и следует! - отозвался мистер Кэдуолледер. - Гарт, конечно,
бесхитростный чудак, но он натура независимая. Как-то он производил для
меня оценку и прямо заявил, что духовные лица редко понимают в делах и
только устраивают путаницу. Но высказал он все это спокойно и вежливо,
словно рассуждал со мной о моряках. Если Брук отдаст все на его
усмотрение, Гарт сделает из Типтона образцовый приход. Было бы хорошо,
если бы благодаря "Рупору" вам удалось это устроить.
- Возможно, что-нибудь и удалось бы сделать, если бы Доротея чаще
бывала у дяди, - сказал сэр Джеймс. - Она приобрела бы на него влияние, а
положение дел в поместье ее всегда тревожило. У нее были такие прекрасные
идеи! Но теперь она всецело занята Кейсобоном. Селия постоянно на это
сетует. После его припадка она даже ни разу у нас не обедала, - докончил
сэр Джеймс голосом, в котором жалость мешалась с раздражением, и миссис
Кэдуолледер пожала плечами, словно говоря, что она ничего другого и не
ждала.
- Бедняга Кейсобон! - сказал ее муж. - Припадок был, по-видимому,
тяжелый. На завтраке у архидьякона я заметил, что вид у него совсем
разбитый.
- Собственно говоря, - продолжал сэр Джеймс, не желая обсуждать
"припадки", - Брук ничего дурного никому не желает, а своим арендаторам и
подавно, но есть у него эта привычка - всячески урезывать и сокращать
расходы.
- Послушайте! Это же счастье! - воскликнула миссис Кэдуолледер. -
Все-таки занятие по утрам. В своих мнениях он не слишком тверд, зато
твердо знает содержимое своего кошелька.
- Я убежден, что, урезывая расходы на поместье, кошелька не наполнишь,
- ответил сэр Джеймс.
- О, в скаредности, как и в любой другой добродетели, можно зайти
слишком далеко. Конечно, держать своих свиней впроголодь неумно, -
ответила миссис Кэдуолледер, вставая и выглядывая в окно. - Но помяни
независимого политика, и вот он собственной персоной.
- Как? Брук? - спросил ее муж.
- Да. Ударь по нему "Рупором", Гемфри, а я облеплю его пиявками. А вы
что сделаете, сэр Джеймс?
- По правде говоря, мне не хочется начинать этот разговор с Бруком при
наших с ним отношениях. Все это ужасно неприятно. И ведь достаточно вести
себя, как подобает джентльмену, - сказал добрейший баронет с глубокой
верой в эту простую и четкую программу социального процветания.
- И вы тоже тут, э? - заметил мистер Брук, обходя комнату и обмениваясь
рукопожатиями. - Я собирался заехать к вам, Четтем. Но очень приятно
увидеть всех вместе, знаете ли. Ну, что скажете о событиях? Быстровато
развиваются, да, быстровато. Лаффит (*115) совершенно прав: "Со вчерашнего
дня прошло столетие!" Они живут уже в следующем веке, знаете ли. Наши
соседи по ту сторону Ла-Манша. Идут вперед куда быстрее нас.
- А, да! - сказал мистер Кэдуолледер, беря газету. - "Рупор" как раз
обвиняет вас в том, что вы отстаете от века. Вы не читали?
- Э? Нет, - сказал мистер Брук, опуская перчатки в цилиндр и поспешно
вставляя монокль в глаз. Но мистер Кэдуолледер, не отдавая газеты,
продолжал с улыбкой:
- Вот послушайте! Рассуждения о помещике, проживающем неподалеку от
Мидлмарча, который сам собирает арендную плату. Они называют его самым
закоснелым ретроградом в графстве. Боюсь, это словечко они позаимствовали
из вашего "Пионера".
- А, это все Кэк... безграмотный невежда, знаете ли. Ретроград!
Послушайте, это же превосходно! Вместо "радикал". Они ведь хотят
представить меня радикалом, знаете ли, - парировал мистер Брук с бодрой
самоуверенностью, которая черпает поддержку в невежестве противника.
- Нет, мне кажется, он понимает, что пишет. И наносит довольно
чувствительные удары. Вот например: "Если бы нам пришлось описывать
ретрограда в самом дурном смысле этого слова, то мы бы сказали: это
человек, который провозглашает себя сторонником реформ, в то время как
все, о чем он непосредственно обязан заботиться, приходит в запустение;
это филантроп, который вопиет, когда вешают одного негодяя, и равнодушно
взирает на то, как голодают пять его честных арендаторов; человек, который
кричит о коррупции и взимает за свою землю грабительскую плату; до хрипоты
обличает гнилые местечки и палец о палец не ударит, чтобы починить хотя бы
одни гнилые ворота на своих полях; человек, который радеет о Лидсе и
Манчестере и готов назначить любое число представителей, которые будут
оплачивать свое место в парламенте Из собственного кармана, но не желает
употребить хотя бы малую частицу арендной платы на то, чтобы помочь своему
арендатору с покупкой скота, или на то, чтобы починить прохудившуюся крышу
его сарая, или на то, чтобы его жилище меньше походило на лачугу
ирландского издольщика. Но нам всем известен остроумный ответ на вопрос,
что есть филантроп: "Это человек, чье милосердие увеличивается прямо
пропорционально квадрату расстояния". И дальше в том же духе. Рассуждения
о том, какого рода законодатель может выйти из филантропа, - заключил
мистер Кэдуолледер, бросая газету. Он заложил руки за голову и посмотрел
на мистера Брука смеющимися глазами.
- Послушайте, это же прелестно! - сказал мистер Брук, беря газету и
стараясь притвориться равнодушным. Однако он покраснел и улыбка у него
получилась несколько вымученной. - Вот это - "до хрипоты обличает гнилые
местечки". Я не произнес ни одной речи против гнилых местечек. А что до
хрипоты, так эти люди не понимают настоящей сатиры. Сатира, знаете ли,
должна до определенного предела соответствовать истине. Помнится, кто-то
писал об этом в "Эдинбургском обозрении" (*116): "Сатира должна до
определенного предела соответствовать истине".
- Но про ворота сказано не без меткости, - мягко возразил сэр Джеймс,
стараясь направить разговор в нужное русло. - На днях Дэгли жаловался мне,
что у него на ферме все ворота никуда не годны. Гарт придумал новую
навеску ворот, вы бы испробовали ее. На что же и употреблять свой лес, как
не на это.
- Четтем, вы, знаете ли, увлекаетесь всякими новинками в ведении
хозяйства, - ответил мистер Брук, водя глазами по столбцам "Рупора". - Это
ваш конек, и вы не считаетесь с расходами.
- А по-моему, самый дорогой конек - это выставлять кандидатуру в
парламент, - вмешалась миссис Кэдуолледер. - Говорят, последний
провалившийся в Мидлмарче кандидат - как бишь его фамилия? А, Джайлс! -
потратил на подкупы десять тысяч фунтов и потерпел неудачу, потому что
этого оказалось мало. Локти, наверное, себе кусал от досады.
- Кто-то мне говорил, - смеясь, добавил ее муж, - что в смысле подкупов
Ист-Ретфорду до Мидлмарча ох как далеко!
- Ничего подобного! - возразил мистер Брук. - Тори, те подкупают. Хоули
и его компания подкупают даровым угощением - горячая треска, ну и так
далее, и тащат избирателей к урнам мертвецки пьяными. Но в будущем они уже
не смогут поставить на своем - в будущем, знаете ли. Мидлмарч несколько
отсталый город, я не спорю с отсталыми избирателями. Но мы разовьем их, мы
поведем их вперед. На нашей стороне все лучшие люди.
- Хоули говорит, что на вашей стороне такие люди, от которых вам будет
только вред, - сказал сэр Джеймс. - Он говорит, что от этого банкира
Булстрода вам будет только вред.
- И если вас забросают тухлыми яйцами, - вставила миссис Кэдуолледер, -
то добрая половина их будет предназначена главе вашего комитета. Боже
великий! Вы представьте себе, каково это: выдерживать град тухлых яиц во
имя неверных идей. И помнится, что-то рассказывали о том, как одного
кандидата торжественно понесли в кресле, да и вывалили нарочно в мусорную
яму.
- Тухлые яйца - пустяки в сравнении с тем, как они выискивают каждую
прореху в наших ризах, - заметил мистер Кэдуолледер. - Признаюсь, я бы
трусил, если бы нам, духовным лицам, приходилось ораторствовать на
собраниях, чтобы получить приход. А ну как они перечислят все дни, когда я
удил рыбу! Честное слово, по-моему, истина бьет больнее, чем даже камни.
- Короче говоря, - подхватил сэр Джеймс, - тот, кто намерен заняться
политикой, должен быть готов нести последствия. И должен поставить себя
выше клеветы и злословия.
- Дорогой Четтем, все это очень мило, - знаете ли, - сказал мистер
Брук. - Но как можно поставить себя выше клеветы? Почитайте в истории про
остракизм, преследования, мученичество, ну и так далее. Они неизбежно
выпадали на долю самых лучших людей, знаете ли. Но как говорит Гораций?
Fiat justitia, ruat... [да свершится правосудие и да рухнет... (лат.)]
Что-то в этом духе.
- Совершенно верно, - ответил сэр Джеймс с редкой для себя горячностью.
- Я считаю, что стоять выше клеветы - значит быть в состоянии доказать ее
лживость.
- И что это за мученичество - оплачивать собственные счета! - заметила
миссис Кэдуолледер.
Однако мистер Брук был особенно задет осуждением, которого не сумел
скрыть сэр Джеймс.
- Знаете ли, Четтем, - сказал он вставая и, взяв цилиндр, оперся на
трость, - у нас с вами разные системы. По-вашему, на фермы надо
расходовать как можно больше. Я не утверждаю, что моя система самая лучшая
при всех обстоятельствах. При всех обстоятельствах, знаете ли.
- Время от времени необходимо производить новую оценку, - сказал сэр
Джеймс. - Отдельные починки, конечно, не мешают, но я считаю, что верная
оценка важней всего. А как по-вашему, Кэдуолледер?
- Я согласен с вами. На месте Брука я, чтобы сразу заткнуть "Рупор",
непременно пригласил бы Гарта для новой оценки ферм и дал бы ему полную
свободу в отношении ворот и прочих починок. Таков мой взгляд на
политическую ситуацию, - закончил мистер Кэдуолледер, заложил большие
пальцы в прорези жилета и, посмеиваясь, посмотрел на мистера Брука.
- Я ничего не люблю делать напоказ, знаете ли, - сказал мистер Брук. -
Но назовите мне другого землевладельца, который так легко мирился бы с
задержками арендной платы. Я своих старых арендаторов не выгоняю. Я очень
мягок, разрешите вам сказать, очень мягок. У меня свои идеи, знаете ли, и
я от них не отступаю. А в таких случаях человеку непременно приписывают
эксцентричность, непоследовательность, ну и так далее. Если я изменю свою
систему, то только в соответствии с моими идеями.
Тут мистер Брук припомнил, что забыл отправить срочный пакет, и
поспешил откланяться.
- Мне не хотелось еще больше раздражать Брука, - сказал сэр Джеймс. - Я
вижу, он задет. Но то, что он говорил о своих старых арендаторах... На
нынешних условиях никакой новый арендатор эти фермы не возьмет.
- Мне кажется, его мало-помалу удастся убедить, - сказал мистер
Кэдуолледер. - Но ты тянула в одну сторону, Элинор, а мы в другую. Ты
пугала его расходами, а мы пытались напугать его, чтобы он пошел на новые
расходы. Пусть попробует добиться популярности и увидит, какой помехой
явится его репутация скупого помещика. "Мидлмарчский пионер", Ладислав и
речи, которые Брук намерен держать перед мидлмарчскими избирателями, - это
все пустяки. Важно, чтобы моим типтоновским прихожанам жилось сносно.
- Прости, но это вы тянули не в ту сторону, - объявила миссис
Кэдуолледер. - Вам надо было показать ему, сколько он теряет оттого, что
не заботится об арендаторах, вот тогда бы мы объединили усилия. Если вы
позволите ему оседлать политического конька, ничего хорошего не выйдет.
Это вам не дома на палочках скакать и называть их идеями.
39
Коль в женщине Лик чистоты,
Подобно мне, узрев,
Дерзнул любить отныне ты,
"Он" и "Она" презрев,
И от завистливых людей
Сокрыть любовь сумел.
Что насмеялись бы над ней,
То истинно ты смел.
И пред тобой бледнеет честь
Былых твоих предтеч.
Но много выше подвиг есть -
Сокрытое сберечь.
Джон Донн (*117)
Сэр Джеймс Четтем не был особенно изобретательным, но его стремление
"воздействовать на Брука" в сочетании с неизменной верой в благодетельное
влияние Доротеи помогли ему измыслить небольшой план - под предлогом
легкого нездоровья Селии пригласить Доротею (одну) во Фрешит-Холл, а по
дороге завезти ее в Типтон-Грейндж, предварительно рассказав ей обо всем,
к чему привела система мистера Брука в управлении поместьем.
И вот однажды в четыре часа, когда мистер Брук и Ладислав сидели в
библиотеке, дверь отворилась и слуга доложил о миссис Кейсобон.
Уилл изнывал от скуки и, уныло помогая мистеру Бруку разбирать
"документы", живописавшие повешения за кражу овец, доказывал способность
нашего сознания скакать одновременно на нескольких конях: он мысленно
расставался с Типтон-Грейнджем и снимал квартиру в Мидлмарче, но эти
практические меры перемежались озорными замыслами эпоса, воспевающего
кражу овец с гомеровской наглядностью. Услышав имя миссис Кейсобон, он
вздрогнул как от удара электричеством, и у него даже закололо кончики
пальцев. Цвет его щек, положение лицевых мышц и живость взгляда изменились
настолько, что могло показаться, будто каждая молекула его тела получила
магический сигнал. Да так оно и было. Ибо тайна магии заложена в самой
Природе. Кому дано измерить неуловимую тонкость сигналов, которые говорят
о свойствах не только тела, но и души, и делают страсть мужчины к одной
женщине столь же непохожей на его страсть к другой, как несходны между
собой благоговейный восторг перед отблесками утренней зари, играющими на
водах реки, горных склонах и снежной вершине, и удовольствие от веселого
сияния китайских фонариков среди зеркал? Уилла отличала редкая
впечатлительность. Звук, извлеченный умелым смычком из струн скрипки,
изменял для него облик мира, и его точка зрения менялась с такой же
легкостью, как и настроение. И услышав имя Доротеи, он как бы вдохнул
утреннюю свежесть.
- Очень приятно видеть тебя, милочка, - сказал мистер Брук, поднимаясь
навстречу племяннице и целуя ее. - Полагаю, ты оставила Кейсобона его
книгам. И правильно. Тебе незачем становиться слишком уж ученой женщиной,
знаешь ли.
- Этого, дядюшка, опасаться не стоит, - ответила Доротея.
Она повернулась к Уиллу, пожала ему руку со спокойной сердечностью, а
затем продолжала:
- Я очень непонятлива. И, сидя над книгами, нередко блуждаю в мыслях
где-то далеко от них. Я обнаружила, что быть ученой куда труднее, чем
чертить планы сельских домиков.
Она опустилась на стул рядом с дядей напротив Уилла, но, казалось, не
замечала его, а продолжала думать о своем. Уилла охватило горькое
разочарование. Смешно! Как будто он хоть на мгновение поверил, что она
приехала ради него.
- Да-да, милочка, ты обожала чертить планы. Но всякому коньку полезно
дать отдых, не то он может ускакать с тобой неизвестно куда. А это, знаешь
ли, нехорошо. Надо крепко держать его в узде. Вот, например, я. Я всегда
знал, когда остановиться. Именно это я постоянно объясняю Ладиславу. Мы с
ним похожи, знаешь ли, - ему нравится входить во все. Мы с ним работаем
над вопросом о смертной казни. Мы вместе многое сделаем - Ладислав и я.
- О да! - сказала Доротея с обычной своей прямотой. - Сэр Джеймс
говорил мне, что надеется скоро увидеть большие перемены в вашем поместье.
Он говорит, что вы намерены сделать новую оценку ферм, предпринять
необходимые починки и перестроить дома арендаторов. Типтон будет трудно
узнать! Как чудесно! - продолжала она, захлопав в ладоши с прежней детской
непосредственностью, которую в замужестве научилась подавлять. - Если бы я
по-прежнему жила дома, то, конечно, опять начала бы ездить верхом, чтобы
сопровождать вас и самой все видеть. И сэр Джеймс говорит, что вы
собираетесь пригласить мистера Гарта, а он хвалил мои домики.
- Четтем слишком уж тороплив, милочка, - ответил мистер Брук, слегка
краснея. - Слишком уж, знаешь ли. Я не говорил, что намерен взяться за все
это. И не говорил, что не намерен, знаешь ли.
- Он полагает так потому, - сказала Доротея без тени сомнения в голосе,
точно юный певчий, выводящий "Верую", - что вы думаете выставить свою
кандидатуру в парламент, обещая ратовать за улучшение доли простых людей,
а это в первую очередь означает земледельцев и батраков. Подумайте о Ките
Даунсе, дядюшка! Он с женой и семью детьми ютится в лачуге из двух
комнатушек немногим больше этого стола! А бедные Дэгли! Их дом совсем
развалился, и они живут на кухне, а комнаты оставили крысам. Вот одна из
причин, милый дядя, почему мне не нравились ваши картины, как вы ни пеняли
мне за это. У меня щемило сердце при воспоминании о грязи, о безобразности
того, что я видела в домах бедняков, и слащавые картины в гостиной
казались мне бесчувственными попытками искать наслаждения в фальши. Словно
мы равнодушно отворачивались от тяжкой жизни наших ближних за этими
стенами. По-моему, мы не имеем права выходить на трибуну и требовать
широких перемен, если сами ничего не сделали, чтобы уничтожить зло рядом с
нами.
Доротея постепенно увлекалась, забыв обо всем, отдаваясь возможности
свободно излить свои чувства, - прежде это было для нее привычным, но в
замужестве она научилась сдерживаться в непрерывной борьбе между душевными
порывами и страхом. На миг к восхищению Уилла приметался холодок. Мужчина
редко стыдится того, что его любовь к женщине остывает, когда он замечает
в ней величие души, - ведь природа предназначила подобное величие только
для мужчин. Впрочем, природа порой допускает досадные промашки, как,
например, в случае с добрейшим мистером Бруком, чей мужской ум,
ошеломленный потоком красноречия Доротеи, в эту минуту был способен только
запинаться и заикаться. Не находя что ответить, мистер Брук встал, вдел в
глаз монокль и принялся перебирать лежащие на столе бумаги. Наконец он
сказал:
- В том, что ты говоришь, милочка, кое-что есть, да, есть, однако
далеко не все, э, Ладислав? Нам с вами не нравится, когда в наших картинах
и статуях находят изъяны. Молодые дамы склонны к пылкости, знаешь ли, к
односторонности, милочка моя. Изящные искусства, поэзия и прочее возвышают
нацию... Emollit mores... [смягчает нравы (лат.)] Ты ведь теперь немного
понимаешь латынь. Но... а? Что такое?
Эти последние слова были обращены к лакею, который пришел доложить, что
лесник поймал в роще одного из сыновей Дэгли с убитым зайчонком в руках.
- Сейчас иду, сейчас иду. Я не буду с ним строг, знаешь ли, - добавил
мистер Брук в сторону Доротеи и радостно удалился.
- Вы ведь согласны, что перемены, которые я считаю... которые сэр
Джеймс считает необходимыми, действительно нужны? - спросила Доротея, едва
мистер Брук вышел.
- Да. Вы меня совершенно убедили. Я никогда не забуду ваших слов. Но не
могу ли я поговорить с вами о другом? Возможно, мне больше не представится
случая рассказать вам о том, что произошло, - воскликнул Уилл и, вскочив,
оперся обеими руками на спинку стула.
- Разумеется, - встревоженно ответила Доротея и, тоже встав, отошла к
окну, в которое, повизгивая и виляя хвостом, заглядывал Монах. Она
прислонилась к открытой раме и положила руку на голову пса. Хотя, как нам
известно, ей не нравились комнатные любимцы, которых надо носить на руках,
чтобы на них не наступили, она всегда была очень добра с собаками и
старалась не обидеть их, даже когда уклонялась от их ласк.
Уилл не пошел за ней и только сказал:
- Я полагаю, вам известно, что мистер Кейсобон отказал мне от дома?
- Нет, - после паузы ответила Доротея с глубоким огорчением. - Я очень
сожалею, - добавила, она грустно, думая о том, что было неизвестно Уиллу,
- о разговоре между ней и мужем в темноте, и вновь испытывая тягостное
отчаяние при мысли, что она не может повлиять на него.
Она нисколько не скрывала своей печали, и Уилл понял, что она не
связывает эту печаль с ним и ни разу не спросила себя, не в ней ли самой
заключена причина ревности и неприязни, которые мистер Кейсобон испытывает
к нему. Его охватило странное чувство, в котором радость смешивалась с
досадой: радость оттого, что ему по-прежнему дано пребывать в чистом храме
ее мыслей, не омраченном подозрениями, и досада оттого, что он значит для
нее столь мало. Ее открытая доброжелательность отнюдь ему не льстила.
Однако мысль, что Доротея может измениться, так его пугала, что он
справился с собой и сказал обычным тоном:
- Мистер Кейсобон недоволен тем, что я принял здесь место, которое, по
его мнению, не подходит для меня, как его родственника. Я объяснил, что не
могу уступить ему в этом. По-моему, все-таки нельзя требовать, чтобы я
ломал свою жизнь в угоду предрассудкам, которые считаю нелепыми.
Благодарность можно превратить в орудие порабощения, точно рабское клеймо,
наложенное на нас, когда мы были слишком молоды, чтобы понимать его смысл.
Я не согласился бы занять это место, если бы не собирался использовать его
в достойных и полезных целях. С семейной же честью я обязан считаться
только так, и не более.
Доротее было невыносимо тяжело. Она считала, что ее муж глубоко не
прав, и не только в том, о чем упомянул Уилл.
- Нам лучше оставить эту тему, - произнесла она, и голос ее дрогнул. -
Раз вы расходитесь во мнениях с мистером Кейсобоном. Вы решили остаться
тут? - спросила она, тоскливо глядя на подстриженную траву за окном.
- Да. Но ведь теперь мы больше не будем видеться! - жалобно, словно
ребенок, воскликнул Уилл.
- Вероятно, нет, - сказала Доротея, обернувшись к нему. - Однако до
меня будут доходить вести о вас. Я буду знать, что вы делаете для моего
дяди.
- А я о вас не буду знать ничего, - сказал Уилл. - Мне никто ничего не
будет рассказывать.
- Но ведь моя жизнь очень проста, - заметила Доротея и улыбнулась
легкой улыбкой, словно озарившей ее грусть. - Я всегда в Лоуике.
- Томитесь там в заключении! - не сдержавшись, воскликнул Уилл.
- Вы напрасно так думаете, - возразила Доротея. - Я ничего другого не
хочу.
Уилл промолчал, но она продолжала, словно отвечая на его несказанные
слова:
- Я имею в виду - для меня самой. Правда, я предпочла бы не иметь столь
много: я ведь ничего не сделала для других, и моя доля благ слишком
велика. Однако у меня есть моя вера, и она меня утешает.
- Какая же? - ревниво спросил Уилл.
- Я верю, что желать высшего добра, даже не зная, что это такое, и не
имея возможности делать то, к чему стремишься, все-таки значит приобщиться
к божественной силе, поражающей зло, значит добавить еще капельку света и
заставить мрак чуть-чуть отступить.
- Это прекрасный мистицизм, он...
- Не надо названий, - умоляюще произнесла Доротея. - Вы скажете -
персидский или еще какой-нибудь, не менее географический. А это - моя
жизнь. Я сама пришла к такому убеждению и не могу от него отказаться. Еще
девочкой я искала свою религию. Прежде я много молилась, а теперь почти
совсем не молюсь. Я стараюсь избегать себялюбивых желаний, потому что они
не приносят пользы другим, а у меня и так уже всего слишком много. Я
рассказываю вам про это только для того, чтобы вы поняли, как проходят мои
дни в Лоуике.
- Я бесконечно вам благодарен за откровенность! - пылко и несколько
неожиданно для себя воскликнул Уилл. Они смотрели друг на друга, как двое
детей, доверчиво секретничающие про птиц.
- А ваша религия? - спросила Доротея. - То есть не церковная, но та
вера, которая помогает вам жить?
- Любовь ко всему, что хорошо и красиво, - ответил Уилл. - Но я
бунтовщик и, в отличие от вас, не чувствую себя обязанным подчиняться
тому, что мне не нравится.
- Но если вам нравится то, что хорошо, где разница? - с улыбкой
заметила Доротея.
- Это что-то слишком уж тонко, - сказал Уилл.
- Да, мистер Кейсобон часто говорит, что я склонна к излишним
тонкостям. Но я этого как-то не чувствую, - ответила Доротея со смехом. -
Однако дядя что-то задержался. Я пойду поищу его. Я ведь просто заехала по
дороге во Фрешит-Холл. Меня ждет Селия.
Уилл сказал, что сходит предупредить мистера Брука, и тот вскоре
вернулся в библиотеку и попросил Доротею подвезти его до фермы Дэгли - он
намерен поговорить с родителями маленького браконьера, которого поймали с
зайчонком. По дороге Доротея вновь коснулась вопроса о переменах в
управлении поместьем, но на этот раз мистер Брук не дал поймать себя
врасплох и завладел разговором.
- Четтем, милочка, - начал он, - ищет во мне недостатки, но если бы не
Четтем, так я бы не стал оберегать дичь на моих землях, а ведь даже он не
станет утверждать, будто эти деньги расходуются ради арендаторов. Мне же,
откровенно говоря, это несколько претит... я не раз подумывал о том, чтобы
заняться вопросом о браконьерстве. Не так давно ко мне привели Флейвела,
методистского проповедника, за то, что он убил палкой зайца: они с женой
гуляли, а заяц выскочил на тропинку прямо перед ним, и Флейвел успел
ударить его палкой по шее.
- Как жестоко! - воскликнула Доротея.
- Да, признаюсь, мне это показалось не слишком достойным - методистский
проповедник, знаешь ли. А Джонсон говорит: "Лицемер он, и больше ничего,
сами видите!" И право, Флейвел совсем не походил на "человека высочайших
правил", как кто-то назвал христианина... кажется, Юнг (*118), поэт Юнг...
Ты знакома с Юнгом? Ну, а Флейвел в черных ветхих гетрах говорит в свое
оправдание, что господь, по его разумению, послал им с женой сытный обед и
он был вправе ударить зайца, хотя он и не ловец перед господом, подобно
Нимроду... (*119) Уверяю тебя, это было весьма комично. Филдинг непременно
воспользовался бы... или Скотт. Да, Скотт сумел бы. Но когда я подумал об
этом, то, право же, почувствовал, что было бы вовсе не плохо, если бы
бедняга мог возблагодарить бога за кусок жареной зайчатины. Это же только
предрассудки... предрассудки, подкрепленные законом, знаешь ли. Ну, палка,
гетры и прочее. Однако рассуждениями ничему не поможешь, а закон есть
закон. Но я уломал Джонсона и замял дело. Полагаю, Четтем поступил бы
строже, и тем не менее он бранит меня, точно я самый жестокий человек в
графстве. А! Вот мы и тут.
Мистер Брук вышел из кареты у ворот фермы, а Доротея поехала дальше.
Поразительно, насколько безобразней кажутся любые недостатки, стоит нам
заподозрить, что винить в них будут нас. Даже наше собственное отражение в
зеркале словно меняется после того, как мы услышим откровенную критику
наименее восхитительных особенностей нашей внешности. И просто
удивительно, как спокойна наша совесть, когда мы тесним тех, кто не
жалуется, или тех, за кого некому вступиться. Жилище Дэгли никогда еще не
казалось мистеру Бруку таким жалким, как в этот день, когда его память
язвили придирки "Рупора", которые поддержал сэр Джеймс.
Правда, под умягчающим влиянием изящных искусств, которые придают
живописность чужой нужде, посторонний наблюдатель мог бы от души
восхититься этой крестьянской усадьбой, носившей название "Тупик Вольного
Чело века". Темно-красную крышу старого дома украшали полукруглые
чердачные окна, две дымовые трубы утопали в плюще, на большом крыльце были
сложены вязанки хвороста, половину окон закрывали серые растрескавшиеся
ставни, а под ними буйствовали кусты жасмина. Осыпающаяся кирпичная
ограда, через которую перевешивались плети жимолости, ласкала глаз
благородством мягких оттенков, а перед распахнутой дверью кухни лежал
дряхлый козел, живой символ старинных суеверий. Мшистая кровля коровника,
обвисшие на петлях серые двери амбара, батраки в заплатанных штанах,
которые сбрасывали в амбар с повозки снопы, готовые для ранней молотьбы,
привязанные перед дойкой тощие коровы в почти пустом коровнике, даже
свиньи и белые утки, вяло бродящие по заросшему запущенному двору, словно
обессилев от скудости достающихся на их долю объедков, - картина эта,
осиянная тихим светом, льющимся с неяркого неба в прозрачной дымке высоких
облаков, могла бы очаровать нас на полотне и затронуть совсем не те
чувства, которые пробуждали постоянные сетования газет того времени на
застой в сельском хозяйстве и на прискорбную нехватку необходимых
капиталовложений. Однако именно эти неприятные ассоциации занимали сейчас
мистера Брука и портили для него безыскусственную прелесть открывшейся
перед ним сельской сцены. Пейзаж оживляла фигура самого мистера Дэгли с
вилами в руках и в древней приплюснутой спереди касторовой шляпе, которую
он надевал перед дойкой. Куртка и штаны на нем были праздничными, но
потому лишь, что он утром ездил на рынок и вернулся поздно, так как
позволил себе редкое удовольствие - пообедать за общим столом в "Голубом
быке". Возможно, назавтра он сам подивился бы своему мотовству, но в
обеденный час положение страны, краткий перерыв в жатве, рассказы о новом
короле и многочисленные афишки на стенах, казалось, давали право человеку
немножко отвести душу. В Мидлмарче свято соблюдался старинный завет, что
добрая еда требует доброго питья, а под добрым питьем Дэгли понимал эль за
обедом и грог после обеда. Напитки эти действительно хранили в себе истину
в том смысле, что не сфальшивили и не развеселили беднягу Дэгли, а только
подогрели его недовольство и развязали ему язык. Кроме того, он через меру
хватил мутных политических толков - зелья, довольно опасного для
крестьянского консерватизма, который сводится к утверждению, что все
скверно дальше некуда, а от любых перемен только хуже будет. Он
остановился, сжав вилы, и, все больше багровея, воинственно смотрел на
своего помещика, который неторопливо приближался семенящей походкой,
заложив руку в карман панталон и небрежно помахивая тросточкой.
- Дэгли, милейший Дэгли, - начал мистер Брук, сознавая всю меру своей
снисходительности к провинившемуся мальчишке.
- Ого-го! Так я, выходит, милейший? Покорнейше вас благодарю, сэр.
Покорнейше вас благодарю, - ответил Дэгли с такой злобной иронией, что
дворовый пес Хватай поднялся с земли и навострил уши. Впрочем, тут во
дворе появился замешкавшийся где-то Монах, и Хватай сел, хотя уши
продолжал держать торчком. - Очень мне приятно слышать, что я такой
милейший.
Мистер Брук сообразил, что день был базарный и что его достойный
арендатор, по-видимому, пообедал в городе, но не усмотрел в этом
достаточной причины, чтобы прервать свою речь. Тем более что во избежание
недоразумений он мог затем сообщить все необходимое миссис Дэгли.
- Вашего маленького Джейкоба поймали с убитым зайчонком, Дэгли. Я
распорядился, чтобы Джонсон запер его на час-другой в пустой конюшне.
Чтобы попугать, знаете ли. Его отправят домой еще засветло, но вы
присматривайте за ним, хотя пока достаточно будет реприманда, знаете ли.
- Как бы не так! Да чтоб я выдрал мальца в угоду вам или кому там еще!
Ни за что, будь вас тут хоть двадцать помещиков, а не один, и такой, что
хуже поискать.
Дэгли выражал свое негодование так громогласно, что его жена выглянула
из кухонной двери - единственной, которой пользовались в этом доме и
которая закрывалась только в очень плохую погоду. Мистер Брук поспешил
сказать умиротворяюще:
- А-а, вон и ваша жена. Я, пожалуй, побеседую с ней. Я вовсе не имел в
виду порки, - и, повернувшись, направился к дому.
Однако Дэгли только укрепился в своем намерении "поговорить начистоту"
с джентльменом, удалившимся с поля боя, и пошел за ним следом. Хватай брел
позади, угрюмо сторонясь Монаха, намерения которого, возможно, были самыми
дружескими.
- Как поживаете, миссис Дэгли? - сказал мистер Брук с некоторой
поспешностью. - Я пришел рассказать вам про вашего сынишку. Я вовсе не
хочу, чтобы его проучили прутом. - На этот раз мистер Брук постарался
выразиться как можно яснее.
Замученная работой миссис Дэгли - худая, изможденная женщина, давно
забывшая, что такое радость (даже посещение церкви не скрашивало ее дни,
так как ей не во что было принарядиться), - после возвращения мужа уже
испытала на себе его гнев и в самом глубоком унынии ожидала худшего.
Однако муж не дал ей ничего сказать.
- Еще чего! Хотите вы или не хотите, а прута он не попробует! - заявил
он, швыряя слова, точно камни. - И нечего вам тут про прутья толковать,
коли от вас и прутика на починку не дождешься! Съездите-ка в Мидлмарч
послушать, как вас там похваливают!
- Придержал бы ты язык, Дэгли, - сказала его жена. - Не брыкал бы
колоду, из которой тебе пить. Когда у человека дети, а он деньги по
базарам швыряет и домой возвращается пьяный, так для одного дня он
довольно набаламутил. А что Джейкоб-то натворил, сэр?
- Тебе этого и знать не надо, - крикнул Дэгли, свирепея все больше. -
Тут я говорю, а ты знай помалкивай. И я поговорю, я все выложу, хоть
провались он, твой ужин. Вот что я скажу: я жил на вашей земле, а допрежь
того мой отец и дед, и наши деньги в нее вкладывали, и все едино я и мои
сыновья ее своими костями удобрим, потому как денег, чтобы ее купить, у
нас все равно нету, коли король этого дела не кончит.
- Милейший, вы пьяны, знаете ли, - сказал мистер Брук доверительно, но
не вполне благоразумно. - Как-нибудь в другой раз, как-нибудь в другой
раз, - добавил он и повернулся, собираясь удалиться.
Однако Дэгли тут же преградил ему путь. Не отстававший от хозяина
Хватай, услышав, что его голос становится все более громким и сердитым,
глухо зарычал, и Монах, величественно насторожив уши, подошел поближе.
Батраки возле амбара слушали, бросив работу, и здравый смысл подсказывал
мистеру Бруку, что лучше стоять спокойно, чем ретироваться, когда тебя по
пятам преследует разъяренный арендатор.
- Не пьянее вас, а может, и потрезвее! - объявил Дэгли. - Выпить я
выпью, только разума не теряю и знаю, что говорю. А я говорю, что король
этому делу положит конец: так верные люди толкуют, потому как будет
ринформа, и коли помещик свой долг перед арендаторами не справлял, так и
долой его отсюдова, пусть улепетывает подальше. В Мидлмарче-то знают, что
такое ринформа и кому улепетывать придется. Они вот говорят: "Я знаю, кто
твой помещик", а я отвечаю: "Ну, может, вам от этого толк есть, а мне так
никакого". Они говорят: "За грош удавиться готов". "Верно", - говорю. "Он,
- говорят, - ринформы дожидается". Тут я и разобрался, что это за ринформа
такая. Чтобы, значит, вы и всякие вроде вас улепетывали подальше, а уж мы
вас проводим чем-нибудь таким, что пахнет похуже цветочков. А теперь что
хотите, то и делайте, меня не испугаешь. И парнишку моего лучше не
трогайте. За собой посмотрите, как бы вам ринформа боком не вышла. Вот и
весь мой сказ, - заключил мистер Дэгли и вогнал вилы в землю с решимостью,
о которой, несомненно, пожалел, когда попытался снова их выдернуть.
Тут Монах громко залаял, и мистер Брук воспользовался этим. Он покинул
двор со всей быстротой, на какую был способен, несколько ошеломленный
новизной случившегося. Его никогда еще не оскорбляли на принадлежащей ему
земле, и он склонен был считать, что пользуется всеобщей любовью и
уважением (как это свойственно всем нам, когда мы больше думаем о
собственной добросердечности, нежели о том, что хотели бы получить от нас
другие люди). Когда мистер Брук за двенадцать лет до описываемых событий
поссорился с Кэлебом Гартом, он полагал, что арендаторы останутся очень
довольны, если их помещик будет всем заниматься сам.
Те, кто знакомился с повествованием мистера Дэгли о почерпнутых им в
Мидлмарче сведениях, возможно, удивились его полуночной темноте, однако в
описываемые времена наследственному фермеру с таким достатком было весьма
легко прозябать в невежестве несмотря на то, что священник его и соседнего
приходов был джентльменом до мозга костей, что младший священник жил
совсем близко и проповедовал весьма учено, что его помещик интересовался
решительно всем, особенно же изящными искусствами и улучшением социальных
условий, а светочи Мидлмарча мерцали всего лишь в трех милях от его фермы.
Что же до способности всех смертных увертываться от приобретения знаний,
то возьмите кого-нибудь из своих знакомых, осиянных интеллектуальным
блеском Лондона, и взвесьте, каким был бы этот приятный застольный
собеседник, если бы он обучился началам "счета" у типтоновского
причетника, а Библию читал бы по складам, безнадежно спотыкаясь на таких
именах, как Иеремия или Навуходоносор. Бедняга Дэгли иногда прочитывал по
воскресеньям два-три стиха из Священного писания, и мир по крайней мере не
становился для него темнее, чем прежде. Но кое в чем он был знатоком - в
тяжелом крестьянском труде, в капризах погоды, болезнях скота и
опасностях, грозящих урожаю в Тупике Вольного Человека, названном так, вне
всяких сомнений, иронически: дескать, человек волен выйти оттуда, если
захочет, но только идти ему оттуда некуда.