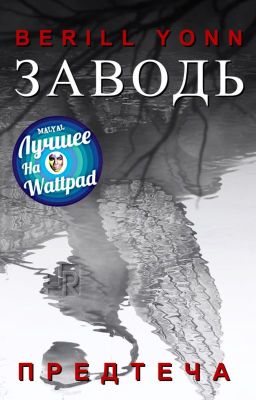Невыносимость мест и мыслей
Сегодня не стало ещё одной части меня,
И город такой враждебный мне дышит в спину,
Плюётся осколками мёртвого ноября.
После того происшествия в городе, конечно же, ничего не изменилось: всё то же моросливое небо в клочьях мельхиоровых туч, трамваи скользят по мокрым лезвиям рельс, дома взирают беспристрастными глазами окон, вглядываются в каждую каплю дождя. Только Юля совсем не выходила из дома. Её не видели ни в институте, ни в морге. Ей звонили Светка, Мелихов, интересовались: ты как? всё в порядке? тебе нужно что-то? Юля отвечала им тихо, безразлично: нормально, да, нет, спасибо... Мучимая страшной апатией, разрываемая изнутри убийственным нежеланием что-либо делать – она лежала на диване, поджавши ноги, лицом к ковру. В детстве, до переезда, он был картой её сновидений, а теперь только впитывал пыль.
Она сама впитывала пыль, рассыпалась на пыль заживо, и у неё не было сил даже кого-то ненавидеть. Любить кого-то она тоже не могла, потому что все мысли поглотил застывший липкий мрак. Ужас. Ужас всепоглощающий – и только. Вокруг лишь смерть. Всё канет в небытие. Плоские картиночки, которые видятся сейчас, задерживаются на сетчатке, не проходят дальше и остаются ничем, верхним слоем, который, если поддеть ногтем, легко отколупываются и обнажают пустоту под собой. Пустота распирает изнутри осознанием своей неминуемости, и Юля вновь закрывает глаза...
Она всё равно будет падать, видеть пустоту: от пустоты никуда не деться. Пустота сотрясается глубоким инфразвуковым хохотом, заполняет собою бездонное пространство черепной коробки и вываливается наружу слезами. Прожить бы только это «сейчас», оставить тело лежать в нём, собравшись в позу эмбриона, а сознанием отлучиться в то «давно», когда ничего не существовало – только тёплые воды. Тогда она ничего не знала о мире, не могла почувствовать – но была, была тогда настоящая безопасность в этом блаженном незнании. Был плеск воды, заглушавший все остальные звуки, что доносились извне. Тогда был мир и покой.
Хочется только домой – туда.
Она обняла себя за поджатые коленки, но это тоже не помогло, от этого не стало теплее. Лишь только кокон сжался и стало тяжело дышать. Безвольное тело – апатия оплела прочными слоями паутины ли, душного ли полиэтилена. Стены сужались, потолок медленно опускался, чтобы комната сделалась склепом, чтобы девочка, ещё не мёртвая, была погребена заранее, потому что потом – кому она будет нужна? Сейчас она никому не нужна.
Смерть дышит холодом и формальдегидом, застывает инеем на доньях зрачков и из-под земли скалится сотнями, тысячами, миллионами, миллиардами макабрических улыбок. Смерть едят черви, а потом умирают сами, и какая-то пылинка земли, в почве, из которой прорастает скрученный бледный росток, есть то, что осталось от жизни. Закономерность, извечная цикличность смерти ради новой, начинающейся жизни: смерть расчищает дорогу. И, наверное, должно быть успокоение в том, что ничего вокруг нет; должно быть успокоение в том, что кто-то, бесполезный при жизни, станет полезным после жизни, когда расчистит дорогу для жизни новой. Так пусть кто-то найдёт для себя успокоением стать землёй, на которой вырастут цветы и трава.
– Ты будешь обедать? – спросила мама.
– Покушай, – вторила тётя.
Их голоса прорвали кокон из паутины и пыли, но слишком поздно, так что вырывали плоть. Не было крови – почему-то. Было просто невыносимо больно. Юля тихо выдавила из себя:
– Нет.
Какой смысл, если всё равно умирать?
Но и умирать страшно.
Мама осторожно опустилась на край дивана, провела рукой по Юлиной голове, откинула розовые пряди с её лица. Юля поморщилась – ей показалось, свет режет глаза даже сквозь закрытые веки – и зарылась носом в подушку, словно думала так задохнуться. Прикосновения матери казались ей жуткими, она представляла эти руки вздувшимися, с отходящей серовато-бесцветными клочьями кожей, осыпающимися жирными белыми опарышами, но ей хотелось вернуться в материнскую утробу – в утробу абстрактной всематери. Там не было бы ни добра, ни зла, ни жизни, ни смерти, но было что-то, к чему хочется вернуться, но чего не будет после того, когда наступит ничто.
Нет, лучше поверить: самому умирать не страшно – это терять страшно. Но как бы было хорошо, если б все умерли...
Пальцы судорожно впились в угол подушки. В подушке пропал сдавленный крик, одним звуком выдавший всю безысходность страха перед самой собой.
– Мам, – несмело прошептала Юля, переворачиваясь на другой бок, – я, – и голос её дрожал, эхо прошедших крамольных мыслей, – тебя очень люблю и не знаю, что буду делать, если ты умрёшь. Правда.
Мама замерла. Дыхание её замерло, останавливая время, и Юля подумала, что если время так остановится, но сама она будет существовать вне него, то мама никогда не умрёт. Мама будет сидеть здесь, всё в той же позе: прикрыв рот обеими руками и глядя в пустоту перед собой. Кажется, её можно будет считать мёртвой – по крайней мере, она точно не жива.
Юле стало страшно. Стало противно от собственного страха, стало невыносимо его ощущать. Только вопреки всему – она рывком поднялась, села и притянула маму к себе. Так, кажется, стало немного лучше. Мамины объятия ненадолго вернули блаженную безмятежность и ощущение безопасности. На секунду захотелось поверить: всё было, будет и есть хорошо.
Только секунда – быстро погасла...
Юля отстранилась, встала с дивана и молча вышла из комнаты. Мама осталась одна – наедине с саднящим мраком, оставленным Юлей. Эта комната по-прежнему напоминала склеп своим спёртым воздухом, а своей похожестью на склеп вызывала мысли о неизбежной конечности всего сущего. Вечность ничего после этого конца всё так же не укладывалась в голове, как не укладывается в голове любой парадокс.
Мама открыла окно, надеясь, что холодный воздух выветрит тяжёлые мысли.
Юля остановилась перед зеркалом, посмотрела на своё отражение и увидела время: возникло ощущение, что только вчера маленькой девочке не хватало роста, чтобы наклеить нарисованную витражными красками собаку наверх, а зеркало стояло вовсе не в этой прихожей. Это и значит, что примерно завтра придётся умирать, что так было и будет у всех. Ирина Максимовна – вновь её имя – вчера тоже была ребёнком, а сегодня уже не живёт. Нет, вчера она тоже не жила, но в какое-то давнее вчера действительно была маленькой и не знала, что такое «умирать».
До какого-то определённого момента никто не знает, что это такое. Иногда умирают, так и не узнав.
Она прислонилась лбом к холодному зеркалу. Показалось, что стекло – это тоже лоб. Лоб мертвеца. Мертвеца или отражения, которое тоже неживое.
Нет, это не дело. Надо пойти проветриться.
Юля надела куртку. Появившаяся в коридоре тётя спросила, куда она собралась. Юля не ответила, только отвела взгляд: откуда она знала, куда собралась? Может быть, она собралась уйти из дома и больше никогда не возвращаться – подумала тётя. Беспокойным семенящим шагом тётя подошла к Юле, остановилась и, как в детстве, грозно повторила:
– Скажи, куда ты собралась?
Юля натянула капюшон, спрятала под ним розовые волосы и коснулась ручки двери.
– Гулять.
– Где ты будешь гулять? – продолжила допытываться тётя, слышавшая много историй о том, как люди тоже так уходили и потом не возвращались.
Только этот её вопрос Юля проигнорировала. Она лишь бросила сухое и пресное «пока», открыла дверь и вышла в подъезд. Недоумение в тётиных глазах осталось позади – впереди ждала дождливая улица, если перед возвращением в этот склеп. А для улицы нужны резиновые сапоги, зонт и деньги.
Зонта у Юли не было. Были деньги, а карманы утяжеляли жетоны для метро. Так, можно покататься на метро.
Выйдя во двор, Юля огляделась по сторонам. Было прохладно и слякотно – под ногами чавкала асфальтовая топь. Мутное небо, похожее на наполненный формалином сосуд, сочилось графитовой пылью дождя, осыпало ею изломанные ветки нагих деревьев. Ничто здесь не могло радовать, потому что сама природа была не в настроении.
Мрачные чёрные окна смотрели на Юлю испепеляющим взглядом – сверху вниз. Мрачные чёрные окна, пресечённые белыми планками рам, рядами тянулись вверх, выстраивались цепочками в длину. За каждым этим окном была своя вселенная, потонувшая в депрессивной осени, потому что осени подвластны все. Октябрь её верный пёс – остужает город, готовит прямые жёлтые улицы к декабрьским заморозкам, навевает тоску. Ветра – холодные ветра, зародившиеся над морем, проносятся по трубам улиц, бьют в лицо, обдают этим холодным дыханием зимы, временной смерти природы. И ведь только у природы бывает такая временная смерть, когда людям она не дана. Люди умирают навсегда и никогда больше не воскресают.
Юля шла, запустив озябшие руки глубоко в карманы, ссутулившись, опустив голову. Ветер, срывавший с деревьев листву, царапающую асфальт сухими трубочками листьев, казалось, всё равно впивался в щёки иглами инея. В голове её, покрытой капюшоном, закупоренной наушниками, из сумеречного края проявлялись какие-то странные мрачные и тяжёлые мысли. Они были неразборчивые, но что-то было в их образах зловещее, пугающее, отталкивающее. Хотелось избавиться от них, выбросить из головы – но как, когда они проросли в мозг липкой паутиной? Если отрывать – то с плотью, то с болью.
Всё вокруг так мерзко – похоже на растекающуюся блевотину. Когда уже вырвет – так вырвет, что вывернет наизнанку, с той самой плотью, с той самой болью?
Она остановилась – лицом к какой-то стене; уперлась в неё бугорком ладони и склонилась пополам, как будто бы её действительно сейчас вырвет. Ладонь увязала в разбухающем от влаги кирпиче, мелочь в карманах куртки тянула книзу. Невыносимый рвотный комок распирал спазмом горло.
Никто из прохожих не подошёл, не справился, всё ли в порядке. Они сами погрязли в октябре, были отделены игольчатой стеной колкой серой мороси – а Юле и самой от них ничего не было надо. Они считали её, должно быть, пьяной, смотрели брезгливо в её сторону, и каждый из них думал: уж я-то точно лучше этой девочки в пёстрой куртке, ведь я не выхожу на улице в таком виде. И ведь никому, совершенно никому из них не пришло в голову мысли: а что, если ей нужна моя помощь?..
Октябрь купирует в людях то, чего почти никогда в них и не было.
А мимо проносились автомобили, мелькая гладкими кузовами и бамперами. Юля отвернулась от стены, взглянула на дорогу – и её молнией пронзила внезапная мысль: выбежать, броситься под колёса и никогда больше не жить.
Страшно.
Юля оттолкнулась от кирпичной стены, предприняла попытку сделать новый шаг. Одной рукой она держалась за голову, как будто только так и могла удержать бушевавшие там мысли и тьму. Зачем же она вышла на улицу, когда здесь так много способов умереть? Не хочется думать обо всём этом! не хочется вспоминать Ирину Максимовну. Юля понурилась, обвиняет промозглый октябрь. Винит всё вокруг, винит не себя – всех вокруг. В ней появляются силы, чтобы чувствовать ненависть, с каждым вдохом холодного пробензиненного ветра она вдыхала силу, чтобы ненавидеть. Она ненавидела тех, кто убивает, и тех, кто умирает, потому что умирать очень страшно.
Юля спустилась в метро. В вестибюле тепло, можно согреться. Юля вынула руки из карманов. Покрутила головой, огляделась по сторонам. В метро – тоже много способов умереть: можно провалиться в мясорубку утробы эскалатора, можно упасть под поезд или на контактный рельс, хотя Петербургский Метрополитен и потрудился обезопасить своих пассажиров от подобной участи. Только никто никогда никого не обезопасит от того, чтобы сесть в один с террористом. И как бы этот террорист ни выделялся из общей массы, дежурящие на станции менты всё равно не обратят на него внимания, пройдут мимо, а в сутолоке все усталые, никто и не посмотрит на подозрительного человека, под странными одеждами которого скрыт пояс смертника.
Потом – взрыв, кровь, искорёженный вагон, паника.
Грохот по рельсам заглушил музыку в наушниках, Юля сделала громче. Раскрылись двери вагона, с запозданием разъехались чёрные двери на станции. Прозвучавший в динамике голос словно бы пригласил войти, но прежде чем сделать хотя бы шаг, Юля, стоявшая прямо на ходу, недоверчиво огляделась по сторонам, выглядывая подозрительных людей. Только лучше не думать о смерти. Ни о чём не думать.
В метро Юля любила садиться с левой стороны по ходу состава, совсем близко к дверям. Угол сидения, ограниченный серебристыми поручнями, на которые можно облокотиться плечом, приятен. Отсюда можно смотреть на людей – постные рожи, которым всё равно. Они усталые, замкнутые в своих извечных кругах, им ни на что не хватает сил, и на лицах каждого из них светится клеймо: средний класс, офисный планктон. По крайней мере, клерков среди пассажиров всегда подавляющее большинство. Этим подавляющим большинством они составляли безликую массу, транспортниками прозванную пассажиропотоком. Жуткое слово – подразумевает механизм, выполняющий монотонную работу, совокупность мелких деталей, каждую из которых всегда можно заменить.
Ни транспортникам, ни пассажиропотоку не знать, что совсем недавно из механизма отпала одна неприметная деталька. Её с лёгкостью моментально заменили: на линии, в поезде, в котором Ирина Максимовна ездила на работу и с работы, кто-то занял её любимое место.
Невыносимо думать об этом.
Невыносимо думать.
Невыносимо смотреть – лезвия ламп режут глаза. Юля опускает веки, откидывается, прижимает затылок к дребезжащей стенке. В стенке окно. Стекло – зачернённое туннелем перегона. Рвётся воздух. В клочья. Гуд, дребезг, лязг заглушает музыку, но громче сделать уже нельзя. Юля ловит себя на том, что совершенно не имеет понятия, куда едет. Да вот только вот – не всё ли равно?
Пустота на обратной стороне век также невыносима, как и все вокруг. Там, на ней, ненадолго отпечатываются зыбкие абрисы унылых лиц. Все эти лица сливаются в одно – колоссально унылое, колоссально болезненное, колоссально всем недовольное и усталое. Сложно было определить точно его черты – они сливались воедино – но была лишь маска тотального недовольства. Оно виделось жутким.
Вспоминалось ещё одно лицо. Тоже из метро. Только выражение того лица было располагающим – да вот Юля никак не могла вспомнить, кому же из её знакомых оно принадлежало. Единственное, что она помнила: образ этого человека вызывал странные противоречивые чувства. Особенно сейчас. У него были большие зелёно-голубые глаза, похожие на ласковые кристально чистые морские воды. Лучистые зелёно-голубые глаза – непредсказуемое море, манящее шёпотом прибоя в штормовые дали, таинственные чёрные глубины. Ещё у этого человека успокаивающий голос...
Юля ощутила, что в данный конкретный момент ей сильно не хватает кого-то рядом. Одной только грустной музыкой не заполнить разверзшейся внутри пустоты, бездонной могильной ямы – нужно поговорить с кем-то, кто точно выслушает... Светка, Ромыч – они же так переживают за неё, всё спрашивают, интересуются, как она там. Юля достаёт телефон, порывается написать кому-то из них – но пальцы её замирают, так и не коснувшись экрана. Напротив непрочитанного ещё со вчера сообщения круглится голубая точка.
Опять тупые лаги?! или это я слепая?
Она порывается зло отбросить телефон, но вспоминает, что находится в общественном месте. В очередном длинном перегоне теряется сеть. Юля всё равно продолжает истошно набирать ответное сообщение, дико вколачивает кончики пальцев в мягкие сенсоры. На белом поле выскакивают чёрные буквы, выстраиваются в линию, в пару строк, в нестройную стену. Юля в замешательстве давит на «стереть» и исступлённо смотрит на то, как буквы пожирает белое поле. В итоге она отправляет только «Мне срочно нужно вас увидеть. Пожалуйста», а затем ударяет себя по лбу, укоряет в глупости и эгоизме, на самом деле просто уверенная, что до неё просто никому нет дела. Никому ни до кого нет никакого дела.
Ответ же не заставил себя долго ждать. Она с облегчением выдохнула, прочитав, что встретиться можно будет только ближе к девяти. Удивительно, что далее не последовало никаких уточняющих вопросов – только указание места.
Юля всё равно чувствовала себя глупо и понимала, что поступает странно, вынуждая мало знакомого человека после работы ехать в центр только затем, чтобы выслушать её жалобы на жизнь. Тут же начались оправдания, она писала, что вовсе не обязательно куда-то ехать, это всё в порыве эмоций, она не хотела бы нагружать кого-то своими проблемами – вот только в ответ получила одно: «А я совсем не против ещё раз с вами увидеться».
Сердце её рухнуло в холодную пропасть под грудиной.
Утомительный день. Слишком всё странно в последнее время, слишком сильные эмоции, слишком много людей вокруг. Всем им чего-то надо, а Юле надо больше всех. Ещё ей хочется остаться в покое – вот только покой будет в могиле. О смерти думать не надо – о работе думать не надо, ведь на работе смерть.
Юля вышла на конечной, перешла по платформе на другой поезд, чтобы доехать до другой конечной. Ведь так много времени осталось! Так много времени скучать и мучиться от того, что так получилось: она просто взяла и позвала почти незнакомого человека после работы выслушать её. Просто – послушать нытьё!
– Простите меня, пожалуйста, - смутилась Юля, как только Смирнов обратил на неё внимание.
Смирнов дожидался её – как они и договаривались – в Сквере Искусств у Академии Художеств. Он сидел на каменной скамейке, впитавшей влагу, с оббитыми углами, подложив под себя портфель, и что-то ел. Вокруг было пустынно, с неба сыпалась морось, посыпала холодной колючей пыльцой венчавшуюся лирой стелу. Это снаружи Васильевский остров сиял линией горделивых фасадов, смотрел на Большую Неву, но изнутри терялся весь тот лоск и наступало запустение. Поэтому Смирнову нравилось именно здесь: здесь было по-настоящему.
Когда среди сырого серо-палевого запустения показалась одинокая фигурка, Смирнов привстал, вгляделся. Он не сразу узнал Юлю – потому что ожидал узнать её по розовым волосам – но она надела капюшон.
– Ничего стг'ашного, – лучезарно заулыбался Смирнов, когда ему предстала смущающаяся Юля. – Я даже г'ад, что вы меня позвали... Только можно один вопг'ос: почему вы написали именно мне? – и тут уже смутился сам, испугавшись нескромности своего вопроса, опустил чистые берилловые глаза.
На Юлином лице засияла улыбка – умильная. Почему-то этот человек, его лицо – один только его вид вызывал внутри ней такие тёплые и светлые чувства, как будто бы чёрные тучи пропадали с неба, и открывался ясный голубой простор. Наверное, поэтому, хоть и неосознанно для себя, она и позвала его, захотела увидеть... В его ясных глазах сияло и переливалось море успокоения и безмятежности – то первородное море, из которого вышло и выходит всё живое.
А вопрос, заданный Смирновым, ничуть не смутил Юлю и только наоборот, изгнал чувство потерянности посреди отсыревшего города. В пустынном сквере, куда смотрели лишь подслеповатые окна, из которых должны были смотреть художники, в этом безлюдном и промокшем сквере, перед нею стоял человек, который был, наверное, последним – особенно, последним из тех, кто согласился просто прийти к ней.
– Я хотела написать подруге, но увидела сообщение от вас, которое висело ещё со вчера, – начала она объяснять, засунув руки в карманы и потупившись. На выбившейся из-под капюшона розовой пряди, запутавшись между волосками, поблёскивали серебристые точечки капель. – Извините за такие неудобства... Я была вся на эмоциях! Честно говоря, вовсе не думала, что вы согласитесь. Спасибо большое. И спасибо за то, что ещё погуляли со мной тогда, – и улыбнулась, вспоминая чудесную ночь после оперы.
Смирнов вновь заулыбался – и Юлю очаровали ямочки на его щеках. Тем не менее, когда она поймала себя на этом, то ей стало стыдно. Точнее, это было странное чувство стыда перед самой собой и несказанного умиления.
А дождь усиливался, сильнее вонзался в лицо.
– Очень пг'иятно слышать, – вновь заулыбался Смирнов, полезая в свой портфель. – Может быть, пойдём куда-нибудь? – и достал зонт, раскрыл его над Юлиной головой. – И мне было очень пг'иятно гулять тогда в вашем обществе... Так что, собственно, вы хотели?
Он говорил смешно – торопливо, наклонялся к Юле, потому что был много выше неё ростом. Юля осторожно поглядывала на него снизу вверх, искоса, осторожно рассматривала точечки веснушек на его щеках, блестящие глаза цвета морской волны. Она слушала его – с интересом, как ребёнок – и совершенно не ожидала вопросов, хотела слушать его вечно. Только его речь оборвалась вопросом.
Юля стыдливо вздохнула.
– Ромыч же вам рассказывал... – начала она, запинаясь, и на плечи её вновь наваливалась тяжёлая хандра. – Рассказывал про убийство, да? В общем, дело в том, что мне страшно... страшно, очень грустно и одиноко... Стало... После этого. Мне надо было с кем-то поделиться, но теперь очень неловко перед вами... простите, пожалуйста. Я не должна была...
Она осеклась, потому что голос её дрогнул слезой. Слёзы выступили на глазах, густой пеленой заволокли взор, горячими каплями покатились по щекам. Юля остановилась и кончиками пальцев слегка надавила на глаза под опущенными веками. Рыдать на улице, однако, было стыдно – наверняка своими слезами она вызывала у Смирнова неприятную неловкость и замешательство, но поделать всё равно ничего не могла: в какой-то неопределённый момент она начала всё сильнее и сильнее терять над собой контроль с каждой секундой. Казалось, это было чувство медленно наступающего безумия, в конце которого от неё останется лишь пустая оболочка. Если в её жизни всё и будет так продолжаться, то эта оболочка из-под человека, конечно же, сможет выполнять по инерции какие-то примитивные действия – но никогда не сможет что-то почувствовать, потому что будет опустошена.
Лицо Смирнова на долю секунды приобрело выражение растерянности, но он тут же осторожно приобнял Юлю одной рукой, наклонился и заглянул ей в глаза. Юля выглядела даже не грустной – пронзительно уставшей и опустошённой. Она смотрела виновато, по щекам её стекали упрямые слёзы, бывшие крупнее дождевых капель. В глазах отражались пустынные окна и тощие ветви деревьев, серебристые бусины, повисшие на краешках зонта, срываемые ветром. Юля боязливо отвела взгляд.
– Не стг'ашно, – заговорил Смирнов, – всё пг'авильно. Если вам плохо, не бойтесь искать поддег'жки.
Юля вздохнула, подняла на него глаза. Он придерживал над нею купол зонта, за пределами которого город истекал дождём. Песочного цвета здание Академии Художеств удерживало ветер с Большой Невы. Взгляд Смирнова был устремлён куда-то вдаль – сквозь рябь дождя; и Смирнов продолжал:
– Да, я знаю, что иногда бывает сложно довег'иться человеку – особенно, почти незнакомому... Всё же, не бойтесь. Сейчас не бойтесь: сейчас я выслушаю вас и, может быть, смогу что-то сказать.
Мелихов говог'ил об убийстве, но я узнал до того: мой коллега – бывший муж той женщины. Сегодня он не пг'ишёл на г'аботу – должно быть, запил. Знаете, Юля, всё, что мы можем должны делать – это жить и помнить... Безусловно, смег'ть – это большая тг'агедия для тех, кто остался жив. Да, сейчас я говог'ю совершенно очевидные вещи, потому что никогда не знал, что говог'ить именно в таких ситуациях, – замялся он, выпустил Юлю и обеими руками вцепился в ручку зонта, отвернулся. – Извините. Извините... – проговорил задумчиво. – Может быть, мне вообще не стоит ничего говог'ить? Я лучше вас послушаю.
Юля смотрела на него: поджатые губы, как будто он сейчас сам расплачется, виноватые глаза, смотрящие из-под смешно состроенных домиком густых бровей. Почему-то ей показалось, что он очарователен в своей растерянной задумчивости.
А он осторожно похрустывал суставами пальцев – неслышно – и терпеливо дожидался того, чего, кажется, никогда не должно было случиться. Если он ждал наступления ночи, то сиреневато-серые дождливые сумерки уже опускались туманом, и на сквер, освещённый лишь жёлтыми окнами, опускалась темнота. Оббитый асфальт под ногами поблёскивал серебристо-нефтяной влагой. Пора было уходить.
Смирнов направился к выходу из сквера. Юля засеменила следом, чтобы оставаться под зонтом и чтобы не потеряться случайно в наступившей сырой темноте.
– Мне очень страшно, – признавалась Юля на ходу, но внутри какая-то часть её тоскливо выла, что нельзя так сразу, нельзя доверяться людям – потому что сколько людей уже отвернулось от неё? – Это началось уже до того, как Ирину убили – какая-то дикая тоска, печаль. Если я улыбаюсь. То чаще это именно натянутая поверх какого-то мрака улыбка. Вот только сегодня я сумела улыбнуться по-настоящему. Не знаю. Это странно. Вот только позавчера, когда Ирину убили, мне стало ещё хуже. Я почувствовала такую дикую безысходность... Меня накрыла апатия: сегодня целый день я лежала на диване и просто ничего не делала. Ничего не делала, всё думала: а зачем, зачем я живу? зачем мы все живём? Всё равно умирать! Всё равно! Знаете, как страшно? Вам страшно? Мне – очень. Я только как представлю, что однажды придётся умирать... не знаю, не знаю, не верится в это! В смерть не верю, хоть и вижу трупы почти каждый день. Я же... в морге работаю.
Смирнов вздрогнул – и, кажется, все чернильные сумерки вокруг него вздрогнули. Юля почувствовала на себе взгляд его сияющих глаз.
– В мог'ге? – как-то удивлённо переспросили сумерки и дождь приятным голосом Смирнова, но потом вздохнули. – Да-да-да, точно... Вы же с Мелиховым г'аботаете... Юля, почему вы ещё там?
– Почему я там работаю? – то ли уточнила, то ли задумалась Юля. – Не знаю.
– Пг'ивычка, – ответил ей Смирнов. – Люди часто боятся что-то поменять или откладывают пег'емены в долгий ящик. Это плохо – вег'но ведь?.. Почему вы до сих пог' г'аботаете в мог'ге? Почему вы вообще г'фботаете а мог'е? Вам не кажется, что эта г'абота вас убивает?
– Не кажется – так оно и есть.
Капли дождя отскакивали от зонта, промокшего и теперь чуть лоснившегося влагой. Смирнов старался идти неторопливо, чтобы Юля не отставала от него. В момент, когда они вдвоём покидали зловещий в своей темноте и запустении Сквер Искусств, он чувствовал себя больше всех в мире ответственным за свою спутницу: эта девушка осмелилась доверить ему крохотную часть себя. В её топе всё ещё слышатся отголоски недоверия, неуверенности, сомнения – похоже, она уже много раз ошибалась в людях, доверяясь им, но не желает учиться на своих ошибках. Ей трудно договаривать, ей трудно выговариваться. Она с трудом выдавливает из себя слова и наверняка чувствует неловкость. Как это знакомо...
Пускай на этот раз не случится ошибки.
Юля всё продолжала, рассказывала: когда-то ей казалось, она сможет, работать в морге интересно и спокойно, первое время ей очень нравилось, она даже быстро влилась в коллектив... Далее надо противоречить самой себе, что там всё равно хорошо, её всё устраивает, а то, что происходит сейчас, надо только пережить. Ей надоела смерть. Ей надоело видеть смерть. Куда ей податься? зачем что-то искать? Зачем что-то искать, когда всё и так вас не устраивает?
– Куда мы идём? – наконец, опомнившись, спросила она.
Вразумительного ответа не последовало: тихие слова растворились в шелесте дождя. У неё зазвонил телефон – последний перед отчаянием звонок от мамы. Маме просто надо убедиться, что её дочь жива, а уже только потом напомнить, что давно пора быть дома. Её дочь жива – торжество! Скоро будет дома.
Смирнов предложил:
– Если вас уже заждались, могу пг'оводить до дома.
– Нет, не стоит, – замешалась Юля. – Вам же и самому домой ехать.
Случайный фонарь выхватил из темноты его лицо – то ли лукавое, то ли печальное. В подслеповатом свете глаза его обрамляли тёмные тени – как у Пьеро.
– А меня никто не ждёт дома. Или вам наскучила моя компания? – и лукавый акцент нарочитой обиды на вопросе, растянутое последнее слово.
– Нет! Ни в коем случае, нет! – воскликнула Юля.
– В таком случае я всё-таки осмелюсь пг'оявить настойчивость, или наглость – называйте, как хотите – и всё-таки пг'овожу вас. Не хочу отпускать вас одну в такую темноту.
Они шли по набережной. Набережная бросала им в лицо колким от дождя ветром. Чёрная, ониксово-чёрная вода в гранитовом русле Большой Невы вздымалась рябью и мерцала золотыми дорожками света. Это город, обступивший воду, распалялся очередным приступом извечной ночной лихорадки. Ветер, пересёкший всё его больное разгорячённое тело, задувал под куртку и хохотал вздыбившимися мурашками.
И на Седьмой линии всегда музыка – всегда праздник жизни. Это центр города, центр острова, куда обычно стекается весь люд, чтобы показать свою жизнь, призван скрыть, аннулировать блеклость окраин своим сетом и всем великолепием. Сюда обычно и бегут с окраин, отказываясь принимать: на окраинах – жизнь. Любой маленький двор, скрытый от посторонних глаз, всегда будет более живым и более настоящим, чем тысячи и тысячи центральных улиц. Их яркие неспящие витрины слепят сонные глаза и как будто бы дают понять, что каждый человек чужой на этом празднике.
Местечковые понятия – а особенно чужой здесь тот, кто идёт напрямик, как будто бы действительно больше всех боится дождя. Юля спешит за ним, но с интересом смотрит вокруг. Стыдно признаться и самой себе, но ей немножечко, совсем чуть-чуть, хочется остаться здесь – в трясине аляповатой, но пафосной ненастоящести.
Vanitas. Суета сует.
Юля тяжело склонила голову.
После праздника все блёстки и конфетти превращаются в мусор. После праздника остаются объедки и грязная посуда. Остаются пустые бутылки – порою битые.
Ещё остаются воспоминания.
А нёсший над Юлиной головой зонт Смирнов не оборачивался, а говорил, говорил, говорил, говорил, точно зная: Юля его слушает.
– Когда мне было одиннадцать, моя мама умег'ла от г'ака. Я помню, как тяжело она умиг'ала, но как до последнего хваталась за жизнь; я помню, как сильно отец пег'еживал, когда её не стало. Мне тоже тогда было очень плохо. Чтобы не тосковать и не думать о смег'ти, я стал больше вг'емени уделять учёбе в школе – но там пг'и любом случае все пытались мне напомнить, какой я бедный-несчастный сиг'ота, без матег'и-то остался. К тому же, у меня с самого пег'вого класса как-то совсем не ладилось с дг'угими детьми – так что отец г'ешил, что лучше пег'евести меня в дг'угую школу. Только вот тогда я был ужасно стеснительным и панически боялся новых людей. Вообще не знаю, как мне удалось в новой школе подг'ужиться с одноклассниками и даже какими-то г'ебятами из паг'аллели, но то, что стало лучше – это точно. Но я всё г'авно очень сильно тосковал по маме, но никогда не говог'ил об этом дг'узьям, потому что боялся, что меня снова начнут жалеть, мне ещё больше пг'идётся возвг'ащаться к пег'ежитому.
Чег'ез какое-то вг'емя отец женился втог'ой г'аз. К тому вг'емени я хоть и немного освободился от пег'еживаний и тоски по маме, новую женитьбу отца я пг'инял с недовольством. Отношения с мачехой у меня складывались, конечно, неплохо, но вот мне казалось, что отец пг'едал маму. Мне было стыдно жить в своей семье. Сейчас в этом стыдно пг'изнаваться, но тогда оно воспг'инималось как вполне естественное.
Они подходили к вестибюлю метро. Станция «Василеостровская». На пяточке у вестибюля, где Седьмая линия под прямым углом пересекает Средний проспект, толпливо – многолюдно. Смирнов останавливается, вздыхает – его грустная история, в словах растворившая пережитую боль, подходит к концу. Бархатистый голос его, отдававший низкими струнками, перекрывал, звучал поверх обрывков вечерних песен, шёпота дождя, свиста проспекта... Юля слушала:
– Конечно, было очень обидно, но в один момент пг'ишлось всё пег'еосмыслить. Я нашёл мамин дневник, котог'ый она начала, как только узнала о своём диагнозе. Она знала, что умг'ёт. От неё не утаивали, что опухоль неоперабельная. Мама отнеслась спокойно, насколько это возможно. Пока она окончательно не пег'естала ходить... – тут Смирнов осёкся, вздохнул и заключил: – В общем, мама написала нам, что когда она умг'ёт, то сможет ото всего отдохнуть, так что нам стоит только пог'адоваться за неё. Она пг'осила отпустить её, позволяла забыть – только бы мы не убивались всю жизнь. Я отчётливо помню, что она написала в самом конце: «Я не хочу, чтобы вы долго плакали по покойникам – покойникам уже ничем не помочь. Лучше обеспокойтесь о живых», – вот что.
8