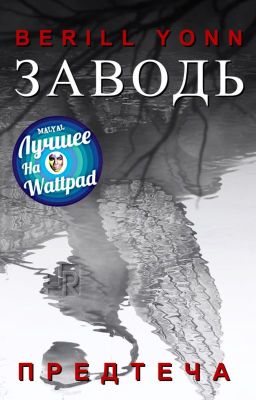Не к перепутью ветров
Как бы там ни было, но у Мелихова, однако, был один признанный всеми талант: он умел появляться как раз там, где пьют. Особенно хорошо этот талант проявлялся тогда, когда Мелихову было особенно плохо – так плохо, что он, в надежде рассеять свою скорбь, начинал тянуться к людям. В такие моменты вместо того, чтобы купить пару бутылок пива, он целенаправленно шёл туда, где наливают бесплатно.
Вот он и сидел теперь на краешке дивана, слушал, лицом не пытаясь изобразить совсем никакой заинтересованности, анекдоты одного никому не известного художника.
– У одного еврея спросили: какое самое лучшее вино вы пили? «То вино, – ответил еврей, – которое мне наливали соседи», – рассказывал художник, не догадываясь о том, что в этот день Мелихова продолжала преследовать смерть: он шёл сюда выпить, а пришёл на поминки.
Правда, в этом обществе иные подобные мероприятия назывались вечерами памяти: в этот раз Ромыч забрёл на вечер памяти поэтессы Миланы Малявиной. Милана Малявина погибла год назад – была убита. С неё ведь и начались те странные убийства...
Мелихов помнил Милану Малявину – тихую и скромную девочку лет двадцати, которая писала немного бездарные, но очень мрачные стишки. Мелихову она нравилась, но эти стихи не нравились. Наверное, это просто мрак не вязался с образом милой и тихой няши.
А потом Милану убили.
На другом углу дивана, богато задрапированного гобеленовым покрывалом, закинув ногу на ногу, сидела статная женщина с бокалом красного вина. Красного – как густая кровь; терпкого... На женщине было чёрное платье по фигуре – длинное, до самых щиколоток. Юбка с разрезами открывала бугрящиеся чашечками колени, стройные ноги. Эта женщина (длинная нить жемчужных бус, дважды обвитая вокруг шеи, аккуратно собранные на затылке каштановые волосы) пришла сюда как будто из другой эпохи. Вся она сквозила отголосками, эстетикой декаданса, была преисполнена тем благородством, и был у неё тот же манящий терпкий привкус, что и у вина в округлом стеклянном бокале. На длинную белую шею её падала каштановая кудряшка, в которой запутался электрический свет.
Мелихов очень хорошо знал эту женщину, был околдован ею, но боялся смотреть на неё и не мог простить. Она никогда ему не принадлежала и не должна была принадлежать. Она не должна была принадлежать никому, но была достойна стать музой для самого гениального поэта. Ослепительная, сводящая с ума всех вокруг – эта женщина всё же когда-то из всех выбрала одного не-человека – бога! – и предпочла стать музой для него, самой преданной его жрицей... Нет, вся её красота, изящество и грациозность движений, томные взгляды, элегантные чёрные платья – они скрывают чёрную подноготную ревнивицы и убийцы. Кому как не Мелихову этого не знать.
Мелихов вдумчиво и методично впечатывал кончики пальцев в запястье. Он специально смотрел в другую сторону своими жуткими неподвижными глазами, но не мог не знать и не видеть, с какой грацией женщина в чёрном платье подносит бокал вина к винно-красным губам. Все собравшиеся в один голос молчаливо приветствуют её – а она смотрит на них свысока оценивающим взглядом зелёных глаз. Никто из присутствующих не знает, не догадывается и никогда не постигнет всего того цинизма и всего безумия, торжества злой ведьмы, которая пришла поплясать на костях. Хочется встать и закричать (Мелихов зажмуривает глаза, силясь не сорваться с места), что это она, она! – чтоб все слышали. Только она отставляет в сторону бокал, в прозрачной округлости которого в терпком аромате плещется винное море. Даже этот жест – он такой нарочито медленный, чтобы все присутствующие забыли о Милане Малявиной и с замиранием сердца обратили свои взоры на эту женщину в чёрном платье.
К ней подошёл человек лет пятидесяти, словно запаянный в собственном френче. Женщина подала ему руку – таким привычно расслабленным движением, как будто ей уже надоели галантные джентльмены из прошлого, для которых нет чести больше, чем поцеловать руку этой прекрасной дамы. Мужчина преклонился, пряча подобострастный взор. В густых чёрных волосах его мелькнули серебристые прожилки.
Женщина в чёрном платье походила на древнегреческую богиню.
Мужчина с седыми прожилками в волосах отошёл от неё и поздоровался с Мелиховым, с силой потрясая его руку – вырывая за эту руку из слоистой паутины мрачных мыслей и странных порывов. Конечно же, Мелихов уже был пьян. Или не был – никого это не волновало: все аплодировали какой-то девушке, которая читала один за другим стихи Миланы Малявиной вперемежку со своими собственными. Она была молодой и миленькой, за что женщина в чёрном платье исподволь буравила её испепеляющим взглядом.
Мелихов осмелился придвинуться к ней. Она брезгливо поморщилась и отвернулась, учуяв исходивший от него похмельно-пивной запах.
– Мара, – позвал Мелихов, но поэт в нём отказывался принимать то, что эту женщину можно называть таким именем.
Она – Маргарита. Мара – крамольно.
– Ни разу не слышал, чтобы ты читала здесь стихи, – продолжил он, пытаясь пропитывать свои слова самой горькой желчью, но выходило глупо. – Что же ты тогда тут делаешь?
В ответ он получил только лишь презрительный взгляд – но это его ничуть не смутило. Он придвинулся ближе, отчего Маргарита недовольно повела обнажённым плечом, всколыхнула ореол лёгкого пудренного аромата вокруг себя.
– Вы пьяны, Роман, – резко выдала она.
– Да, – не стал возражать Мелихов, – ну а ты вообще убийца.
Маргарита фыркнула, взглянула на него, как рассерженная кошка. Мелихов наклонил голову, и с секунду его неподвижные чёрные глаза сладострастно рассматривали округлые ровно-белые плечи под трепетной пыльцой пудры, мерно вздымающуюся нежную фарфоровую грудь в глубоком вырезе декольте. Почувствовавшая на себе этот неприятный взгляд – Маргарита ещё раз нервически передёрнула плечами, обеими руками придержала юбку, встала и грациозно направилась к фортепиано, мелькая обнажённой спиной. В лежавшей на лебединой шее рыжей кудряшке всё так же играл электрический свет.
Нет же, нет! (Маргарита усаживается за фортепиано и откидывает крышку, обнажается оскал костяных клавиш). Для того чтобы называть её волосы рыжими, надо быть Фатой Морганой.
Маргарита легко касается клавиш самыми кончиками пальцев.
Каждое движение её производило невероятный эффект: стоило ей только опуститься на винтовой табурет у фортепиано, как тут же повисла абсолютная тишина. Всё замерло в ожидании – а прекрасная Маргарита одарила всех присутствующих томной улыбкой винно-красных губ. Один лишь только Мелихов в этот момент осмелился покинуть своё место – совершить движение помимо движений Маргариты – и подошёл к окну.
За окном застыл сумеречный туман, сквозь чернильную гущу которого продирались подслеповатые глаза мутных жёлтых окон. Маргарита за спиною его перестала играть. Она обратилась к стоявшей неподалёку девушке – таким повелительным тоном, как если бы эта девушка была здесь служанкой:
– Принесите мне вина. Я оставила бокал на столике у дивана.
– Ладно, – растерянно отозвалась та.
Мелихов узнал её – Элю. Эта девушка в скромном мышино-сером платье, но в крупных украшениях выглядела достаточно эффектно. Сейчас она выглядела грустной и потерянной: она осталась одна.
Маргарита вознесла плавные руки над клавишами, на долю секунды замерла. В этот момент, предвосхищая первый аккорд, Мелихов рванулся за Элей и в полный голос окликнул её:
– Привет, Эль!
Девушка остановилась, обернулась через плечо. Потребовалось около доли секунды – на челе её проявилась моментальная озадаченность – чтобы она узнала Мелихова. Так, за озадаченностью последовала искренняя улыбка: она очень обрадовалась, потому что в этом обществе Мелихов остался последним, с кем ей здесь комфортно.
Маргарита ударила первый аккорд и запела трагично, до боли раздирающим голосом романс про сероглазого короля. Всё замерло. Осенний вечер за окном был так же душен и ал. Элечка смотрела на Маргариту за фортепиано, наблюдала за её движениями, сочащимися грацией. Да, она же просила принести бокал вина, оставленный на столике возле дивана.
Элечка шепнула Мелихову:
– Она, когда я жила с Юрием Артемьичем, а она встречалась с Гриней, всё время относилась ко мне, как к прислуге. Барыня, видите ли – а я ей всё подавай... Обидно так! Нет, ну ты только представь: мы сидим как-то, собралась куча народу – всё наши родственники. А она, как ни в чём не бывало, говорит такая: «Ой, Элечка, а что ты это мне вилку – вилку! – не с той стороны от тарелки положила?!» – во весь голос! Оооой... – и наклонилась к журнальному столику и взяла с него бокал красного вина.
На Элечкиной груди сверкнул огромный круглый гранат, оплетённый серебряными в черни жгутами. Он был как застывшая во льду капля крови – вина ли. Проекция плещущегося в бокале вина – проекция в камне. Вырванный у спрута глаз – замёрзший и оплетённый, как цепями, серебром. Серебро покрыто чёрным инеем.
Элечка любила скромные платьица и ювелирные украшения.
– Спасибо, – продолжила она, разворачиваясь, – Гриня порою её осаждал, – а плечики её ссутулились, она поникла, опустила голову и поплелась к фортепиано, трепетавшему под руками Маргариты. – Но поёт красиво.
Элечка остановилась и обернулась через плечо. Лицо её осветила игривая улыбка.
– Только я всё равно не имею понятия, чем же именно она так зацепила Гриню. Гриня, вроде бы, умный такой – должен знать толк в людях. Вот только эта Мара!..
– Ты завидуешь? – неловко усмехнулся Мелихов.
Элечка передёрнула узкими плечиками: Мелихов задел за живое. Ей всегда было больно смотреть на то, как мужчины преклоняются пред Маргаритой. А что ей, Элечке – ничего. У неё был Юрий Артемьич, которого она любила – когда-то. Теперь чувства остыли, но когда они пересекались на подобного рода мероприятиях, куда Юрий Артемьич приводил всё новых и новых спутниц, Элечке становилось раздирающе горько. Маргарита блистает своей чёрной элегантностью. На её фоне Элечка, которую кто-то когда-то называл девочкой-драгоценностью, была блеклой серой мышью.
– Ладно, – махнул рукой Мелихов, – пойду я.
Элечка удивилась:
– Куда?!
– Не знаю, – передёрнул он плечами, уже влезая в куртку. – Пока!
– Пока, – хмыкнула непонимающая Элечка. – Удачи. Смотри, не упади в канаву или не усни под забором.
На покачивающихся ногах Мелихов осторожно спустился вниз, придерживаясь за шероховатую стенку. Стену покрывал пыльный слой отколупывающейся извёстки, сверху покрашенной зелёным. Может быть, стоит остановиться в пролёте между лестничными маршами, достать из потайного кармана розовый фломастер и написать на белой извёстке какое-нибудь стихотворение?
Стихотворение, посвящённое когда-то покойнице – Милане Малявиной. Вот так:
Нефтяная Венера танцует красиво
Под грохочущий скрежет рабочих цехов.
Нефтяная Венера... Как скользки мотивы
Моих странных и в чём-то бездарных стихов.
Нефтяная Венера отравленной почвы
То смеётся, то плачет - и всё без причин.
Нефтяная Венера - оковы цепочек.
Я целую осколки взорвавшихся мин.
Нефтяная Венера оставленных хижен,
Нефтяная Венера с неоном в крови –
Лобызанное тело Нью-Йорком, Парижем –
Я бы этой Венере весь мир подарил.
Нефтяная Венера промышленных строек,
Труб фабричных, градирен и бункеров –
Я бы эту Венеру омыл в поцелуях...
За неё и убийство не грех. Я готов!..
Самым ценным для Мелихова всегда было его собственное творчество. Все говорили, ему и самому казалось: ни на что большее он не способен. Как бы унылы и бездарны ни были его стихи, но для Мелихова это было последней отдушиной – потому что каждый день его преследовала смерть. Он оставлял смерть на бумаге. Иногда эту смерть заменяла любовь.
А ведь кто-то тоже творил... Позже – умер.
Это была женщина. Её убили. В столе остались стопки тонких тетрадей в двенадцать листов. В квартире остался Митя – один. Он следует завету Бродского, запершись в своей комнате. А ещё он не знал об оставшихся в столе тонких тетрадях, но если бы знал, то непременно возревновал сыновьей ревностью.
Мелихов остановился в следующем лестничном пролёте, подтянулся, как ребёнок, на носочках и заглянул в высокое окно. На кончики его пальцев налипла пыль с подоконника. В углу стояла одинокая стеклянная банка из-под кофе. Пожелтевшая вода в ней, плавающие рыжие бычки – мусор, от которого отказались создавшие его же люди. Мелихов подумал, что в какой-то момент люди тоже становятся точно таким же мусором.
Октябрьский ветер – уже зябкий – просачивается сквозь щели рам, убегает от тьмы улиц, холодя пальцы. Кто бы только знал, где берут эти ветра своё начало, где то невидимое перепутье их дорог. Может быть, это известно смерти, потому что голос ветра в жестяных трубах – это голос смерти?
Мелихов закрыл глаза, запрокинул голову и на обратной стороне век увидел над собой массивные балки перекрытий, как будто бы потолок какого-то заводского цеха, и свисающие с них, слепящие, режущие глаз лампочки Ильича. Стряхнув со взгляда эту картинку, можно увидеть Ничего и почувствовать, чем же пахнет земля... Ничего не совсем чёрное, а имеет тот цвет, который можно увидеть, лишь закрыв глаза, – никакой. Отчётливое восприятие этого странного цвета выходит за рамки способностей человеческого разума. Этому неясному цвету даже нет определённого имени.
А земля пахнет землёй.
Разъярённый ветер – ветер, как дикий зверь, набрасывался на деревья. Жалобно скрипели их сучья, гудела листва. Он обрывал её – красные, жёлтые, оранжевые пятна – остервенело, беспощадно. Он бросал листья под ноги прохожим, как будто они были настолько грешны, что после смерти могли быть лишь вечно попираемы чужими ступнями – как недостойные иного погребения.
Мелихов сбежал вниз по лестнице – быстро. Жалобно скрипнула тяжёлая металлическая дверь, впустила в и без того холодную парадную ещё холода с улицы. Мелихов вышел.
Он решил отправиться в дом покойной Ирины, чтобы найти там её убитого (или нет) горем сына.