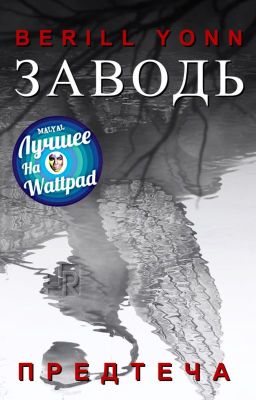Начало московской истории
При всём незаурядном уме, ему только с возрастом пришло наиболее ясное и глубокое осознание: жизнь сильно зависит от правильных и вовремя принятых решений. Теперь уже, должно быть, слишком поздно, чтобы что-то исправлять – но исправить можно. В таком случае пошатнётся привычный жизненный уклад. Его натура не терпит потрясений в собственной жизни. Он привык жить так, как жил эти почти уже двадцать лет: для знакомых профессионал своего дела и примерный семьянин, когда на самом деле дома находиться в тягость, а на работе он по-настоящему отдыхал. Для знакомых его дети всегда сыты, хорошо одеты и выглядят очень счастливыми детьми: никто из этих знакомых никогда не узнает, что Надюшка боится выходить из комнаты, а Алька боится приходить домой, потому что дома Оксана, улыбающаяся гостям, вяло, как призрак, бродит по квартире, и вокруг её невидимого кокона образуется убийственное напряжение... Срываясь на истеричный визг, Оксана кричит, в попытках выяснить, откуда, на какие деньги у Альки новые вещи. Она будет кричать так до тех пор, пока Платон не стукнет ладонью по столу, грозно воскликнув: «Хватит!» – и его слово станет точкой.
Надоело. Надоела эта жизнь, эта визгливая истеричка, эти замкнутые в себе девчонки...
Аля села за столом на кухне, склонилась над книгой. Страницы отсвечивали зеленоватым от шторки её прядей. Бабушке Море – она теперь осталась только во снах – не нравились её волосы. Сентябрю нравились. Сентябрю нравилась она, а ей нравился он – юноша, названный почему-то по первому месяцу осени. Сейчас без него тоскливо, но ему ни позвонить, ни написать. А в то лето было весело. Потом она рассказывала подругам о том, что провела всё лето у бабушки Марины в деревне и познакомилась там с соседским пареньком Сашей.
На кухню зашёл отец, прошёл к холодильнику, хромая и впечатывая трость в кафельный пол. Аля бросила ему в спину недовольный взгляд: она надеялась почитать в тишине на кухне, пока в их с Надей комнате сестра болтает с какими-то людьми по видеосвязи, а в гостиной мать гладит бельё и краем глаза смотрит дурацкий сериал по федеральному каналу. В таких сериалах всегда глупые сюжеты с претензией на слезодавильность, безликие герои, плохо играющие актёры, убогая постановка кадра – и так и сочится дешевизной проекта.
Отец наклонился к Але, осторожно заглянул в книгу. Булгаков, «Мастер и Маргарита», эпизод в Александровском саду. Читая, Аля начала бредить поездкой в Москву, как иные, читая классику, бредят поездкой в Петербург. Однажды она уже была в Первопрестольной, но это было очень давно, и из всего она помнила только то, как похож собор Василия Блаженного на Красной Площади на храм Спаса-на-крови. Потом отец, дыша в лицо табаком, объяснил ей, что, по задумке градостроителей, Спас-на-Крови должен был стать отражением, двойником торжественного собора из сердца древней столицы и показывал, что Санкт-Петербург ничем не хуже Москвы. Только Спас на крови – стоит на месте, где народовольцы подорвали Александра Второго. Ещё отец рассказывал о злой иронии судьбы: полицейская лошадь, на которой раненого царя отвозили в Зимний дворец, была изъята, когда арестовывали кружок чайковцев, и прежде на этой самой лошади сбегал из Петропавловской крепости Пётр Кропоткин.
– Пап, – обратилась Алька к отцу, – меня Марфа на осенних каникулах в Москву приглашает.
– Поезжай, – отозвался обычно так неразговорчивый отец, шаря по навесным шкафчикам.
– А мама?
– Что – мама?
– Она не будет против, я хотела спросить.
Аля хорошо знала: мать порою закатывает истерики ради истерик, как будто бы ей доставляет удовольствие.
– Вот с матерью и говори.
Микроволновка взвизгнула, со звоном открылась дверца. Отец вынул тарелку с котлетой.
– Если будет спрашивать, где я, – сказал он, прежде чем выйти, – скажи, что пошёл по делам.
– Она опять с тобой не разговаривает? – устало вздохнула Алька.
Отец не ответил. Его молчание всегда было неоднозначно и страшно.
А мать... Мать была жалкой женщиной, истеричной домохозяйкой, которая, как и все в этой семье, жила в своей квартирке, ходила кругами, отдельно ото всех: от мужа, от старшей дочери, от младшей...
Мы живём все вчетвером, но каждый из нас невыносимо одинок. Я думаю, отец сильно жалеет, что женился на нашей матери. Известная мне история их отношений кажется по-своему трогательной и прелестной, но это было так давно – а что мы имеем сейчас? Я становлюсь похожей на отца тем, что при любом удобном случае стараюсь не быть дома: мне так же в тягость находиться в четырёх стенах. И ведь как бы сильно я ни ненавидела отца, я не смею осуждать его...
За отцом захлопнулась дверь – он ушёл. Он пошёл пешком в центр, в Михайловский сад.
Он шёл вдоль канала, в перспективе перетекающего в величественный храм Спаса-на-Крови, что удерживал небо на ярких главах и сверкающих золотом крестах. Чем ближе к храму, тем теснее и шумнее становятся толпы, тем сильнее, как будто до треска в перегородках, прижимаются друг к дружке ларьки с китайскими сувенирами. В Михайловском саду – знал Шпагин – его дожидается красивая женщина в чёрном пальто и в чёрной шляпке. В руках она вертит жёлтый цветок – по тексту.
Осенью нет жёлтых цветов. Осенью жёлтые листья. На фоне осеннего неба омыт золотом храм Спаса-на-Крови.
Маргарита сидела на скамейке и рассматривала подобранный с земли кленовый лист, по краям которого налипли песчинки. Михайловский сад с каждым днём всё сильнее походил на помешанного, медленно терявшего листву по собственным тропам и газонам, потому что каждый опавший лист находил своё место на антресолях Того Питера до тех самых пор, пока кто-нибудь не сложит его в гербарий. По ту сторону зеркала́ городов по осени особенно остро пахнут засушенными гербариями, запрятанными по книгам – мумиями мёртвых листьев, готовых рассыпаться в недостаточно аккуратных руках. В таких листьях обычно бывает засушена меланхолия и, словно в пойманных на острие булавки бабочках, застывает посмертная красота. В засушенных листьях – кленовых, рябиновых, дубовых – запечатлевается беспокойное смятение, одновременное чувство восторга и жутчайшей печали.
Когда наступает октябрь, ветер в исступлении мечется и рвёт по улицам, небеса посыпают асфальт графитовой пыльцой дождя – тогда-то, в безысходно горьковатом запахе опавших листьев особенно близко чувствуется лёгкое дыхание всеобщей смерти.
В Михайловский сад, объятый кованой оградой, вошёл Шпагин. Он не знал, в какую сторону идти, но не стал останавливаться у плана. Колкая морось гнала всех прочь – под навес, в тепло, к свежезаваренному чаю. Шпагин же решил измучить свою Маргариту промозглостью осени и пройти, подтаскивая за собою скованную октябрьскими ветрами ногу, по всем тропкам в поисках скамейки, на которой сидит Маргарита. Вымотанный и замученный такой своей жизнью – он, как простой человек, хотел за прогулку отдохнуть от утомительной железобетонности стен осточертевшей квартиры и спрятаться за кованой решёткой в стиле модерн. А ведь когда-то в этом треклятом городе было модно изящество и горделивость, а ещё – смешивать кровь с морфином...
Осень прикрывала свою меланхолию под пышным золотом и гроздьями рябиновых бус. Осень заставляла тосковать по тому, что было хорошо, но безвозвратно ушло, унеслось и кануло в небытии мрачного зеркала: это была юность и те несколько дней в мае, которые могли бы быть бесконечными и в этом мире. Теперь, глядя назад, Шпагин вспоминал ли, понимал ли, придумывал ли оттого, что впоследствии ошибся и оказался несчастен, первую и единственную настоящую свою любовь. Это, как выясняется, не была та девочка, которой была его жена, и не её отражение. Он испытывал какую-то странную, почти болезненную и порочную тягу к телу маленькой горгульи. Пусть совершенно не в его понимании мира она ассоциировалась с серой осенней моросью и гипсовыми фигурами львов, стерегущих вход в городской сад, но в его глазах её опутывал кокон отчуждения, однако вместе с ним была и сила – сила не повиноваться и говорить «нет». Игра, наградой в которой стала бы эта девочка, была бы гораздо интереснее, нежели извращённые им и той замухрышкой «дочки-матери».
Но где сейчас та, другая, у которой волчья тоска в глазах и блестящий бисер на руках? Её не вернуть. Её нет. Поздно. Да и какою бы стала она, если бы тогда он взял её в жёны?
Остаётся только самобичевание и самообман. В похудевшей женщине с обрюзгшим лицом, что продолжает быть с ним рядом, ночами приходится видеть ту, чтобы любить её так же, как ту... Только с наступление утра рассеется туман – и она вновь будет непрерывно скучать.
Да, он изменял ей.
Да, она догадывалась.
Он знал очень много женщин, тогда как из всех мужчин она знала только его одного.
Оксана звонит – он не возьмёт трубку. Он чувствует, как её молчаливая ревность следует за ним по пятам и невыносимо дышит в самый затылок.
Я думаю, у отца есть любовница...
На скамейке в Михайловском его дожидалась Маргарита, терпеливо снося мелкие уколы мороси в лицо. Она закрывала глаза. По краешку ноздри, на кончике носа, светлела собравшаяся пудра, чем-то похожая на лёгкую пыльцу кокаина. Маргарита покачивала перекинутой через колено ногой, затянутой в элегантные тёмно-синие с ажурным рисунком колготки. В руках, как флажок, она держала кленовый лист – болезненно-желтушный, истончившийся без хлорофилла. Из-под круглой чёрной шляпки – аккуратной, словно у скромной воспитанницы института благородных девиц – на плечи, на грудь падают пышные вьющиеся волосы, полыхающие рыжим огнём.
Нет, её волосы благородного каштанового оттенка – как у Фаты Морганы. Маргарита – это Фата Моргана, это пани Эржбет, это все, чёрт побери, рыжие ведьмы, включая и фрау Кох.
Кукловод сел с нею рядом, отставил трость.
Это его она ждала, но не ожидала увидеть хромого с тростью, хотя всё равно поверила: это правда он. Высокий, одетый со вкусом, достойно держится – действительно бог. Каждый жест его, каждое слово сквозит превосходством над человеческим.
– Кто бы мог подумать, – начал он надменно, высокомерным тоном, – что у Булгакова Маргарита – имя нарицательное, но пишется с большой буквы только потому, что всегда пишется с большой буквы?..
Маргарита вздохнула и поглядела на жёлтый лист в своих руках. Промолчала.
Он же смеётся над ней: все смеются над ней. Она не хочет, не может терпеть – но только он последняя её надежда. Только он и сможет помочь – и она поняла это ещё тогда, когда во всех кафе было ещё дымно, а она с Лукерьей зашла выпить кофе. Она встретилась взглядом с человеком за столиком возле окна, когда он отвлёкся от ноутбука и глотнул коньяку. Почему-то ей хорошо запомнилось, что в том кафе коньяк подавали, как полагается: в округлых, слегка вытянутых вверх, чтобы сохранялся аромат, бокалах на коротких ножках. Лукерья резко притянула её к себе за плечо и пронзительным шёпотом заговорила в самое ухо: там есть Чернбог. Она не могла видеть его, потому как у неё не было глаз, но при этом ощущала его присутствие рядом – а Маргарите не было дела.
Маргарита теребила в руках ломкий черешок кленового листа. Ещё в прошлом году она любила осень, как девчонка, любя всех и вся. Той осенью она не коротала пасмурные дни, заточённые в четырёх стенах вместе с двумя жильцами, когда не было работы. Но в один из таких пасмурных дней она услышала: «Нам пора расстаться».
– Взрослая женщина, – с печальной усмешкой говорила она, – а всё ещё убиваюсь по нему. Я как будто бы застряла в той осени, а она осталась во мне – и я так ненавижу осень, потому что она сырая, промозглая, противная, как человеческие внутренности!
– А вы самый обычный человек, – заметил Кукловод.
Маргарита искоса взглянула на него, едва заметно скривив красиво очерченные винно-красные губы. Она могла бы быть само́й осенью, но Кукловод слышал о рыжеволосой девочке – одна из его дочерей носила её имя, – которая ненавидела всё рыжее, и знал маленькую горгулью, которая и была осенью и смотрела тоскливыми мельхиоровыми глазами. Тогда он желал бы владеть той маленькой горгульей, но теперь каждую осень в сердце его червём вгрызлась та самая тоска – по ней...
– А вы бог, – согласилась Маргарита, – и только вы можете мне помочь. Вы же можете вернуть мне его?
– Я всё могу, – грустно улыбнулся Кукловод.
А настоящая Маргарита – красавица, роскошная женщина. Может быть, это как раз такая и была нужна? Не обязательно её любить – важно, чтобы она просто была рядом. Все бы думали, они идеально подходят друг другу, потому что так оно и есть.
Только она до сих пор почему-то очень сильно любить другого...
– Но вы уверены, что любите его и хотите его вернуть?
– Уверена, – ответила Маргарита таким тоном, как будто оставила злобу за недосказанными словами о святотатстве.
– А любит ли он вас? – продолжил Кукловод, смакуя чужую боль. – Я не ведьмак, я не делаю привороты.
– Вы злой.
– Нет, – но он был доволен, как был бы доволен в детстве, – отнюдь.
– Хорошо, я поверю, что вы хотите мне помочь. Извините за такую резкость, но всё равно... я знаю, что я ведьма!
– А я знаю, кто убивает ведьм.
Лицо Маргариты стало бело, как полотно. За шиворот задул озноб. Кукловод вновь мягко улыбнулся.
– Ведь вы тоже мне поможете, Маргарита?
– Как?! – спросила она.
Лоб остудила испарина.
– Если вернёте его и привяжете к себе. Но подумайте хорошо: он правда вам нужен? вы готовы связать свою жизнь с таким человеком?
Он мучил её.
– Что значит – «с таким»? Вы сомневаетесь, что я смогу сделать его лучше?
Кукловод задумчиво отвёл взгляд, медленно проследил за девушкой в нарядном розовом пальто. У неё крупные сверкающие серьги, из-под рукавов выглядывают браслеты. Она походила на Халамидницу своими браслетами, серьгами, но от той сильнее веяло осенней меланхолией...
– Женщины, – протянул Кукловод, – все вы думаете, что сможете что-то изменить, даже когда соглашаетесь подчиняться. Хоть один мужчина стал от этого лучше?
Маргарита метнула в него недовольный взгляд.
Он издевается.
– Моя жена сделала меня лучше за все эти годы?
– Я не знаю, каким вы были раньше.
– Вот видите.
Она фыркнула.
Будешь разрушать себя до конца, Двуликая?
�����D>���