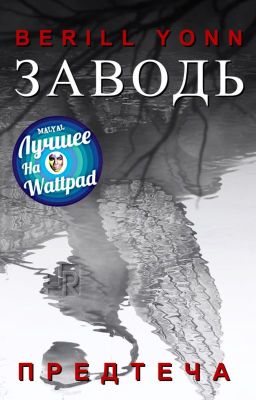Привычно
В лабораторию вбежала взволнованная Юля. Тяжело дыша, она бросилась к Платону Никифоровичу, замерла, как в параличе, но лицо её всё равно прожигали слёзы. Шпагин стоял в задумчивости, смотрел, как дрожат тощие Юлины плечики под блузкой, и пытался понять, что могло так шокировать её – до дрожи, до слёз, до бескровной печати холодного ужаса на неподвижном лице. Единственное, что было ясно: случилось что-то действительно страшное – как будто бы какая-то очень необычная смерть...
– Что случилось, Юля? – обратился Шпагин к санитарке, одновременно снедаемый нетерпением, но молчаливо стыдясь того, что сам не может догадаться.
Так, наверное, и наступает старость.
Юля воззрилась на Шпагина слезящимися глазами.
– Ирина Максимовна... – едва шевелила она бледными – видно и под плёночкой вишнёвого блеска – губами, – она там... – кивнула судорожно на распахнутую дверь в секционную, – мёртвая...
– Вот как, – протянул Шпагин и, отстранив Юлю свободной рукой, направился в морозильную. – Вызови полицию и скажи Жигулёвскому.
– Да, Платон Никифорович, – растерянно тряхнула розовыми локонами Юля.
Дрожащие руки её впились в телефонную трубку, которая стала как будто тяжелее. Гудки. Поцокивания набирающегося номера. Странно, что ноль-два занято...
Что я за дура!
Сто двенадцать?
Сто двенадцать же, блин!
Через стену – морозильная. Платон Никифорович там стоит над выдвинутым морозильником, осматривает покойницу. Она – вчера смеялась за чаем, говорила что-то, планировала, куда поедет в отпуск... Теперь Шпагин, у которого руки были бледные от въевшегося в кожу талька, натянул белые латексные перчатки и кончиками пальцев мягко коснулся затвердевающего горла, затем с трудом разодрал смёрзшиеся веки покойной. Между клетками в этом теле уже, казалось, застывали микроскопические кристаллики льда. Холод сохранил её такой, какою она и была – только глаза застыли и остались смотреть стеклянным взглядом в никуда. Она как живая, но с алой бороздой удушья на шее. В ней смёрзлась судорога, заключившись в выпученных глазах, в беспомощно открытом, как у вытащенной на сушу рыбы, рте, в напряжённо сжатых кулаках. А на безымянном пальце её чернел узенький ободок колечка-хамелеона, подёрнутый налётом инея. На колечке этом написано: «Ирен».
Как-то вечером, – с циничной усмешкой вспомнил Шпагин – когда он, Ирина Максимовна, Юля и Ромыч сидели в кабинете, пили чай и, как всегда, беседовали о чём-то, Ирина Максимовна рассказывала, почему решила работать именно патологоанатомом: в детстве она мечтала о куклах в человеческий рост, которым можно было бы заплетать косички. Они с Юлей тогда посмеялись и забыли, но теперь – теперь она сама стала такой куклой. Вот торжество смерти: скрюченные пальцы, вечный ужас в глазах, неподвижность и холод в суставах. Кто-то задушил её этой ночью. Горло оказалось предательски хрупким.
Так легко...
Ни один мускул не дрогнул на лице Шпагина. Он рассматривал алую борозду, привычными движениями ощупывал истончившуюся кожу, под которой вились серо-голубые венки. Его раздражала тупость убийцы, не нашедшего лучшего способа спрятать труп, нежели положить в этот морозильник.
Вдруг он замер, сосредоточенно оглядел покойницу. Закурил. Её не задумывали убивать! Всё произошло случайно. Наверное, она увидела что-то не то на своём ночном дежурстве. Он огляделся задумчиво, вспоминая: кто ещё оставался этой ночью? Вахтёры, санитары – много знакомых лиц, много подозрений. Каждый из них мог делать что-то такое, чего никак нельзя было видеть другим. Единственное, что понятно точно: Ирину (Ирен) убило её любопытство и обострённое чувство справедливости – нельзя в этом мире быть такой сильной.
Закрыв с грохотом морозильник, Платон Никифорович огляделся. В конце морозильной темнел дверной проём. Платон Никифорович подошёл к нему, опираясь на свою извечную трость. Вокруг его головы и плеч рассеивался невидимо-сероватый ореол табачного дыма, в котором проплывали мысли. Мысли такие же лёгкие и разрозненные... За дверным проёмом – приёмная, где можно что-нибудь найти, что бы могло стать зацепкой и, может быть, даже уликой.
На лице Шпагина играла осторожная улыбка.
В приёмной Мелихов возился с очередным трупом, доставленным по «скорой». Мужик с прозрачно-багровым носом и серебристой, словно из металлического ворса, щёткой усов лежал на каталке, пока нерасторопный Мелихов стаскивал с него одежду, путаясь в пуговицах и петлях. Шпагин неслышно обошёл вокруг, огляделся. Взгляд его задержался на полу, чуть дальше носка ботинка – внимание приковало серебряное колечко, украшенное полоской мелких камешков, что сверкали и переливались на свету. Он поднял его, разглядел внимательными желчновато-жёлтыми глазами: все камни – бриллианты или фианиты – на месте, на серебряном ободке чёткие полосы крупных отпечатков мужских пальцев.
– Ромыч, – позвал он наконец, заворачивая кольцо в бумажку и пряча в карман, – что тут было?
Мелихов вздрогнул, обернулся. Шальные глаза по-рыбьи неподвижно замерли на высокой фигуре Шпагина. Он сказал бы что-то – да нижнюю челюсть свело от неожиданности. Он-то всё знал, всё помнил. Про кольцо тоже...
Шпагин подошёл к нему так, чтобы можно было склониться над ним угрожающе – ради большего эффекта.
– Если ты о нём заикнёшься, смерть станет для тебя лучшим исходом. Усёк?
Мелихов пытался выдавить из себя «да», но получалась только немая икота. Он кивнул.
– Вот и договорились.
Мелихов отвернулся. Какое-то облегчение почувствовал он от этих слов. Прилив холода, сконцентрировавшегося в тяжёлый комок в пояснице, ослабел и отступил – как будто бы спал железный пояс. Полиция приедет, будут осматривать морг в поисках улик – да кто спросит, видел ли Мелихов это кольцо, не видел ли? Полиции ему бояться нечего: он не убивал, не делал ничего плохого. Его совесть чиста. Его правда при нём. А что до кольца – Платон Никифорович обязательно найдёт ему лучшее применение, нежели эксперты из полиции.
В приёмной теперь накурено.
Мелихов накрыл труп мужика простынёй и вышел следом за Платоном Никифоровичем. Повода не бояться Платона Никифоровича, всё же, тоже не было: никому не понять, что такое он задумал, когда его действия могут оказаться направлены против кого угодно. Он – Мелихов тоже – прекрасно знает, кто настоящий убийца. Серебряное кольцо – улика двух преступлений, отличный инструмент манипуляции пешкой в очередной игре. Это повод бояться: Тот Питер не читает мыслей – он лишь видит и запоминает поступки. По своей натуре Кукловод опасен – и сейчас особо опасен лишь для одного человека. Весь смысл его существования в этом мире заключён в том, что он всегда будет опасен...
Разгорячённый лоб остудила выступившая испарина.
В морозильной было необычно живо... Люди в серо-синей форме: следователи, криминалисты. Столы, морозильники – всё в пыльце чёрного графитового порошка. Графитовый порошок – он поднимается, собирается в облака и зудит в носу, нависает густым туманом над непроглядной чернотой Того Питера, оседает на тонких крыльях. Люди этого не видят. Они чем-то заняты.
Быстро же менты приехали.
Один из криминалистов – молодой, но лысеющий, в свободной форменной куртке – выпрямился перед Шпагиным и, взглянув на него внимательно, уточнил:
– Шпагин Платон Никифорович?
Он манерно кивнул и принялся медленно стягивать с рук плотные латексные перчатки.
– К вашим услугам.
Полицейский подтянулся на носках и заглянул ему через плечо.
– И... Роман Мелихов? – и представился:
– Оперуполномоченный лейтенант Маринин, – кивнул в сторону лаборатории. – Подойдите к следователю для дачи показаний.
Мелихов глянул в сторону: возмущённый, с покрасневшей лысиной, Жигулёвский препирался с криминалистами. Вокруг них как будто витало то самое графитное облако...
В лаборатории за столом, за которым вчера Ирина Максимовна разливала чай, сидели следователь, криминалист и дрожащая от слёз Юля. Когда вошли Шпагин и Мелихов, криминалист поднял на них глаза и подозвал сдать отпечатки пальцев. Далее оставалось ждать, когда Юля закрепит подписью под протоколом, что с её слов записано верно. У неё похолодели кончики пальцев, а ручка в агонии ходила ходуном по бумаге – и скрип от пера, казалось, был невероятно громок.
– Что ж, Платон Никифорович? – обратился следователь к усевшемуся на стул, закинув ногу на ногу, Шпагину. – Вы осматривали труп?
– Конечно. Это же моя работа. Время смерти установить невозможно: её сразу же уложили в холод. А задушили её, по всей видимости, куском простыни.
– Простыни? – переспросил следователь.
– Мы пускаем старые простыни на тряпки. Эти тряпки можно найти в приёмной. Впрочем, я не настаиваю, что это была именно такая простынь – но у вас пока нет альтернатив. На шее след от нежёсткой удавки.
– Наши эксперты разберутся, – отрезал следователь. – Сейчас вы – свидетель и, возможно, подозреваемый. Расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы в последний раз видели убитую?
Шпагин задумчиво опустил голову и посмотрел на соединённые кончики своих пальцев.
– Вчера вечером. В девятом часу. Если быть точнее, в двадцать минут. Я уже собирался уйти домой, но Ирина пришла на дежурство, и мне пришлось задержаться, чтобы выпить чаю – такова наша традиция, если угодно.
– Кто ещё пил с вами чай?
Платон Никифорович нахмурился. Могло показаться со стороны, он вспоминает, но он всего лишь затеял очередную игру: ему не нравилась чувствовать себя ведомым в разговоре со следователем.
– Ирина, я, – начал перечислять он, – Юля Сорокина и кто-то ещё... Не помню.
– Я, – подал голос Мелихов и поймал на себе пристальный взгляд следователя.
– С вами мы позже поговорим, молодой человек, – а затем он продолжил, возвращаясь к Шпагину:
– Что было после того, как вы закончили пить чай?
– Я пошёл домой и лёг спать.
– Кто может это подтвердить?
Он едва заметно улыбнулся, про себя смеясь над некоторой абсурдностью заданного вопроса.
– У меня есть соседи, жена и две дочери, товарищ следователь.
– Хорошо, – кивнул следователь, подавая ему протокол. – Подпишите вот тут. Мы свяжемся с вами, если нам ещё понадобятся ваши показания.
Следующим следователь подозвал Мелихова, задал ему все те же самые вопросы. Следователю принесли список работников морга, он пробежал по нему расслабленным взглядом, но всё же сумел выхватить одну фамилию, которую до сих пор никто не произносил вслух. Он поднял глаза на Мелихова и спросил:
– Кто такой Зоркин?.. эм, нет... Зорчин?
Ромыч вздрогнул, поглядел в нерешительности на Шпагина – всё теми же неподвижными глазами, – как будто задавая молчаливый вопрос, как будто моля о помощи.
– Он работает с вами? – уточнил следователь.
– Да-а, – неуверенно протянул Мелихов.
– А он оставался на дежурство этой ночью?
– Не знаю... не помню...
– Вероятно, да, – вмешался Платон Никифорович. – Лучше уточните у вахтёра.
Все знали, что вахтёр всегда пьян.
Платон Никифорович стоял, чуть упершись в подоконник, рядом прислонилась плечом к стене печальная Юля, опустила голову и спрятала лицо в розовых прядях. Её фигурка была чуть освещена по контуру нежным лучом, с улицы проникавшим в окно, но на ссутуленных плечах лежала мрачная тень, сползшая со стены, выкрашенной зелёным, как в парадных.
– Выйдете, пожалуйста, – попросил следователь.
Шпагин кивнул, поманил за собой Юлю. Они сели в коридоре. Юля уперлась лбом в ладони. Плечи её судорожно тряслись, она захлёбывалась горькими слезами, заливая какую-то тягостную пустоту внутри себя. Не верилось ей во всё то, что творилось вокруг. Она отказывалась принимать смерть Ирины Максимовны, ждала увидеть её сейчас перед собой в коридоре – но почему-то казалось, что у неё непременно будут выпавшие из орбит глаза и хрупкая сероватая кожа, обтянувшая изломы голубых венок. Как она выглядит живой? Посмертная маска в памяти вытесняет здоровый цвет лица, строгие глаза и всю-всю жизнь...
Сегодня всё особенно тщетно.
Зачем это всё?