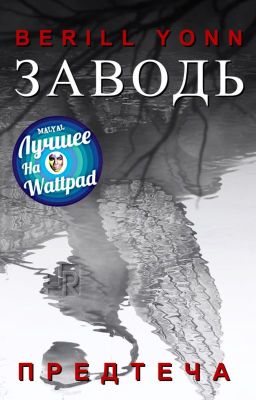Новая дверь
Ирина Максимовна отличалась редкостной чистоплотностью. Если для Платона Никифоровича был важен порядок в общем и целом, то для Ирины Максимовны на первом месте стояла именно чистота: в её кабинете, в секционной, где она работала, никогда не оставалось никаких пятен, никаких разводов, никаких подтёков – всё исчезало сразу же, как только появлялось. Коллеги смеялись: у неё на приведение всё в чистоту после вскрытия сил и времени уходит гораздо больше, чем на само вскрытие – и тем не менее никто не мог поспорить, что Ирина Максимовна Мысягина была профессионалом своего дела. А она всегда оскорблялась из-за того, что никто не помогал ей с уборкой, хотя никогда в жизни никого и не просила: вероятно, она просто находила удовольствие в постоянных своих сетованиях на то, что её никто, даже родной сын, в счёт не ставит. Это порою превращало Ирину Максимовну в самого невыносимого человека. Она же – постоянно принимала какие-то успокоительные, от большой дозировки которых становилась неестественно флегматичной.
Ирина Максимовна ненавидела опознания. Впрочем, опознания не любил никто, но только Ирина Максимовна находила любой предлог, чтобы не присутствовать, просила всех подряд подменить её. Как только приходил следователь, приводя с собой очередного родственника или знакомого покойника, у неё тут же начинала болеть голова, повышалась температура, скакало давление, её начинало мутить – как школьника перед нелюбимым уроком. Поэтому на опознании никогда не было судмедэксперта Мысягиной. Были санитары Мелихов, Зорчин, Сорокина, был Шпагин – но не Ирина Максимовна. Она всегда плохо себя чувствовала.
Так, Платон Никифорович вернулся в кабинет, снял перчатки. Когда к нему постучалась Ирина Максимовна, он не удосужился справиться о её самочувствии, – должно быть, знал, что она прикидывается – а она спросила, как всё прошло, как будто бы не имела никакого представления о том, как проходит процедура опознания. Она прошла к окну:
– Душно у вас, – и распахнула форточку.
В кабинет с шумом улицы ворвался холодный ветер, всколыхнув заскорузлую спёртость прокуренного воздуха.
– Действительно, – согласился бывший в кабинете Мелихов, тогда как Платон Никифорович не сказал ничего – даже об опознании. – Хорошо, что вы пришли.
– Да, – поддержала его Юля, не скрывая иронии, – а то никто бы не догадался...
Унизительно?
Ирина Максимовна слегка улыбнулась, отворачиваясь, и пытливо воззрилась на Шпагина, ожидая, что он что-то скажет.
– Ну что, – начал он, откидываясь в кресле, – у дочери случилась истерика, – и говорил так спокойно, словно не боялся смерти, не знал эмпатии и совершенно не чувствовал никакой тяжести; словно бы ничего не произошло.
Резистентность.
– Узнала? – переспросила Мысягина. – Вот и слава богу.
Юля прошла к ней и осторожно предложила чаю, поглядывая в сторону Платона Никифоровича, словно бы справляясь, правильно ли всё делает. В его лице, кажется, она увидела быстро проскользнувшее одобрение, тут же вновь сменившееся безразличием, но когда Мелихов в задумчивости пропел строчку из песни «Инструкции» (на мелодию которой, к слову, существует не один вариант слов), Платон Никифорович поглядел на него сквозь очки, как-то странно прищурившись, и улыбнулся – может быть, и потому, что мог слушать это когда-то в юности, но улыбка его была как бы заговорщическая.
Тем временем Юля разливала чай. Она думала о чём-то своём, никого не слышала, тихонечко улыбалась.
– Ты же оперу любишь? – обратился к Юле Ромыч.
– Ну допустим, – отозвалась та. – А что?
– Да ничего, – продолжил Ромыч и уже обращался ко всем: – У меня один знакомый ищет, с кем в Мариинку на «Травиату» сходить.
– Когда? – поинтересовалась Ирина Максимовна.
Юля вторила ей:
– Что за знакомый?
Они вдвоём – Юля и Ирина Максимовна – как будто бы старались держаться вместе. Постоянно. Вне работы они могли и никак не пересекаться, у них могло совсем не быть общих интересов, но если в морге что-то требовалось одной, то тут же возникала вторая, чтобы поддержать и помочь. Даже выспрашивая у Мелихова про оперу, Юля невольно для себя следовала примеру Ирины Максимовны.
Ромыч ответил им:
– В следующую пятницу вечером. А знакомый, – он улыбнулся, – хороший парень. Если кто-то захочет пойти, я его номер напишу.
– В следующую пятницу? – переспросила Ирина Максимовна, прикидывая в уме, получится или нет. – Нет, не смогу.
Мелихов вопрошающе взглянул на Юлю.
– А я, кажется, смогу, – улыбнулась та. – Очень рада, что хорошие парни для тебя – это не только те, кто любит потягивать пивко за просмотром футбола по ящику, но и те, кто ходит в оперу.
Мелихов закатил глаза и вздохнул, сложа на груди руки. Ужасно надоело, что Сорока каждый раз находит повод, чтоб подколоть его – или она действительно считает, что Ромыч способен только на прожигание своей жизни у телевизора? Обидно. Сама по себе, она, безусловно, очень милая, но в такие моменты начинает сильно раздражать. Конечно, может, она и совершенно не имеет помысла как-то обидеть его или унизить, но вот Роман Мелихов слишком горд...
Шпагин обратил на Юлю взгляд внимательных жёлтых глаз, задержался ненадолго, а затем оглядел быстро всех присутствующих и спросил:
– А работать вы не собираетесь, граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы?
– Вряд ли, – отозвался Мелихов.
– Обязательно! – улыбнулась Юля. – Вот только чай сейчас допьём.
Дома она не была Ириной Максимовной. Ей бы хотелось, чтобы её звали Ирен, но Митя называл её только мамой. Она оставалась мамой, пока ходила с собранными в хвост жёсткими волосами, со стёртым макияжем и со старым колечком-хамелеоном на указательном пальце. На этом колечке написано «Ирен».
Она знала, что Ирен другая. Как бы было славно показать её одному человеку... Только вместо этого она, придя в квартиру, где никто не заметил её прихода, включила в своей комнате свет и села за стол. В выдвижных ящиках пылились тонкие зелёные тетради, где каждый листок был покрыт синим налётом букв. Там вереницы историй про смелую и шикарную. Ирен и её мужчин, в каждом из которых виделись отражения тех, с кем когда-либо была она сама. Или не была.
Когда она брала ручку, то почему-то очень сильно напрягала пальцы – как будто бы все мысли протекали с кровью по сосудам и вместе с чернилами изливались на бумагу. Так она могла сидеть часами, не замечая ничего вокруг, и педантично выправлять и выправлять тексты. Тогда она забывала о том, что вновь кто-то кого-то убил, о том, что не готов ужин и сын опять засиделся допоздна... В пыльных тетрадях под зелёными обложками кипела своя жизнь со своими радостями и несчастьями, казавшимися порою более настоящими, нежели всё остальное.
Жадно впивавшиеся в ручку пальцы постепенно начали ослабевать. Ирина опустила отяжелевшую голову на стол и осторожно прикрыла глаза. Настольная лампа оставалась включена. Жёлтый свет из-под нагретого абажура растекался, обжигая пыль, по раскрытой тетради, по рукам, терялся тонкими отблесками в волосах, затекал за шиворот фланелевого халата. Она и проспала бы так до самого утра, не сдвинувшись с места, пока не прозвонит будильник, но Митя осмелился потревожить её сон. Проходя по тёмному коридору, он заметил зыбкую полосу света, вытекающую сквозь щель в приоткрытой двери. До того он не слышал, как вернулась домой мать, но теперь ему срочно понадобилось сказать, что он голоден.
– Митя? – тихо удивилась она, встряхивая головой. – Ты чего не спишь?
– Я не ужинал...
– Митя, – Ирина коснулась кончиками пальцев тяжёлых век, – уже поздно. Ты до моего прихода не мог сам разогреть ужин?
Он просто не хотел делать это сам.
– Ты уже взрослый парень, – продолжала Ирина. – Надо быть самостоятельным. В твои годы уже семьи содержали, – недовольство в её голосе всё нарастало, – а ты сидишь дома целыми днями. Мог бы и ужин разогреть...
– Мам, – перебил её раздражённый Митя, – не начинай ты тут сразу!
– Я не начинаю, Митя. Просто уже пора браться за ум. Я работаю с утра до вечера, я устаю, мне тяжело. Ты ведь знаешь, как это напряжно – работать с трупами? А я работаю! Я работаю, чтобы было на что кормить тебя – а тебе влом элементарно разогреть самому себе ужин! Ты же не работаешь, не учишься, не служишь, в конце концов... Ты даже на улицу почти не выходишь! Всё сидишь как сыч и бока растишь, хряк ты жирный!
– Всё! – плюнул Митя. – Хватит! – и хлопнул дверью.
Раздражённая Ирина сорвалась с места, отбросила ручку и кинулась за ним вслед.
– Митя! – звала она. – Митя, перестань себя так вести! Дмитрий!
– Я нормально себя веду! – крикнул он из-за двери, щёлкая замком.
– Дмитрий! – позвала она настойчивее, ударяя бугорком ладони в дверь. – Ты ведёшь себя как скот... Имей совесть! Я ращу тебя, кормлю – а ты такая неблагодарная тварь. Ты сидишь целыми днями вместо того, чтобы пойти работать. Ты совсем как амёба – да и на полном иждивении...
– А кто меня так воспитал? – устало вздохнул Митя, надевая наушники, чтоб не слышать материного причитания.
Прозрачная полоска кольца не её пальце, наверное, блестит серым, если не чёрным. Может быть – тёмно-синее. Так или иначе, всё это ложь.
Ирина угрожает, что выставит его из квартиры и, сотрясая кулаком дверь, говорит, как она устала. Удушая в себе желание пожалеть её, Митя оставался безразличным, ждал, когда придут соседи – они обычно приходили, если мать кричала так поздно, чтобы пристыдить её. Она тупила взгляд, замолкала. Да, она уставала, постоянно видя на работе смерть, приходила домой опустошённой... По утрам и в выходные за хлопотами по дому она всё восторгалась какой-то девушкой, которая работала вместе с ней в морге и ещё училась в первом меде – всё как сватала её. Митя уже привык, не слушал.
Придвинув к себе клавиатуру, он задумчиво уставился в бледный экран монитора, нахмурился, решая, чем бы заняться. В колонках щёлкнуло – новое сообщение. Это та девушка, которая называет себя Джейда Мариенгофф и может рассказать много интересного. Ещё, кажется, у неё кто-то из родителей работает в морге...
Всё – морг. Все – трупы. Живые – а трупы.
Мать говорит, в его комнате душно, а сам он жирный как боров.
Хочется спать...
В этот раз Джейда рассказывала что-то о художнице april-n, о том, как когда-то все посчитали, будто она утонула. Это могло бы быть интересным, но слишком уж спать хочется...
Наутро мама опять разбудила его – по старой привычке. Она буквально вытащила его из постели, привела на кухню, усадила за стол и вновь заставила слушать о санитарах из своего морга. О них Митя знал, наверное, почти всё. Кроме имён. Но он точно знал, что среди них был бывший зек. Почему он вообще работал, если это противоречит «понятиям», оставалось загадкой. Также был странный парень, называвший стихами набор случайных слов. Хотя для себя Митя уже и заключил, что он, должно быть, какой-то идиот, мать всё равно нередко ставила его в пример. Нет, ещё была Юля – единственная, чьё имя он знал. Юля казалась ему особенно яркой звездой в мрачном морге – но настолько яркой, что уже представлялась ему какой-то неземной легендой, чуть ли не ангелом, сошедшим на Землю! Поначалу мать, конечно, недовольно говорила о её розовых волосах, о чём вскоре забыла и начала исступлённо твердить: вот какая хорошая девушка, какая ответственная. Митя порою даже начинал по-сыновьи ревновать её к этой Юле, которую не видел ни разу в жизни.
– Отстань, – буркнул он, – я хочу спать, – и ушёл с кухни.
– Меньше в своём компьютере сидеть надо! – крикнула ему вслед мать, закидывая на плечо пожелтевшее кухонное полотенце.
На сковородке шипели и шкварчали румяные сырники. Ирина скрестила руки на груди и задумчиво склонила голову. Если у её Ирен есть сын, то он определённо не может быть таким, как Митя. Пусть он ночует с девушками и возвращается домой под утро в доску пьяным, чуть ли не ползком. И пусть засыпает в прихожей на коврике для ног, не в силах и снять куртку.
Нет. Лучше, если у Ирен будет дочь – такая же язва...