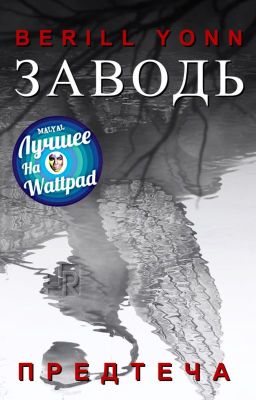Один из многих дней
В перерыве между парами, когда профессор совсем спрятался за кафедрой, Юля осталась в аудитории. Придвинув поближе к себе Светкину тетрадь с конспектами, она фотографировала страницы с записями прошлой лекции. Сама Светка сидела тут же и разглядывала граффити на потрескавшейся зеленоватой поверхности стола.
Огромная аудитория спускалась к кафедре амфитеатром. На верхних ярусах, откуда профессор казался совсем крохотным, было достаточно парко, но всё равно как бы мало или много слушателей ни присутствовало, они все старались забиться на самую верхотуру. На предложение спуститься они отвечали отказом, поясняя, мол «здесь теплее». На самом деле это один из способов спрятаться. А проблемы с тем, что сверху ничего, что происходит на доске, не разглядеть, решались достаточно просто: Светка, например, носила с собой на пары старинный театральный биноклик – маленьких, тяжёлый, с латунными завитушками. Этот биноклик отдала её маме, когда та уезжала в Северную столицу, бабушка – на случай, если кто-то в театр позовёт. Свете бинокль приглянулся, но никто, кроме папы, в театр её не водил – вот она и приспособила эту милую вещицу для дел повседневных.
– Спасибо, – поблагодарила Юля, возвращая тетрадь.
В духоте навязчивым зловонием расплывался запах чьих-то бутербродов с колбасой. Обмахивавшаяся воротом Света отложила конспект в сторону, перегнулась через стол и поглядела на троих, что разъедали хлеб с розовой варёной колбасой из мятой фольги. Неподалёку от них, обложившись рюкзаком, курткой, тетрадями и книгами кто-то устроился подремать. «Московский мешочник», – улыбнулась Света. Ниже девушка с пергидрольными косами сидела в телефоне.
Юля встала, взяла со стола бутылку. Проверив ещё раз, насколько надёжно расположен телефон в заднем кармане, она обратилась к Свете:
– Пойдём в коридор.
– Окей, – кивнула та, одёргивая под медицинским халатом блузку в белых горох. – А то вообще капец – жарища... Может, всё-таки спустимся потом?
– Можно, – пожала Юля плечами.
Там, где был небольшой пустынный холл, с одной стороны выходивший на лестницу за белыми дверями, а с другой упиравшийся в лифты, они остановились. Света сняла с себя халат и села на него, подперев спиной шершавую стену. Теперь стало видно, что на шее у неё повисли наушники на плоских проводках в мягкой розовой, как бубль-гум, изоляции. Юля взглянула на неё с недоумением.
– Тебе халат не жалко?
– Да ну в пень, – только отмахнулась Светка. – Должен же быть от него какой-то толк!
– И правда, – хихикнула Юля, для которой многофункциональность и практичность вещей не значила настолько много. Света же просто умела находить приключения и обладала талантом виртуозно выпутываться из последующих неприятностей. Выходит, ей просто необходимы были знания о никому не известных аспектах привычных вещей вкупе с недюжинной смекалкой.
На желтовато-белом косяке двери на лестницу белоснежной замазкой написал кто-то: «Мы видели труп. Это ужас». Света вопросительно посмотрела на Юлю.
– Как поживает твой патанатом?
Юля – странно – работала в морге. Взглянув на неё, вполне можно было предположить, что она подумывала о такой работе, только вряд ли смогла бы выдерживать дни и ночи в одном помещении с мертвецами.
Быстрым движением она убрала выбившуюся розовую прядь за ухо, отметив про себя, что уже давно хотела подкраситься. Света, сложившая на коленях руки, выжидающе смотрела снизу вверх.
– Платон Никифорович? – переспросила Юля, и тут же ей вспомнился запах формалина и крови, грохот морозильников. – Да как-то... никак.
Сразу после пар она поедет в морг и в который раз увидит ухмылку на правильном нордическом лице странного судмедэксперта.
Про него невозможно рассказать чего-то особенно интересного, если не брать в счёт того, что видела Юля в свои смены. О себе, своей семье он никогда ничего не говорил – только изредка тонкой нитью проскальзывали какие-то странные байки о разных людях. Из этих историй, похожих на городские легенды, вслушиваясь в них внимательно, можно уловить: Платон Никифорович приехал из безымянного захолустья, далёкого что от Питера, что от Москвы. Рос он там то ли в каком-то детдоме, то ли в интернате – родителей у него не было.
– Кстати, – вспомнила Света, – меня Саша к себе зовёт.
– Какой Саша? – не поняла подруга.
Она широко улыбнулась.
– Харламова Саша, про которую я рассказывала. А ты чего подумала?
– Ну, мало ли... Может, это какой-нибудь твой дружок...
Если бы!
Потому что у Светки уже давно никого не было, но это её не особенно удручало. Только порою хандра находила – она списывала это на осенний недостаток солнца. Ещё утешала себя: однажды придёт тот, с кем она останется на всю жизнь. И вообще, вся эта любовь – сплошная мерзость.
Зато у Юли всё хорошо. Иногда интересно послушать её истории и самой всё-таки помечтать...
– Пошли, – бросила Юля, глядя на часы.
Света поднялась и пошла за ней, на ходу встряхивая халат.
Надо спуститься. Конечно, ближе к преподу – но там не так жарко. Аккуратно собрать вещи и пересесть.
– Продолжим, – объявил профессор.
Вдруг его рука замерла над клавиатурой ноутбука. Он взглянул на Свету.
– А что это у вас халат как из задницы?
– Из-под задницы, – шёпотом поправила Юля, отгораживая лежавший на столе телефон толстым анатомическим атласом.
Смущённая Света только улыбнулась, пытаясь незаметно затереть бледное пятно на рукаве.
– Продолжим, – повторил профессор, но уже громче.
Юля на секунду оторвала взгляд от телефона и сквозь упавшие на лицо розовые пряди взглянула на новый слайд, затем вновь опустила голову и принялась наспех записывать. Рядом Света, небрежно заправляя за ухо русую прядь, писала свой конспект в тетради. Удивительно, но при всей внешней своей неаккуратности она была достаточно усердна в учёбе – по крайней мере, по сравнению с Юлей. Да и эта неаккуратность в одежде, растрёпанные волосы, когда-то постриженные под каре до ушей, чуть облезлый лак на ногтях – всё создавало какой-то свой особенный шарм. Она всегда была такая, ещё со школы – небрежная, потому что вся аккуратность направлялась во что-то одно. Всё остальное не имеет значения. Особенно одежда.
Новый слайд.
Юля взглянула – и прямо обомлела.
– Что это? – шёпотом спросила она подругу.
Та сидела с откровенно скучающим видом, развалившись на столе и подперев голову рукой.
– Понятия не имею, – но на самом деле ей было просто лень вникать.
Потому что у неё будет время вникнуть во всё дома.
– Домой заходить не будешь? – поинтересовалась она.
Юля помотала молча головой, не отрываясь от переписки.
– Бедняжечка, – с искренним состраданием вздохнула Света, возвращаясь к конспекту.
И зачем это ей дался морг? Каждый будний день ходить туда – наверное, конечно, и привыкнуть можно. Если хочется нервы пощекотать, почему бы просто не полазить по заброшкам с хорошей компанией?
Здесь внизу прохладно. В следующий раз надо свитер надеть.
***
– На самом деле, – грустно призналась Юля, – он, кажется, мне немного надоел...
– Да ты что! – удивилась Светка.
У неё глаза прямо-таки на лоб полезли. Она почувствовала, как что-то особенно ценное тем, что осталось последним, ускользает от неё. Если бы только это осень заставила Юлю ошибиться!
– Ладно, не будем о грустном, – улыбнулась та. – Ты видела новую аву Петлицкой?
Света сосредоточенно наморщила лоб, одной рукой поправляя лямку рюкзака на плече. В нос ударил кисло-солёный аммиачный запах кошачьей мочи, давно уже, однако, сделавшийся привычным – им пропитались все вещи в её доме.
А Петлицкая – не самая интеллектуальная особа...
– Ава как ава, – равнодушно пожала плечами Света, натягивая серую шапку до бровей.
Юля промолчала – она-то видела и помнила весь этот верх безвкусия. Ссутулив плечи и зарывшись руками поглубже в карманы, она смотрела под ноги, в очередной раз считая ступени. В лицо дул ветер, ударял резкими порывами и завывал в ушах. Накрапывало. Блестящая пыль капелек серебрилась в толстых переплетениях шарфа, в волосах. Над городом нависали рваные клочья серых, как графит, туч, готовых, казалось, налечь и всей своей массой раздавить даже мраморные плечи атлантов.
– Не очень люблю осень, – пробормотала Юля.
Светка удивилась:
– Почему это?
– Ветрено и серо.
Лучше бы она сказала «сыро» – так понятнее. Потому что Светка остановилась и оглянулась на здание университета, тепло озарённое чуть проклёвывавшимся сквозь мрачные тучи солнцем: песочного цвета стены, жёлтый океан вокруг и тяжёлое небо над головой – как красиво!
Юля подождала, пока она сфотографирует. Хотя они всё равно разойдутся в разные стороны по разным скучным жёлтым улицам. Жёлтый – цвет безумия. Этот город сводит с ума переплетениями своих улиц, мостов и каналов, которые затягиваются как холодные силки. Само солнце боится надолго задерживаться здесь, оставляя город дождям и ветрам.
– Ладно, пока, – махнула рукой Светка. – Спишемся! – и убежала в сторону остановки.
– До завтра.
Надев наушники, Юля побрела к метро. В шарфе, в куртке с капюшоном, отороченным клокастым искусственным мехом, она была похожа на одинокого нахохлившегося воробушка, замерзающего посреди промозглого октября. От неба отрывалась ледяная морось и графитовым порошком усыпала асфальт под ногами. Юля остановилась, огляделась вокруг. Словно впервые видит она эту улицу: сверху, справа, слева – со всех сторон смотрят на неё беспристрастные окна. Где-то там ждали доктора ошалевшие человек и кошка...
Она заглянула в какую-то витрину. За прозрачным отражением девушки с русыми у корней розовыми волосами, у столиков с чашками кофе или горячего шоколада сидели люди, уютно освещённые лампами в плетёных абажурах. Вот – какой-то молодой человек заметил Юлю и, улыбнувшись, махнул ей рукой, приглашая зайти. Она улыбнулась, но помотала головой. Хотя и стало как-то теплее на сердце, сейчас она всё-таки старалась сторониться незнакомых людей.
Она уже решила повернуться и продолжить путь, когда в стекле отразилось что-то насыщенно-голубое: за плечом Юли стояла низкорослая женщина в бирюзовом пальто. Морось искрилась на плечах, на шарфе в радужную полоску, рассыпалась алмазной пылью по берету. Как-то диссонировал такой яркий образ с тёмным небом, мрачными домами, слипающейся под колёсами автомобилей пылью – но и не это в ней показалось Юле необычным.
Незнакомка подала ей открытый блокнот, улыбаясь с детским смущением. На мятой странице, усеянной мелкими влажными крапинами, Юля разглядела написанную косыми полупечатными буквами: «Извините, пожалуйста, если я Вас побеспокоила. К сожалению, я не могу ни слышать, ни говорить. Если Вас не затруднит, покажите, пожалуйста, как пройти к метро «Петроградская». Заранее спасибо». Она подняла взгляд на женщину. Та протягивала ей шариковую ручку, продолжая всё так же улыбаться. Юля посмотрела на её ухоженные ногти, пытаясь сдерживать удивление, взяла ручку и написала в блокноте: «Я могу Вас проводить». Вмиг лицо незнакомки загорелось той нечеловеческой радостью, которая возникает обычно, когда кто-то соглашается сделать что-то почти невозможное, но крайне необходимое. Почему-то именно в этот момент Юля и уловила, что было с нею не так: чересчур бледная кожа, красноватый ободок радужки вокруг зрачка и белые-белые волосы. Впервые в жизни она так близко видела живого альбиноса.
А эта женщина, убиравшая блокнот в сумочку, была ещё и глухонемой...
Юля замахала руками, всячески пытаясь показать, что ещё рано убирать блокнот. Удивлённая женщина замерла, странно глядя на неё своими красноватыми глазами. «Можно с вами сфотографироваться?» – написала в блокноте у неё Юля – это для того, чтобы рассказать потом, когда она приедет в морг, об этой женщине кому-нибудь вроде Мелихова. Может быть, и Ирине Максимовне тоже будет интересно.
Ирину Максимовну она повстречала в коридоре. Сейчас, когда всё тело пробивала дрожь из-за холода и из-за страха опоздать, Юля позабыла о том, как хотела что-то рассказать. Она даже как будто и Ирины Максимовны не заметила, но та остановилась и крикнула вслед:
– Юля! Я такая незаметная?!
Что-то явно уже успело вывести её из себя. Лучше не рисковать – осторожно улыбнулась Юля.
– Извините, конечно же, – потупилась она, подобно провинившейся школьнице, – добрый день.
Ирина Максимовна несколько изменилась в лице. Тень раздражения исчезла – осталась лишь серьёзность в клине складки на переносице, потому что эта женщина всегда смотрела на мир из-под чуть сдвинутых бровей. Передёрнуть бы плечами, чтоб стряхнуть мрачный взгляд.
– Платон Никифорович сейчас вместе с Зорчиным в третьей, – сказала она. – Там следователь из милиции.
– Ясно, – протянула Юля.
Ирина Максимовна молча кивнула и пошла дальше. Юля же поспешила в кабинет Шпагина, чтобы прийти раньше судмедэксперта. Там горели длинные ртутные лампы, освещая тесное пространство между стенами, в котором ютилась вся скудная обстановка: раковина, белый шкафчик с застеклёнными дверцами, несколько очень разномастных стульев, письменный стол, с календарём и потёртое кресло. Такая келья – ничего лишнего. Стены здесь покрашены точно так же, как и в зелёных парадных. Ещё здесь точно так же пахнет куревом, но из секционной просачивается формальдегид.
В кресле у стола Роман Мелихов, запрокинув голову, размахивал рукой из стороны в сторону, как если бы отмерял доли в неслышной мелодии. Губы его беззвучно нашёптывали что-то. Он выглядел нелепо и даже пугающе, но давно пора бы смирить с его заскоками: он поэт... Он поэт, но его ритмически сложенные слова едва ли можно назвать и верлибром. Получается, он просто ненормальный, помешавшийся на мертвечине.
Юля осторожно сняла куртку, боясь побеспокоить его. Только коварный шелест её всё же выдал – и мягкая рука Мелихова замерла, а сам он обратил на Юлю свои шальные глаза – карие, резко выделяющиеся на фоне светлых волос. В тот миг, пока он пытался понять, кто стоит перед ним, можно было бы вписать и целую жизнь. Юля терпеливо ждала, когда он узнает её и, может быть, хотя бы ради приличия поинтересуется, как у неё дела – но он всего лишь буркнул:
– Привет, – неосмысленно проскользнувшее вдоль слуха.
«Ладно», – подумала Юля, так же холодно здороваясь.
Не намеревавшийся вести разговор Мелихов отвернулся. Рука его продолжила монотонно раскачиваться, как молчаливый метроном. Он как будто бы вылавливал случайные слова из воздуха, а потом складывал в тексты, где был важен лишь ритм. Он утверждал, будто слышит отголоски всех слов города, различая их в белом шуме ветра и автодорог, но на деле был простым сумасшедшим в забрызганном кровью полиэтиленовом фартуке – что юродивый... И ведь так и не скажешь, будто с Мельховым что-то не так: простой парень с добродушным лицом и вечно недоумевающими глазами. С одной стороны, его даже жалко, но раздражает он всё-таки гораздо сильней. И ничего удивительного не будет, если однажды вдруг окажется, что Роман Мелихов – шизофреник или наркоман. Возможно, что и всё сразу.
Стоя в позе Наполеона, Юля сосредоточенно вслушивалась в молчание, изрешечённое часами. Часовые стрелки – условность, но и они могут рвать по частям. Уши побаливали после наушников. За окном клацала ветром улица. Слух как будто бы обострялся. Юле казалось, она может различить и безмолвный шёпот безумного Ромыча – что-то про некрологи и блевотину на кафеле. Слова его становились всё навязчивее, вдавались глубже в голову и колкой металлической стружкой оседали в памяти, а Юля всё думала с грустью о той глухонемой женщине с белыми волосами. Каково это – не слышать? Каково это – не говорить? Трамваи дребезжат и громыхают по рельсам, автострады рвут ветер в клочья, тоннели в метро завывают, когда темнота разбивается о поезда... Слово «спасибо» звучит кругло и светло, «город» всем своим массивом обрушивается на уши, а «осень» покалывает лицо холодной моросью и оранжево пахнет жухлой листвой – такое называется синестезией.
Забывшись в мыслях, Юля не заметила, как вернулся Шпагин. Постукивание его трости по полу как будто бы смешалось с тишиной, с дыханием часов на стене и монотонным шёпотом Романа. Юля, кажется, на миг и вправду оглохла. Только когда Мелихов освободил Платону Никифоровичу кресло, в котором несмело звякнули пружины, она поймала себя на том, что всё-таки может слышать. Она отчётливо услышала, как Платон Никифорович распорядился Мелихову: отправляться в секционную. В воздухе витал едва уловимый запах кишечного сока.
– Добрый день, Платон Никифорович, – несмело поздоровалась Юля, когда Мелихов исчез в секционной.
Если она и могла бояться кого-то конкретного, то боялась двух этих – судмедэксперта и санитара. Ей казалось, каждый из них безумный по-своему, но оба помешались на почве постоянного вида смерти изо дня в день. Самой пора бы – уже давно – найти работу полегче. Только нет... Она отсюда не уйдёт ещё долго!
– Здравствуй, – медленно протянул Платон Никифорович, расплываясь в странной улыбке.
Под верхней губой серебрился краешек металлического зуба.
Паузы между словами – пугающие. Манерность этого человека мучительна: он словно психопат, серийный убийца, наслаждающийся, смакующий каждый вскрик жертвы. А он показывает на циферблат часов на запястье и замечает Юле, что она сильно задержалась.
– Какая же причина на этот раз? – с издёвкой спрашивает он, а глаза за стёклами очков загораются демоническим огнём.
Он как будто бы знал всё наперёд – как всегда. Он как будто бы специально слушал – чтобы проверить правдивость своих выводов.
– Я станцию проехала...
Платон Никифорович приподнял бровь. Очевидно, ему было интересно. А Юля была рада ему рассказать о той глухонемой женщине-альбиносе, которая искала своего сына: она писала всё в своём блокноте, а на глазах у неё поблёскивали слезинки. Хотелось обнять её крепко-крепко, пожалеть – а потом ещё вместе с нею отправиться на поиски.
Шпагин внимательно слушал, по обычаю своему ничего не говоря. Когда же Юля подвела к концу и показала фотографию с той женщиной, он равнодушно взглянул, отвернулся – и ничего. Может быть, и показалось бы на долю секунды, как по лицу его мелькнула тень того выражения, которое и могло выдать что-либо, но скрылось оно так же быстро, так что вполне могло остаться незамеченным. Юля даже не успела проследить – потому и не удивлялась, что в таком большом городе эти двое могли пересечься прежде.
Впрочем, вряд ли они встречались...
– Поставь чай, – бросил Платон Никифорович, полезая за сигаретами.
Вот так, оказывается.
Юля отошла от окна, достала из застеклённого шкафчика старый электрический чайник. В металлическое дно его ударила резкая струя из-под крана, зазвенела мелкими брызгами. Юля поймала себя на мысли, что теперь, уже рассказав кому-то о той женщине, не задумывается о том, будто можно не слышать ни плеска воды, ни звона её о дно, даже не представлять, как это звучит. Всё равно она боится перестать слышать.
Интересно, а Платон Никифорович – он боится стать глухим? а ослепнуть? а умереть? Он вообще чего-нибудь боится? Вот он сидит в своём кресле, откинувшись на спинку, смотрит в потолок – а по брезентовому фартуку у него застывают холодные пятна крови. Юля осторожно поглядывает на него, ставя чайник наощупь. В чайнике бултыхается ледяная вода.
Это осень... Определённо.
Из секционной вернулись Мелихов и Зорчин. Последний – коренастый мужичок с сединой в волосах и наколками по всему телу – активно жестикулировал обеими руками и громко возмущался: тот молодой следователь, которого вырвало на вскрытии, не понравился ему в первую очередь потому, что был ментом. Мелихов слушал его, то и дело осторожно постукивая кончиками пальцев по своему запястью, и время от времени тихо поддакивал. Его собеседник говорил громко, быстро, не оставлял никаких пауз, смачно приправляя речь отборными ругательствами.
– Фильтруй базар, Зыра, – раздражённо перебил его Шпагин.
Он тоже никогда не скупился в выражениях.
Санитар замолчал, сбившись с мысли. Мелихов воспользовался образовавшейся паузой и, наконец, опустил обе руки и, задрав голову, как конченый поэт, отчеканил на одном дыхании:
– Он не вернётся больше сюда, потому что его пугают цинизм и пустота...
В следующее мгновение, казалось, он должен склонить голову в поклоне и выжидать аплодисментов.
– Браво, – только и сказал Шпагин, и в его тоне проскользнула зыбкая ироничная волна.
В талант Мелихова не верил никто. Его экспромты ни копья не стоили, но способным на что-нибудь иное сам он себя не считал.
Юля вздохнула, глядя на Мелихова – ей стало жалко этого взъерошенного паренька в мятом полиэтиленовом фартуке: потому, наверное, что Зорчин ехидно назвал его поэтом. Очень вовремя вскипела вода – теперь можно отвлечь их всех, предложив чай. Зорчин, конечно же, откажется, полезет под стол, где у него заныкан пузырь, предложит Платону Никифоровичу, Мелихову. Это он так, ради приличия...
Jx)5