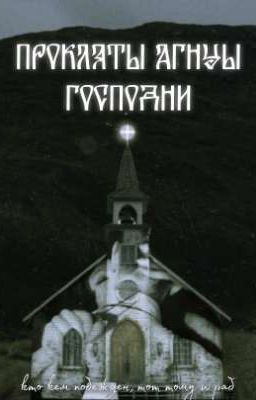Он первый находит брата своего и говорит ему: мы нашли Мессию
На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его.
И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.
Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. (Ин.1:35-37)
Через несколько месяцев.
Утренний свет мягко пробивался через витражи и играл на стенах церкви в такт ритму органа. Звук обволакивал всё помещение, гремя в ушах густотой и почти забивающей голову насыщенностью. Девушка еле могла различить слова священника - мысли дрожали на каждом повышении тона мелодии. Так скоро всю душу вытрясут.
Орган здесь чувствовался по-особенному: сливался с пространством, отскакивал от сводчатых потолков и смешивался с запахами ладана и холодного камня.
- Te igitur, clementissime Pater, per Iesum Christum Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus... - монотонный голос доносится как из-под толщи воды. Скоро наступит причастие. (*Молитва: Поэтому мы смиренно молим и умоляем Тебя, всемилостивый Отче, через Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего, чтобы Ты принял и благословил эти дары...)
Сглатывая вязкую слюну, воспитанница тянется к вороту жёсткого тёмного сарафана, абсолютно безликого и такого же однообразного, как и вся имеющаяся одежда. Становится душно. Хочется выйти, выбежать на улицу и вдохнуть свежий, возвращающий трезвость разума воздух. Но в её ситуации можно лишь попытаться сдвинуть воротник, чтобы чувство удавки наконец ушло.
В церквях всегда было не по себе.
Она плавно осмотрела зал. Всё привычное. Такое же, как и год назад, и два. Каждое утро одно и то же место, те же декорации. Ряды деревянных скамеек, сидящие на них девушки - одинаковые, словно куклы. Пустой взгляд с намёком на раскаяние и смиренность у каждой, сложенные руки и губы, вторящие молитвам святого отца. Грешницы.
Каждая здесь должна отмаливать и трудиться. Работа и Бог. Бог и работа. Стирать руки в кровь, дабы иметь хоть каплю искупления к концу своей бесполезной жизни. А вот то, что все они здесь сдохнут, - Мариамна была уверена. Видела уже и пожилых женщин, увядающих от болезни, и молодых, не вернувшихся после родов. Никто о них даже не вспомнил.
Такого же конца не хотелось. Не тут. Что-то внутри царапалось, сопротивлялось вдолбленным догмам. И этот бунт не так давно вытек. Взорвался огненным протестом.
Она помнила сбивчивое дыхание, холодный ветер, нещадно треплющий волосы. Февраль. Зябко, особенно с едва доходящими до локтя рукавами одеяния. Воспитанница должна была знать, как добраться до города. Плевать, что пешком, плевать, что по грязи. И, может, нашла бы выход, если бы не чёртов дождь.
Мокро, не видно никаких знакомых ориентиров. Отчаяние саднило в горле так, что хотелось разодрать кожу и вырвать трахею собственными руками.
Тогда всё пошло не так. Будто что-то не хотело этого спонтанного, спланированного на эмоциях побега. Что-то посылало весьма чёткие мысли.
Не все дела окончены в приюте.
А вот какие дела... Непонятно.
Помнила и чужие прикосновения, как тащили силком обратно в здание. Отвратительно. Если бы во взгляде можно было прочесть грех, то висевший у матери-настоятельницы крест расплавился бы от количества гнева в тёмных омутах.
Бессилие, злоба, ярость.
Вынырнула из неприятных воспоминаний она из-за аккуратного прикосновения к руке. Анна, сидевшая рядом, осторожно кивнула головой, мол, поднимайся. У них были... неплохие отношения. И та знала о нелюбви Мариам к тактильным взаимодействиям, отчего и трогала осторожно, только при большой надобности.
Дабы не задерживать остальных, воспитанница осторожно встала, выходя из рядов. Пара шагов, отстранённый взгляд из-под тонких тёмных бровей. Рассматривала, как девушки одна за одной становятся на колени, опускаясь на причастную балюстраду. Скоро подошла и её очередь.
Тонкий слой ткани сарафана не смягчал жёсткие доски. Она старалась не смотреть вверх. На лицо, на руки священника. Иначе скрутит тошнотой.
- Corpus Christi.
- Amen. - голос глухой и тихий.
Хлеб на языке почти безвкусный. Пытаясь отгородиться от всего происходящего, механическими и выученными движениями уходит обратно на скамью и прикрывает глаза. В темноте хорошо. На миг можно забыть о светлых, мозолящих глаза стенах церкви. Представить, что это происходит не с ней. С кем-то другим. А её тело плескается в черноте, поддаваясь настроениям музыкального инструмента.
Орган продолжает играть уже намного тише, но его вой волнами отдаётся в каждой клеточке тела. До дрожи. Как напоминание о несбывшемся.
В голове рисуются образы старого потёртого пианино и такого же вида нотного сборника. Дома она могла позволить себе редкие перебирания клавиш, подбирание мелодии на слух и эксперименты. Всего этого лишилась пару лет назад. Почти три года прошло.
И теперь звук лишь закладывает уши, пробираясь к костям черепа, напоминая не о свободе мысли и творчества, а о гнетущей власти, сквозившей в каждой вибрации.
***
Завтрак был скромный, даже, можно сказать, доходящий до жадности. Стуча ложкой о бортики тарелки с жидкой кашей, Мариам проходилась взором по остальным. Особенно её интересовала Анна: та с напряжённым видом доедала порцию, запивая всё водой. Её тугая коса лежала на спине, а зрачки бегали по узорам на длинном деревянном столе. Что-то было не так. Давно заметила... С того самого дня, как приезжали эти из Общества, из мирских групп. Кажется, это было около недели назад, в воскресенье. Спросить? Или не стоит, ведь та сама не выдержит молчания и расколется чуть позже?
Подруга? Нет, знакомая, не обращала на неё внимания, хотя обычно они переглядывались и Анна дарила ей ободряющую мелкую улыбку. Сама она никогда не пыталась тянуть губы в ответ. Только кивала, скрывая, что такие мелкие жесты помогали не утопиться в пучине однообразия и безнадёжности. Здесь нельзя было дружить. Да и разговаривать тоже. Можно было попробовать, но это если ты хотел получить несколько горящих ударов жестким ремнем.
Связь - всегда слабость, всегда брешь, в которую можно бить. А монахини это хорошо умели делать. Можно даже сказать, обладали призванием.
Ушей касался чужой голос - одна из девушек читала Библию, по прихоти сестёр, чтобы задавать настрой на весь день. Труд. Искупление. Грехи. И может быть эти строки заставят кого-нибудь работать усерднее, но самой Мариамне казалось, что такой монотонный тон может лишь усыпить не выспавшийся мозг.
Потом работа. Стирка, уборка. Жаркий ангар заставлял короткие волосы прилипать ко лбу, а руки гореть от перенапряжения. В нос били химикаты, глаза щипало по этой же причине.
Бесплатный труд. Надо же как-то искупать свою вину?
Вину за что?
За грех, за все порочные мысли, какие есть у блудниц. Так всегда говорили им. Вдалбливали в голову, заставляя верить. Нет, чувствовать себя оплотом грязи и ничтожности.
О, Милосердный Господи Иисусе, прости нам наши грехи, спаси нас от адского огня, забери все души на небеса и помоги особенно тем, кто больше всего нуждается в Твоём милосердии.
Стирая белые воротники священнослужителей, она не думала ни о чем, ни об искуплении, ни о работе. Монотонное действие, тонкий слух. Вдруг монахини скажут что-то полезное, новое? Нужна была зацепка. Хотя бы мелкая, чтобы понять, как удачнее сбежать. Но те лишь перекинулись парой фраз, совсем не связанных с тем, что хотелось услышать.
- Знаешь ли ты, сестра, что творилось во дворе?
- Я ещё не говорила ни с кем сегодня. - ровно ответила сидящая, лишь слегка повернув голову на голос.
- Ты всегда так, - покачала головой. Чёрная ткань головного убора качнулась. Затем женщина, понизив голос, продолжила. - Анна... она выступила против святого отца! Прямо перед ним, представляешь? Гадкие, гадкие слова говорила.
- Неужто всё так плохо? - светлые глаза всё же поднялись, цепкие и внимательные. - Матушка Агнес говорит, что в таких случаях нельзя позволять оставаться среди остальных. Может и грех навести на девушек.
- Вот и я так думаю, - монахиня горячо закивала. - Может увезут в лечебницу, чтобы больше не повторялось. А ведь раньше такая тихая была, прилежная. Кто бы мог подумать?
- Грех в тишине растёт, да мыслях. Вот и прорвался.
Мариам почувствовала толчок в бок. Это край большой корзины для белья задел её замерзший силуэт. Надо было продолжать работу. Надо. Но глаза метнулись к заканчивающим разговор сестрам. Увезут?
Она сглотнула, делая несколько шагов и просачиваясь сквозь других работающих. Взяла какую-то стопку вещей и подошла к остальным. Анна оступилась. Нужно ли предупредить? Помочь? Движения становились рваными и напряжёнными. В мыслях царило буйство предполагаемых действий. И настолько оно завлекло, что стирка выполнялась автоматически.
Пальцы краснели от горячей воды, в помещении было тихо - все молчали, слышалось лишь настойчивое журчание и скрип пакетов с порошком и солью.
После вечерней молитвы хотелось упасть на жёсткую кровать и больше никогда не просыпаться. Не знать, что когда откроешь глаза, увидишь деревянные балки и ещё кучу похожих спальных мест, с которых будут подниматься другие девушки. Не знать, что снова придётся идти жечь ладони или, стирая колени о мраморный пол, вымывать стены или... Или что угодно.
День за днём. И это не прекращалось.
Нужно было встать через несколько часов, после конца обхода монашек, и поговорить с Анной. За несколько лет выработалась привычка - просыпаться в ночной тиши хотя бы раз. И не важно, ломило ли мышцы после рабочего дня, не важно, насколько соображала голова.
И вот очередной подъём. Темно. В черепушке только шум и усталость, сковывающая тело. Но она заставила себя подняться. Голые ступни коснулись прохладного пола, заставив мурашки пробежаться по спине. Светлая, тонкая ночнушка от холода не спасала.
Взгляд метнулся к знакомой кровати, но та оказалась незаправленной и пустой. А где...?
Нахмурив тёмные брови, девушка подошла чуть ближе и убедилась в увиденном. Ну, идти тут особо некуда. Большое пространство было заставлено кроватями, несколько балок подпирали крышу, маленькое окно почти не виднелось из-за сделанной решетки, но слабый лунный свет всё же пробивался, мелькая на дощечках пятнами. Выйти можно было только в соседнюю комнату, там было несколько раковин и туалет.
А главная дверь заперта. Сёстры открывали её только утром, цокая щеколдой.
Найти Анну, сидевшую на полу под тусклыми лучами лампы, было как минимум неожиданно. Свет падал на её лицо так, что щёки казались впалыми, а тёмные круги под глазами - ещё глубже. Хотя, очевидно, той и не могло быть хорошо после сегодняшней ситуации. Подумав об этом, Мариамна присела рядом. В комнате повисла странная тишина. Никогда не было понятно, что делать в случае чужих слёз. Внутренности спирало неловкостью, а в голове только и делали, что летали вопросы. Надо что-то сказать? Предложить? Помочь? Перебирая ткани ночнушки, всё же глухо произнесла:
- Тебе плохо? - Взор, почти чёрный и хваткий, прошёлся по скрюченной фигурке.
- Я... - Она подняла голову, то ли всхлипнув, то ли вздохнув. - Я всегда была верна Богу, всегда старалась быть полезной, такой, как нужно. И думала, мне воздастся за труд и молитвы. Хоть каплю! Хоть что-то, кроме...
Речь лилась сбивчиво, как несуразный поток мыслей. А воспитанница слегка покачивалась из стороны в сторону, будто в такт неслышимому ритму и в надежде на успокоение.
Живот что-то неприятно скручивало. Мариам понимала без слов. Уже знала. Видела ту в последние дни - зрачки, бегающие по столу, напряжённые движения, взгляд, отводимый от любого мужчины. Да и слухи ходили. Осознание заставляло сцепить зубы и замереть от разрушающих эмоций. Злость, боль, чувствующаяся как наяву. Отвращение. Но не к ней. К себе. Слишком знакомо.
- Тебя тронули, да? - Вопрос вышел больше глухим и пустым, чем волнительным.
Анна вздрогнула, но не отрицала. Лишь сильнее прижала колени к груди.
- Это не твоя вина, - прозвучало твёрдо, но будто бы не дошло до адресата.
- Нет, моя, - резко выдохнула девушка, вцепляясь в ткань своей ночной рубашки так, словно от этого зависела жизнь. - Я должна была сказать, не позволить, должна была уйти, должна была... должна была...
Повисло молчание. Внутри горело гневом и жалостью. Но как это выражать, воспитанница не знала. В приюте никогда не разрешалось показывать себя. Ведь врага нужно возлюбить, да обратить к нему другую щеку. Смиренно и прощающе. Но разве растворится кипящий в крови бунт?
Подавляя тошноту, она дождалась следующих обрывистых фраз.
- Он говорил так красиво. Что я особенная, что я - свет. Что святые тоже страдали, и это - мой путь. Что боль - это очищение. - Она хрипло хмыкнула, но звук вышел рваным и пустым. - И ведь я ему верила. Даже когда было больно. Даже когда стало мерзко. Я думала... Я думала, может, Бог испытывает меня? Но...
Её плечи задрожали.
Мариам не знала, что сказать. Только нервно постукивала по своей шее, а потом и вовсе впилась пальцами в кожу. Только бы не вырвалась какая-то реакция из всей той смеси, что бурлила внутри. Она желала смерти всем тем, кто поступал так. Чтоб они гнили в земле, испытывали страдания в аду. Но разве сбудется? Разве может Бог исполнить желание, полное злых помыслов? Разве может Бог простить этим иродам грех, наполненный такими помыслами?
Что бы тогда хотела услышать она? Что? ЧТО? Простого прикосновения бы хватило, лёгкого объятия. Ведь Анна всегда хотела быть нужной, быть принятой. Это читалось в каждом мягком взгляде глаз, тлеющих надеждой, в каждой улыбке от похвалы.
Но нет. Нет. Она не может дать таких утешений.
- Должно же быть иначе. Должно. Мне говорили... - продолжила, теперь чуть громче, горько. - Что если кто-то молвит о Боге, значит, за ним нужно следовать? Я ведь... Я ведь следовала.
- Может, в этом и вся их сила, - наконец выговорила Мариам. - В словах. Они говорят, и ты им веришь. Они говорят, и ты уже не можешь сказать «нет». Они говорят, и ты остаёшься, даже когда тебе нужно уходить.
Вновь повисла тишина, наполненная странными сомнениями. Сомнениями, которые выбивались из них каждый день. Но никуда в конечном итоге не исчезали.
- Я пыталась бежать, ты знаешь, - воспитанница вздохнула, проводя рукой по коротким волосам. За несколько месяцев уже успели отрасти, но теперь были странного рода тёмной прической, на грани со взбалмошностью. - И они постригли. Чтобы сбить гордость и заставить верить каждой их фразе.
- У них получилось? - Собеседница чуть повернулась к ней, тугая коса коснулась деревянной вагонки. В глазах мелькнуло что-то - не то зависть, не то восхищение.
- Нет.
Девушка провела языком по пересохшим губам. Теперь или никогда. Не для этого она разве искала знакомую?
- Ты знаешь, что с тобой будет?
Анна медленно повернула голову.
- Что?
- Они хотят тебя убрать.
Лёгкое моргание, недоумение. Широкие брови едва заметно ползут вверх.
- Куда?
- В клинику для...
- Нет. - Мотает головой так, что пару невесомых прядей выбиваются из прически.
- Да.
- Ты просто... - Собеседница сглотнула, быстро заговорив. - Ты злишься. Думаешь, что они такие, но они не такие. Они не могут. Они знают, что я...
- Ты им мешаешь.
- Нет! - В голосе мелькнуло нечто похожее на панику. - Я не сумасшедшая!
Мариамна чувствовала, как едкое раздражение медленно уступает место усталости. Так сложно поверить? Сложно понять?
- Они просто ждут, когда можно будет избавиться от тебя.
Анна покачала головой, быстро и нервно.
- Нет, они дадут искупить грехи, простят, как Отец наш прощает всех.
Девушка скривилась, и они снова замолчали. Лампочка мигала, в редкой темноте слышалось любое движение.
- Я не могу уйти, понимаешь? Сбежать, как ты.
- Можешь.
- Не могу.
Она дышала тихо, ровно, но слишком быстро.
Переубеждать больше не хотелось. Это было бесполезно. Также, как и в разговорах с матерью и с сестрой. Воспитанница просто откинулась на спину, уставившись в дряхлый потолок.
И тогда Анна тихо, почти беззвучно, начала напевать.
Мотив был знакомый и вызубренный. Он звучал в церкви, в те редкие мгновения, когда молитвы несли умиротворение, а не страх.
- Agnus Dei qui tollis peccata mundi...
(*Агнец божий, ты, грех мира на себя принявший)
Музыка, пение - то, что всегда их объединяло, пусть и сейчас слова оставались на языке горечью. Но в этом был порыв, в этом было выражение своего творческого «Я». Тихие мотивы радовали душу.
- Miserere nobis. - Глухими постукиваниями Мариам отбивала ритм о поверхность дерева. (*помилуй нас)
Воздух пропитался тоской, тяжестью и предвкушением чего-то неизбежного. Того, что даже молитвой не вытравишь.
***
Утро началось не с поспешных хлопков и веления быстрее подниматься. Сонную тревожную дымку развеяли сначала разговоры, а потом и крики. Голова трещала от резких звуков, перед глазами плыло от недостатка отдыха и чьих-то резких движений.
- Я не сумасшедшая! Я не пойду!
Мариамна разлепила веки, поднимаясь на локтях. От резкого движения и обстановки по венам прокатился жар. Что происходит?
Лучи рассветного солнца подсвечивали центр комнаты.
Анна.
Двое мужчин в белесой униформе держали её за руки. Крепко, утягивая за дверь. Настоятельница, скорчив морщинистое лицо, всё приговаривала:
- Не кричи, Анна. Тебе там помогут, всё будет хорошо. Так лучше для всех.
Матушка Агнес словно тёмной тенью огораживала воспитанницу от пристальных взглядов других. Её фразы должны были звучать убедительно, взволнованно, но всё, что могли - отдавать равнодушием. В этой наигранности и сияла жестокость. В этом «лучше для всех» не было Анны.
- Пожалуйста! Я больше не буду! Я буду слушаться! - В её голосе лишь сдавленные рыдания, он срывался, становился высоким, как у маленькой девочки, в истерике выпрашивающей прощение.
Но прощения не будет.
Девушка не могла свести взгляда. Знакомое столько лет лицо было бледным, белее, чем самая выстиранная простыня. Каштановые волосы выбились из косы, в глазах стоял такой страх, что не подделать.
И именно этот искрящий ужас вцепился Мариам в горло ледяными пальцами.
Если бы ты была чуть слабее, оказалась бы там же.
Она ощущала, как хаотичные мысли заползали под кожу, вытесняли остатки сна. Как пальцы начинали подрагивать. Так легко, так просто. Одно слово, срыв - и ты уже не человек, а препятствие, ошибка, которую нужно извести. Как очередное пятно на одежде. Если слишком громко кричать, если открыто ненавидеть - от тебя избавятся. И это будет концом.
Голова закружилась, но воспитанница не могла позволить ни вздоха, ни лишнего движения. Видеть всё это было невыносимо.
Когда их взгляды с Анной встретились, маска дала трещину. В радужке вспыхнул страх. За себя, за неё. Тонкие запястья той всё ещё дрожали в хватке мужчин, но работники уже не старались усмирять её - просто несли прочь, как раздражающую вещь.
- Нет! Нет! Мариам!
Все испуганные взгляды остальных тут же осели на её скованной фигуре. Горло сдавило. Нельзя ничего делать, нельзя возражать, реагировать. Взор второй сестры тоже прошелся по ней. Наверняка искала реакцию. Проверяла. Чтобы потом сделать ещё хуже.
Она отвернулась, и это стоило огромных усилий, ведь конечности вдруг перестали слушаться. Больше не смотрела в лицо подруги, только раз за разом обводила зрачками узор одеяла. В ушах звенели крики. Наставления монахинь. Отдала бы всё, чтобы не слышать стуки, попытки воспитанницы ухватиться за косяк или балку.
- Может, стоило подождать? - Шёпот сестры Елены сливается с гулом.
- Господь не любит промедлений. - Качает головой матушка, проходя вперёд.
- Завтра Владислав обещал прибыть, может, успокоил бы и её? - Всё не отстает молодая, шагая вслед. - Вы же помните как с сестрой Терезой обошлось?
Через несколько секунд чёрные облачения испарились из комнаты, оставляя после себя только стук закрытой двери. Фразы перестали быть слышны.
В спальне повисла тишина. Тяжёлая и скованная. Глотку сразу залепило духотой. Лишь частое дыхание девочек, сжатых под одеялами, выдавало, что в помещении есть кто-то живой.
Девушка понимала: никто не скажет ни слова. Как и она сама.
Сердце глухо билось где-то в голове. Только через пару минут смогла лечь обратно. Не закрывая глаз.
Раньше казалось, что чем сильнее показывается протест, тем больше доказательств её силы. Факта, что они не смогли раскрошить личность. Но теперь? Нет. Теперь она видела всё по-другому.
Побег не может быть спонтанным. Он должен быть правильным. Разработанным. Выстроенным так, чтобы никто ничего не заподозрил, пока не станет слишком поздно. Иначе её ждет незавидная судьба.
Анна сделала неверный шаг. И теперь...
Воспоминания о пропитанных ужасом глазах вертелись раз за разом. Анна хотела сблизиться, хотела доказать свою небесполезность. Только бы от неё не отказались, как сделала мать, как сделали близкие.
Но Мариамна даже не вступилась. Отвернулась. Подобно остальным.
Это понимание заставило погрязнуть в оправданиях. Анна была слаба и доверчива. Какой конец её мог ждать? Только такой. И не важно, кто был бы рядом с ней.
Нельзя нуждаться в других. Это лишь разрушит жизнь.
Не слушая чужие перешёптывания, воспитанница крепче сжала кулаки. Прижалась к подушке.
***
Некий Владислав действительно прибыл на следующий день. Наказаний за разговоры во время работы стало больше. Все то и дело шептались. Кто это? Зачем приехал? Не священник, а людям помогает. Не чудо ли?
После недавнего происшествия воспитанница замолчала. Была в стороне от тайных переговоров, надежд. Только рассматривала этого... «чудотворца». Вид важный, лицо наигранно доброжелательное. Небось из Общества, да поступает также. Говорит о святости, а потом... Кожу пробрала дрожь.
Руки, вцепившись в старую тряпку, оттирали оконную раму в коридоре. В длинном помещении трудились многие. Кто полы моет, кто стены, кто лестницы. Каждый сантиметр и уголок, пока кожа не начнёт саднить, а пальцы стираться. Глухие шаги раздались где-то около дверей. Девушка позволила себе обернуться ненадолго.
Мужчина... Да какой мужчина, слишком молод этот проповедник. Высок да строен, на всех смотрел с оттенком вежливого интереса из-под густых бровей. И как с таким взором за святого можно принять? Тёмный, пробирающий до кости. Рядом с ним семенила матушка Агата. До ушей долетал спокойный разговор.
- Перед обедом? Да, я думаю, мы могли бы выделить время. - задумчиво нахмурилась женщина.
- Благодарю. - Лишь учтиво кивнул.
- Вы сможете начать завтра? Одна из девушек в последнее время совсем беспокойна. Господь должен принять её молитвы и раскаяние.
- Конечно, сестра Агата.
Они ступают по вымытому полу, подходя к лестницам. От неверия хотелось скривиться, но эмоции, как и всегда, пришлось сдержать за сцепленными зубами. Зачем им проводник между молитвой и Богом?
Дни шли. Веяло чем-то странным. Всё больше девушек «раскаивались» на встречах с Владиславом, всё больше начинали работать, а не роптать о тяжелой судьбе. Приют словно погрузился в склизкую массу, заставляющую делать всё, как приказали. Не было теперь попыток побегов, криков и эмоциональных накалов. Многие, как в сон провалились.
А монахини сверкали от радости. Как молитва даёт смиренность! Как настоящая вера укрепляет уверенность в пути! Путь искоренения греха, труда и службы.
Это пугало. До сжатых пальцев в кулаках и молчания. Лишь бы не взорваться и не попасть на такой «сеанс». Она не верила, что правильные слова заставляют прозреть, принять за истину слова сестёр. Тех, кто ремнём оставляет красные полосы на спине, а руками наносит синяки. Тех, кто говорит, что это их дорога и надо её пройти, усвоить урок.
- Я действительно не горюю по матушке.
В тишине спальни раздавалось два голоса. Несмотря на усталость и боль в ногах, Мариам уснуть не могла. Прикрыла глаза и металась в своих мыслях. О том, как избавиться от защёлки на двери, о том, как можно забрать ключи под покровом ночи. Сменить одежду? Наверняка нужно, а то найдут и обратно приволокут. Что-то ещё, ещё будто бы надо...
Месть.
Мысль, как чужая, пронеслась в сознании. Девушка тряхнула головой. Не нужно грех на душу брать. Как бы сильно не хотелось, лучше уйти свободной, чем испачканной ещё больше.
- Правда? Тебе тоже помогло? Лёгкость в груди такая? - шептала низкая, рыжая девчушка, укутавшись в одеяло. Ей и тринадцати лет ещё не было.
- Да, я теперь понимаю, куда путь Господень ведёт. Не нужно за старое цепляться, как матушка Агнес говорила. Всё это нас тяготит и мешает грех искупить.
Воспитанницу от таких разговоров передернуло.
Ей успешно удавалось избегать такого влияния ещё несколько дней, но когда перед ней появились дверцы конфессионала, она поняла, что это крах. Исповедаться перед монахинями было легко, привычно. Но здесь нет. Только не тут. Всё внутри скрутило, а тело замерло. В ушах гремел едва различимый хор. Хотелось умолять, падая на колени, и царапаться о резные рамы, лишь бы не заводили вновь.
- Ну, хватит противиться, Мариамна. Глупости не вытворяй. - Одна из монахинь подтолкнула её в спину, строго проворчав. Это было не предложение, это был приказ.
- Нет, я не пойду. - Проговорила девушка сквозь зубы. Сжала ладони. Между священником и наказанием она выбрала второе. Как банально.
Пальцы монахини вонзились в плечо, сжав его с силой, от которой зубы свело.
- Вновь непокорность? - Тонкие губы той дрогнули, но взгляд остался пустым, полным выученной холодности.
И снова тот же путь. Коридоры, затхлый кабинет настоятельницы. Жгучая боль в плечах, в руках. Со свистом рассекая воздух, кожаный ремень оставлял следы. Лучше, когда знаешь чего ждать - после звука идёт удар, саднящая пульсация, смешивающаяся с предыдущими. Словно огонь полыхает на коже. Но это привычнее, чем неизвестность, привычнее, чем удушающий страх в мелкой кабинке.
Губы дрожали, дыхание сбилось.
Пальцы тряслись, когда её привели в странную комнату. Она не сразу поняла, где находится. Не связала между собой события. Прийти в себя помог звук закрывающейся двери.
Помещение было небольшое, пропитанное ароматом воска, ладаном... Что-то в его нотах было странным. Землистый запах всё равно проникал в нос. Но откуда ему тут взяться?
На деревянном столе - икона.
Сначала воспитанница даже не заметила его. Хоть и знала, головой понимала, к кому привели. Он стоял у стены рядом с окном и поглядывал в даль. Облачённый в свою строгую одежду не выглядел раздражённым или уставшим. Только странно собранным, как пианист перед исследованием новой мелодии. От силуэта веяло любопытством.
Стоп. Окна. Девушка нахмурилась и попыталась скрепить руки меж собой, чтоб не выдавать дрожи. На раме не было решёток. Не единой. Только створки и голубое, ясное небо за ними. Картина настолько удивила, что она замерла, так и не произнеся ни слова. Полезный факт.
- Исповедь - важный процесс очищения души. Искупления и осознания грехов. - Ровный тон разорвал тишину, как игла, вошедшая в ткань.
Слышался акцент, такой отдалённо знакомый, будто подобное уже встречалось. Вместо певучего английского проскальзывали низкие ноты, твёрдые буквы. Она медленно перевела взор на говорящего. Глаза в глаза. По спине прошла дрожь. Наблюдать со стороны было проще. Подмечать тот факт, что парень не глядит на других слишком долго, часто при монахинях опускает взгляд, было проще. Понять, почему он это делает, было жутко.
Воспитанницы шептались, что Владислав умеет видеть то, что скрыто внутри.
"Что он с вами делает?" - Даже спросила однажды.
"Молится за нас, - ответили ей. - И за тебя сможет."