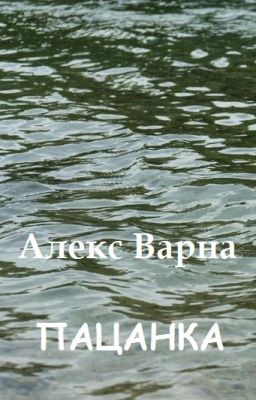Глава 18
рассказанная Евгенией Бондарь
Вставать без помощи Сани или, на худой конец, санитарки я начала где-то так недельки через две, хотя медики, найдя какую-то там трещину, грозились закатать меня в гипс, если не прекращу свое упрямое ползанье по палате. Впрочем, сутками валяться в койке уже так осточертело, что я шипела, тихонечко материлась, но все же тайком поднималась с постели с твердым намереньем двигаться в нужном направлении, пусть и волоча за собой правую ногу.
Тимофей Тимофеевич, каждый раз принимая спозаранку свое дежурство, первым делом наведывался в мою палату. Убедившись, что я не успела посеять вокруг себя хаос и смятение во время его отсутствия, врач с легким сердцем приступал к дальнейшему обходу и нашу с ним воспитательную беседу больше не возобновлял. Через некоторое время количество моих капельниц и уколов пошло на убыль, обследования почти прекратились, но личная карточка благодаря его писательским стараниям обросла такими записями, а заодно, и диагнозами, что оставалось только диву даваться, как столько болячек может уместиться в одном, с виду не слишком-то хилом, организме. Нужно отметить, подобное вольное творчество ТТТ (так за глаза называла мою добровольную «крышу» вся медбратия) не прошло напрасно − опера, питавшие относительно бывшей беспризорницы некоторые надежды и неясные подозрения, вскоре уверовали в мою абсолютную бесполезность и занялись более животрепещущими делами. Я, докумекав причину затишья, была врачу безмерно признательна, но все свои размышления на эту тему старалась держать при себе, твердо помня две вещи: чужая душа – потемки, а болтун – находка для шпиона.
Короче, пока мое официальное выздоровление шло окружными тропами, малолетние соседи, кто со сломанной рукой, кто – ногой, сменялись, словно страницы отрывного календаря, уступая свои койко-места новым болящим. День-другой – и заботливые родители вновь забирали своих частично загипсованных чад на хаус, не забывая при этом одаривать меня на прощанье сочувственными взглядами и продуктами, не влезающими в их собранные поклажи. Вскоре в моей прикроватной тумбочке вымахала целая горка из яблок, апельсин и конфет, только воодушевления от этого все равно не ощущалось.
− Тебе, Женька, не угодишь. Подумаешь, мамаши в порыве чувств захотели кого-то еще обогреть, кроме своих птенцов. Расслабься и наслаждайся.
− Презрение и жалость имеют один привкус, Сань. И он мне порядком осточертел.
− Экая ты гурманка! Сочувствие, к твоему сведенью, несет людям благо.
− Это благо для тех, кто без него обойтись не может. А я могу. Вполне.
Саша, сидевший со мной на лавочке возле лечебного корпуса только усмехнулся в ответ:
− Ты без посторонней помощи даже по ступенькам подняться не в состоянии.
− В состоянии! Просто делаю это очень медленно.
− И с перекошенной физиономией.
− Зато сама!
− Знаешь, упрямее тебя я в жизни никого не видел. Это ж как мне повезло надыбать такой редкостный экземпляр упертикуса осляруса?
− О-о-о! Острим. Браво!
− Рад стараться!
Сказать по правде, не выглядел Саня ни радостным, ни счастливым. Синяки под глазами, опущенные плечи, усталость не только в каждом движении, взгляде, но даже в той же улыбке. Другим он был во времена нашей первой встречи. Совсем другим...
− Ты это, Сань, может не ходи ко мне каждый день – отдохни лучше, выспись там... А то видок у тебя не очень – постороннему так и не понять, кто из нас двоих лечится.
− Ниче... Кто нужно, по казенному халату отличит, кого в палату спровадить, а кого в шею гнать. Можно?
Это он о сигарете. Каждый раз, прежде чем рядом закурить, спрашивает у меня разрешения. Не поймет никак, что табачный дым такую, как я, уже давно не колышет. В подвале, помнится, его иногда можно было ножом резать и на хлеб мазать, и то ничего – зеньки не вылезли, дыхалка не отказывала.
− На здоровье!
А Саня, прикурив, опять хмурится и взглядом куда-то вдаль упирается:
− Сама, небось, тоже?..
−Лично? Не.
− Врешь.
Я беру из его пальцев сигарету, делаю неглубокую, только для вида, затяжку и отвечаю:
− Теперь вру.
Он начинает злиться, хмурится, а я молчу... К чему рассказывать о том, как не так давно под всеобщее улюлюканье и гогот упрямо отворачивалась от всевозможных «радостей» подзаборной жизни. Сигареты, конопля, клей... Чхала я на все это дерьмо, равнодушно отметая мнение обкуренной охрипшей беспризорной детворы, считавшей токсикологический кайф вершиной собственного блаженства.
− Прости, − парень тянется к моей руке, забирает полуистлевшую причину нашего спора и отправляет ее в мусорный бачек, − не хотел тебя обидеть.
− Пустое.
− Нет, Жень. Не пустое... Давай, пошли-ка в палату – солнце вот-вот зайдет и холодом сразу повеет, а ты одета плохо...
Мой прикид состоял из его черной спортивной куртки и выцветшего больничного халата буро-серого цвета, наброшенного поверх новой байковой пижамы. Ее тоже притянул Саша вместе со сменным бельем и парой шерстяных носков (не забыл ведь!) еще в первые дни моего вынужденного больничного. Пижама была сиреневая в мелкий синий цветочек, а носки поражали воображение ярко-розовой расцветкой и изображением наглого Багз Банни. Понятно, что все вместе это создавало убойную композицию, но я находилась не в том положении, чтобы волноваться из-за таких мелочей.
− Хорошо. Пойдем.
Доставив меня назад в палату, Саня, как обычно, неспешно направился домой. А я еще долго стояла у окна, рассматривая вечерний город, зажженные огни которого проглядывались между голыми ветвями деревьев, окружающих поликлинику. Стояла, позабыв о неустанной боли, той, что внутри и снаружи, о своем паскудном прошлом и мрачных перспективах на будущее. Стояла, потому что просто хотелось стоять, разглядывая за стеклом тот настоящий мир, до которого мне было никак не дотянуться.