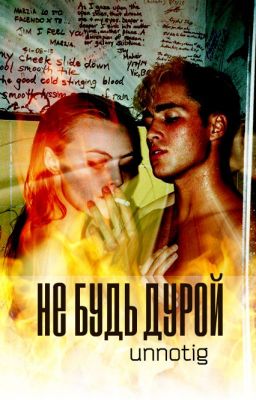Соломинка
Я думаю над его словами в своей маленькой комнатёнке. Ищу скрытый смысл, хотя и так всё на ладони. Думаю над ними, закрываясь подушкой-бегемотом, лишь бы заглушить мамины полуночные рыдания. Сон ко мне не идёт уже три дня — все эти три дня, которые я пытаюсь разгадать загадку сфинкса. Несмотря на мамину ругань и усталость, я никак не могу уснуть. И чёрт бы всё это побрал, но я в какой-то яме, где только отчаяние. И мне нужно вылезти. Обязательно нужно.
Не успеваю отреагировать, когда мама, увидев свет ночника в моей комнате, входит в неё. Я уже готовлюсь к ругани, почти не боясь, но мама лишь присаживается на розовое, детское покрывало, устало прикрывает глаза, приглаживая растрёпанные волосы, и хрипло спрашивает:
— Почему ты не спишь?
Я вздыхаю, рассматривая её. Мама выглядит в моей коморке привычно. Раньше она часто бывала здесь, чтобы пожелать мне спокойной ночи. До тех пор, пока не появились эти «взрослые» проблемы и вечно пропадающий папа. Теперь мама сама не может уснуть. Но этого я ей, конечно же, не говорю. Лишь с сочувствием вглядываюсь в заплаканное лицо.
— Просто... не спится, — отвечаю я. Почему-то прячу глаза. Маму хочется обнять и пожалеть, до того беззащитно она выглядит в своей цветастой сорочке, комкающая моё одеяло в руках. Я к такому не привыкла. Мама всегда сильная. Строгая. Обычно она кричит, а не плачет или, более того, молчит. — Где папа?
Я только сейчас решаюсь спросить это. Спросить не так, как до этого. А по-настоящему. С намёком на честный ответ, которого я и хотела, и боялась до чёртиков. За всей этой круговертью я не чувствовала нехватку отца, но... всё же было неуютно. Как будто мы с мамой были одиноки вместе с нашей квартирке.
Сейчас была такая атмосфера, что тянуло на откровенности. Может, дело было в приглушённом свете, в ночи, или в чём-то другом, но... Факт оставался фактом. Мы обе не хотели ругаться.
— Я... — мамино лицо вдруг искривляется, и из глаз капают крупные слёзы. Она закрывает лицо жилистыми, уже не молодыми руками и дрожит. — Я не знаю.
Я растеряна. До этого я только слышала, но не видела, как она плачет. Секунду поколебавшись, я всё же обнимаю её. Прижимаю к себе, бормоча в её волосы что-то невразумительно-успокаивающее. Сейчас я ощущаю себя старше её. Той, кто должен позаботиться о ней. Даже родители иногда нуждаются в защите своих детей.
— Он ничего не говорит, — выдавливает мама между рыданиями мне в локоть. Я чувствую, как моя кожа становится влажной от её слёз. — Он даже не оправдывается, что это работа. Просто приходит и ложится на кровать лицом к стене, отворачивается от меня. Даже не ест ужин! Скажи мне, что я сделала не так? Это из-за того, что я слишком пытаюсь контролировать его жизнь? Я слишком давлю на него? Ответь мне, Таюш!
Мне больно слышать это. Она делится этим мне, потому что у неё нет подруг, кому бы она могла рассказать. Вся её жизнь — стирка, готовка, воспитание меня. Попытки снова собрать семью. Вот только папе это, похоже, не нужно.
Мой взгляд застыл на книжной полке. Слёзы собираются в уголках глаз, потому что я вместе с мамой чувствую себя ненужной и одинокой. Но я тут же смаргиваю их. Сейчас хотя бы я не должна расклеиваться.
— Мам, я не думаю, что ты слишком давишь на него, — робко, неуверенно говорю я. На самом деле я так не думаю. Но никогда не скажу ей об этом. — Просто... это твой способ справляться с проблемами. Пытаться контролировать всё и вся. Это не плохо. Это просто ты.
На самом деле, хочу сказать я, это когда-нибудь тебя погубит. Разве ты не видишь, отец уже не выдержал? Сколько же осталось мне?
Мама перестаёт плакать. Кажется, мои слова приободряют её. Она высвобождается из моих объятий и благодарно улыбается, вытирая слёзы и шмыгая носом. Я улыбаюсь в ответ. Она обводит взглядом всю мою комнатку.
— Ты помнишь, как мы выбирали вместе эти обои? — спрашивает она, очевидно, погрузившись в воспоминания. Мне становится тепло в груди. Это был один из тех немногих дней, когда у мамы было хорошее настроение, и она была готова есть со мной картошку фри в Макдональдсе.
Эти обои не очень хорошие, нелепые — ярко-красные, с маленькими печеньками, как и всё в моей комнате. Здесь всё такое же неуклюжее, детское, словно у пятилетнего ребёнка, не сочетающееся. Но мне это нравится.
— А этого медвежонка тебе подарил папа. Он всё же очень милый.
Медведь, занимающий своей огромной тушей почётное место на полке, на самом деле был очень страшным. Даже немного пугающим. Но я его не выбрасывала. У меня была такая скверная привычка, которая очень раздражала маму, хранить всякий хлам в комнате. Выбросить не хватало духу.
Мама вспоминала и вспоминала истории появления всех этих глупых вещей, словно бы это ей приносило какое-то утешение. Знать, что у тебя осталась какая-то частичка твоей семьи. А я просто неимоверно любила эти штучки по той же причине. Моя персональная доска почёта, которую мы с мамой делали весь вечер в восьмом классе, когда наград накопилось достаточно много. Коллекция полотенец из Турции. Детские рисунки. Всё это вызывало во мне какой-то трепет. Это мой мир. Моя обитель, защищающая меня от внешнего, большого и злого, мира.
Вскоре мы уже вместе плакали. Ревели в объятиях друг друга, а потом так и заснули.
* * *
Наутро, когда меня разбудил пронзительный вой будильника, мамы уже не было. Это почему-то меня разочаровало. Наверняка снова в своих бесконечных делах. Голова у меня от вчерашней бессонницы и слёз просто раскалывалась. Но даже если бы я хотела пропустить школу, мне бы никто не позволил. А я не хотела, прекрасно осознавая свой долг.
Не успела я зайти на кухню, после того, как оделась и умылась, как мама, жаря оладушки, начала с порога:
— Ты ещё не позавтракала? Нет уж, дорогая, не смей опаздывать! Я не хочу, чтобы твоя учительница снова звонила мне с жалобой на твоё опоздание!
Такая привычная ворчливая ругань. Лёгкая степень раздражения. Ничего не изменилось с вчерашней ночи. Вроде бы ничего такого, но всё равно было как-то горько. Так ей было проще. Справляться со всем в одиночку. Погрузиться в свои дела.
Что-то пробурчав, я сажусь за стол и начинаю есть оладушки, хотя аппетита нет совсем. В последнее время я ем мало. Тот редкий аппетит перебивает мама.
— Сегодня у тебя сольфеджио, а потом ты должна успеть к Анатолию Васильевичу, ты же знаешь свои проблемы по английскому... Только успей, иначе он откажется заниматься с тобой, он очень востребованный и занятой человек...
Меня тошнит от её трескотни. И снова это чувство тупого, отчаянного бессилия. Усталости. Как же я устала, господи.
Может, в одном всё-таки прав был Игнат. Я утопаю. Тону в этой тине, которая забивается во все отверстия, во всех этих дополнительных. Я не идеальна и я не могу справиться со всем этим, как бы того не хотела мама. Это не отлично. Даже не «довольно хорошо». Просто хуже некуда.
Но в самой сути он всё же не попал в точку. Я не смогу помочь сама себе. Я бессильна. Мне нужен тот, кто спасёт меня, как бы приторно и по-книжному не звучало.
Поев, я тут же выбегаю из квартиры, схватив сумку и натянув впопыхах верхнюю одежду. В лифте качусь в одиночестве, и что-то внутри обрывается, когда я гляжу на запертую дверь квартиры напротив. Глупо-глупо-глупо, но поделать ничего с собой не могу. Надежда увидеть, несмотря на мой позор и то, что его нет уже все эти три дня, его не угасает во мне.
Глупенькая, наивная Тая.
Я совсем не хочу идти в школу сегодня, и уж точно не хочу на репетиторство и долбанное сольфеджио. У меня даже в мыслях появляется желание сбежать и прогулять. Но я тут же с ужасом отгоняю его, представив что будет, если мама всё узнает. А она обязательно узнает. Давно уже заставила классную руководительницу проверять мои пропуски и в случае чего звонить ей.
Я устала. Снова это слово грузом ложится на плечи. Но всё же снег и морозный воздух приносит мне какое-то облегчение. Хоть мимолётное, но я успеваю вдохнуть и выдохнуть.
В школе я неосознанно втягиваю голову в шею, хожу по стенке. Всё как обычно — одноклассники исподтишка насмехаются надо мной. Если честно, я даже не помню, с чего всё это началось. Я всегда была замкнутой, необщительной, принимала мало участия в жизни класса, сторонилась всех. Я общалась лишь с двумя людьми — таким же ботаном Эльзаровым и толстушкой Цветковой. Это были те люди, над которыми издевались ещё больше, чем надо мной — со мной лишь холодная война, которая ведётся только одной стороной, а с ними можно вдоволь поиграть, насладившись их страхом. Я даже иногда ощущала себя их мамочкой.
— Отошла в сторону, швабра, — слышу откуда-то сзади знакомый грубый голос. Это наш самый главный зачинщик всех издевательств — «крутой» парень Стас.
Я тут же испуганно отпрыгиваю в сторону, проглатывая их тупые смешки. Если бы я могла ударить или ещё что похуже...
— Похоже, это очень круто, бить по тем, кто не может дать в ответку, — мои глаза сами собой расширяются, когда я наблюдаю, как тут присоединяется ещё один персонаж. Вордов. Мы не общались с того дня, когда он стал свидетелем маминой ярости — я специально его избегала. Он же всё время смотрел. Как-то странно, непонятно. Мне от этого становилось лишь хуже.
Сейчас мне хочется заткнуть уши руками, зажмуриться — что угодно, лишь бы не быть участником этого. Лишь бы не быть причиной. Какой же ты идиот, Вордов...
— Вот это поворот, — озадаченно почёсывает затылок Стас, изображая удивление. — Из самых низов раздался какой-то писк.
А потом гогочет, довольный своей шуткой. Его дружки поддерживают его. Я приподнимаю брови — мне кажется, это очень тупо. И тут случается непредвиденное. Стас прекращает свой смех, потому что в лицо ему прилетает не маленький кулак Вордова. Пока я стою с выпученными глазами и застрявшим в глотке смехом, Вордов хватает меня за руку:
— Бежим, валим, быстрее!
Я ничего не успеваю сообразить, как уже бегу по коридорам. Лёгкие у меня уже горят, но Вордов меня всё тащит и тащит за собой. Мы забегаем в раздевалку, хватаем свои куртки и бежим дальше. Я не оборачиваюсь, но слышу за спиной топот ног Стаса и его компании. Наконец, нам удаётся спрятаться за школой, прямо за пожарной лестницей. Я открытым ртом глотаю холодный морозный воздух, упершись ладонями в колени. Куртка на мне не застёгнута, шапка в руке, но мне жарко. Вордов тоже запыхался.
Снимая запотевшие очки, я недовольно кошу на него взглядом:
— Идиот! Зачем ты побежал, ты же боксом занимаешься!
Вордов смотрит на меня как-то ошалевше, ничего не говоря. Я приподнимаю брови и смотрю по сторонам, скрывая смущение.
— Чего уставился?
— А ты, оказывается, симпатичная, — говорит Вордов, словно узнал самую большую тайну в мире.
Я смеюсь, натягивая шапку и застёгивая куртку. Очки кладу в сумку. Всё в глазах расплывается, но всё равно.
— Дурнушка сняла очки и стала «Мисс Мира»? Тебе не кажется это слегка... киношным?
— Да нет же, очки тебя правда портят, — смущённо кашляя, говорит парень. Я вижу, как покраснели у него щёки. Меня это умиляет. — У тебя глаза такие огромные и зеленющие, как у Добби из Гарри Поттера. Не носи очки. Я тебя провожу на всякий случай.
Я благодарю его, потому что знаю, на что способен Стас. Он часто подкарауливает своих жертв у их дома и там начинает свои извергские делишки. Меня это пугает немного, ведь сегодня я была причиной его злости.
Мы идём по хрустящему снегу, который ещё не успели убрать, и я беспрестанно ворчу:
— У нас же ещё три урока! Идиот... Меня мама убьёт! По геометрии сегодня контрольная. Вот зачем, скажи мне на милость, надо было убегать?
Вордов беззаботно пожимает плечами, кусая мороженое, которое мы купили по пути. Мне даже смотреть на него холодно. Вот не идиот ли?
— Ну если хочешь, можем пойти куда-нибудь, и никто не узнает. В кино, например. Я недавно анонс видел нового фильма. Классухи сегодня не было, она не пожалуется.
Я задумалась. Видит Бог, я этого хотела. Больше всего на свете хотела сбежать куда-нибудь, чтобы без уроков, без учёбы... Может, и всё-таки прав был Игнат? Я могу сама себя спасти?
А потом понимаю, что всё это нереально. Нет, дорогая Тая, так не получится. Классная приедет, проверит журнал, позвонит матери и...
— Нет, но спасибо за предложение, — говорю я, когда мы подошли к моему дому и остановились. Голос у меня звучит фальшиво, в нём отчётливо чувствуется разочарование. — Я лучше, наверное, обратно в школу пойду, только домой зайду...
Вордов пожимает плечами и уходит, а я смотрю ему вслед. Мне как-то обидно. И больно, что я сама себя загоняю в эту клетку. А ведь могла бы... Мама обычно ходит в это время в магазин, я могу лишь зайти домой и незамеченной уйти...
И зачем мы только сюда пришли? Вордов, наверное, думал, что я вот так вот во всём признаюсь матери. Ха и ещё раз ха. Никогда и ни за что я не скажу ей об этом. Может быть, сейчас её нет, и я смогу зайти домой и выйти незамеченной. Я бы, конечно, могла и не заходить, но холодно было жутко, и я забыла тетрадь по русскому. Если я около дома, почему не бы воспользоваться подвернувшейся возможностью?
С надеждой я зашла в дом, вышла на лестничную клетку у квартиры. И тут все мои надежды пошли прахом. Мама уже стояла около двери. Ждала меня. Как я могла забыть об окне, выходящем прямо на наш двор? С похолодевшим сердцем я подхожу к маме, прижимая рюкзак к груди, словно защиту. В голове вертятся множество оправданий, слов, даже мелькнула мысль признаться во всём, но я не успеваю сказать ничего. Мама начинает прямо сразу свою речь:
— Кто мне говорил, что больше такого не повторится? Не знала, что у меня растёт дочь-прогульщица! Да ещё и с мальчиками! Уроки не выучила, признавайся? Господи, за что мне это всё? Выслушивать потом от Ольги Владимировны, что она прогуливала уроки! Сама потом и оправдывайся!
Я сгораю от стыда, потому что из квартиры напротив выходит новый сосед. Он, кажется, только со сна — я даже без очков вижу, насколько растрёпаны у него волосы. Он без футболки, в одних джинсах, видимо, натянутых впопыхах. Я во все глаза гляжу на огромную татуировку, идущую по его рёбрам и левой руке. Кажется, какие-то драконы. Руки у него сильные, мускулистые. Плечи широкие и накаченный пресс. Я почти с минуту пялюсь на него, а потом, покраснев, опускаю взгляд на свои руки.
— Бога ради, что за балаган? — спрашивает он умоляюще. — Ещё даже двенадцати нет!
— А это не ваше дело! Все порядочные люди на работе в это время, а не дрыхнут весь день!
— Теперь вот это не ваше дело, уважаемая. Почему сами-то вы не на работе?
Мама ахает, а потом, не найдя ответа, окатывает его презрительным взглядом и уводит меня в квартиру. Я не могу оторвать от него глаз теперь. Он так ловко отбрил мою маму! Снова это чувство в груди.
Кажется, он мне подмигнул. Я не могу быть уверена, потому что без очков, но, кажется, это было. Почему-то я весь день, даже несмотря на ор матушки, улыбаюсь. Появляется маленькая, но надежда. Надежда, что это он меня спас.
* * *
Мама находит, к чему придраться, на следующий день. И на позаследующий тоже. И на три дня вперёд тоже. А у меня не выходит из головы то, что сосед устраивает всё это специально, чтобы отвлечь маму. Когда она начинает кричать по привычке у квартиры, он или выходит из лифта и начинает дерзить ей, или из квартиры вместе с какими-то людьми. Они все меня пугают, потому что все похожи на него, только хуже, намного хуже — или голова растатуирована, или ещё что. Когда мама начинает орать по вечерам, когда папы снова нет и ей не на ком выместить злость, я тут же слышу громкую музыку из квартиры напротив, и мама идёт разбираться туда. И каждый раз, неизменно каждый, он мне подмигивает. Теперь я точно в этом уверена.
Он не похож на хорошего парня — того, кого можно показать маме, и она будет рада накормить его её фирменными супами. Светка говорила, что у него вроде бы проблемы с законом. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне почему-то очень тепло. И робкая, робкая надежда, что это он будет моей соломинкой. Той самой, что спасёт утопающего. Он ведь это специально делал, правда же? Я не хочу рассматривать другой вариант. Глупо, знаю. Но мне это было нужно. Он меня притягивал, как магнит.
В один день я всё же решилась. Благодарность росла во мне, как снежный ком. Я должна была его отблагодарить. Просто обязана. А может, я просто искала способа с ним пообщаться.
Утром я, как обычно, собиралась в школу. И быстро, пока мама не видит, вырвала из тетрадки листок и написала на нём: «Спасибо». Сердце у меня стучало, как бешеное, и улыбка расплывалась по губам. Я чувствовала себя очень глупо, но никак не могла по-другому.
Я подошла к его квартире. Дыхание вдруг участилось, и сердцебиение стало ещё сильнее. Мне сразу захотелось уйти, но я заставила себя подойти прямо к двери. Напоследок поцеловала записку и кинула её в щель внизу. Прикрыла глаза, вдыхая через раз, чтобы успокоиться. И зачем я это делаю? Я не понимала, это было какое-то безумие. Но оно мне нравилось. Как будто это был наш тайный язык. Он даже не знает, как меня зовут, но всегда подмигивает и помогает с мамой. Я же с ним почти не разговаривала, но кидаю ему какие-то детские записочки.
Вдруг дверь открылась, и из неё вышла какая-то блондинка, застёгивающая на ходу кожаную куртку. Видок у неё был потрёпанный — волосы растрёпаны, косметика почти стёрлась с лица, но это не отменяло того факта, что она была красива. Мне стало как-то горько, когда она свысока посмотрела на меня и спросила:
— Чего тебе, девочка?
Словно я какая-то малявка. Я сразу почувствовала себя жалкой. Ведь они наверняка не чай там пили с Игнатом всю ночь. Не знаю, почему мне стало так больно. Но я всё равно подняла листочек с пола и протянула ей со словами:
— Передайте, пожалуйста, Игнату.
Она кивнула и взяла из моих рук записку. А потом закрыла дверь. И зачем всё это? Почему я просто не могу забить? Почему обязательно нужно поблагодарить его?
Наверное, я просто слишком глупая. Наивная. Но он ведь не зря мне помогал? Правда же?