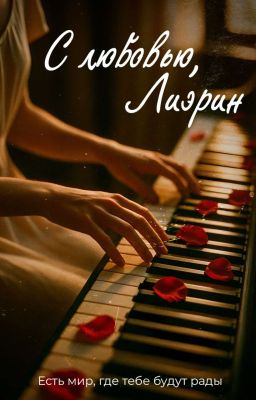Глава 17.
Яркие всплески краски, чужая боль и переживания, вылепленные в масляных мазках, смотрели на Чарльза со стен выставки с целью вдохновить, радовать глаз. Его собственные картины занимали свои почетные места под лёгкой подсветкой, будто крича: "здесь твое место, Чарльз". Здесь – то, чего он всегда желал: искреннее признание, глубоко задумчивые взгляды критиков, едва слышный шепот публики. Но среди этого искусства, среди шипящего шампанского и ярких софитов, в нем ныла тупая тоска, которая грубо вытеснила обычное тщеславие.
Чарльз давно участвует в выставках. Уже и не знает, то ли родители оплачивали его присутствие здесь, то ли интерес к его работам действительно существует. Раньше это не имело значения: всё равно было приятно, всё равно раздувало самолюбие. Сейчас же, терпеливо кивая и позволяя хвалить себя, в голове свербит мысль о том, что никто из этих разодетых зевак, рассматривающих его работы, не может понять истинный смысл – они видят только то, что удобно. Но внутри, там, где рвётся сердце, саднит глубокая обида, изо дня в день нагнаиваясь все сильнее.
Чарльз Грэнтэм не отвечает на вопросы, которые ему задают. То ли не слышит, то ли усердно делает вид, что это его не касается. Парень сам похож на восковую фигуру: стоит подле стены, держа в руках бокал с шампанским, и смотрит под ноги, глубоко забурившись в собственные мысли. Золото переливалось в стекле, жемчужный смех дам и сухие замечания критиков вплетались в гул зала, но всё это скользило мимо.
И все же мысли упрямо увиливали от живописи к ним. К Монтэгю и Фролло.
Чарльз сам не понимал, почему они засели в голове так глубоко. Теодор никогда ничего не стоил: отстранённый, молчаливый, почти жалкий. Всегда рядом, но никогда вместе. Держаться "элиты" было выгодно, и он держался, но не более того. Их уважали, их боялись, их всегда приглашали. Только вот эта его надменность, показная "взрослость" всегда отталкивала Чарльза, не позволяя приблизиться по-настоящему. Стать другом не по расчёту, а по желанию.
Но с появлением Лиэрин Монтэгю изменился. Отрицал, что смотрит, не заступался, мог и сам усмехнуться вслед, а потом вдруг оказался рядом. Нашёл общий язык с этой вечно торопящейся, порывистой, сентиментальной и до невозможности невыносимой француженкой. И ей, кажется, плевать, что он был среди тех, кто смеялся, пусть и в стороне.
И от этого ребра сдавливала глухая боль: деньги, связи, выставки — всё пустое, если нужную руку протянул другой. А про Чарльза забыли. Сначала игнорировали насмешки, потом не заметили, как он "исправился". Цветы летели в мусорку, вежливость разбивалась о холодный взгляд её голубых глаз, от которого хотелось плотнее закутаться в шарф.
Кулак сжался так, что костяшки побелели. В груди копошилось мерзкое, липкое чувство, которое он ненавидел в себе. Ревность. Злость. Зависть. Всё сразу. Сколько бы он ни твердил, что ему плевать, одно воспоминание о её взгляде – и всё рушилось.
— Мистер Грэнтэм, ваши работы – смело, экспрессивно, — чей-то лощеный голос перебил наваждение. Чарльз повернулся, натянул безупречную улыбку, кивнул, сказал что-то уклончивое. Но мысли всё равно утекали туда, далеко за эти стены, к школе, к её холодным глазам и к фигуре, которая стояла рядом с ней. Монтэгю, чертов сукин сын, который раньше не стоил ничего, не сильно отличался от тени на стене, теперь занимал собой все пространство. И размышления об этом разрастались, как тоненькая, почти невидимая трещина на стекле, но с каждой секундой стекло хрустело все громче. Мир вокруг продолжал искриться и гудеть, а внутри зияла дыра, из которой наружу рвались злость и тоска. Он едва не раздавил бокал в руке, представив, как легко хрупкий кристалл может лопнуть, разлететься осколками – точно так же, как разлетелось его ощущение власти над ситуацией.
Вокруг шептались, смеялись, обменивались визитками, обсуждали мазки и композицию, а он стоял среди всего этого великолепия и ясно понимал: ни похвала, ни аплодисменты, ни фамилия на табличке под картиной не имеют значения. Потому что в её глазах всё равно стоял другой. И от этого осознания в нём зрела решимость: он больше не позволит вычеркивать себя.
***
Огромный дом встретил его богатством, которое слишком кричало о себе. Высокие потолки с тяжёлой лепниной, хрусталь люстр, пастельные панели с позолоченными завитками – всё, что должно было внушать восторг, давило на плечи Чарльза так, что он уже не мог держать спину ровно. Мать любила рококо и всегда утверждала, что это праздник жизни, изящество и лёгкость. А ему казалось, что стены подслушивают и смотрят, что каждый ангел на лепнине ухмыляется, будто знает, как внутри ее сына все разрывается за его грехи.
После выставки родители не приставали, должно быть, решили, что сын устал от вечера, от критиков и светских разговоров. И Чарльзу это было на руку. Он не хотел объяснять, не хотел делиться. Да и говорить было не о чем, потому что все уже давно окрасилось в серый, не принося удовольствия.
Чарльз поднялся в свою комнату, и только там позволил себе сбросить маску. Ни золото рам, ни шелковые шторы, ни ковры, проминающиеся под ногами, не могли заглушить горчащей печали из-за собственой никчемности, которая тянулась за ним ещё задолго до мероприятия.
Руки сами схватились за телефон в кармане, когда он упал на большую кровать, скрывающуюся за балдахином. Плотные красные шторы на окнах не позволяли свету фонарей с улицы попасть внутрь, поэтому его маленький уголок освещал только экран сенсорного телефона.
Пальцы перелистывали записную книжку, лихорадочно перебирая варианты, с кем можно забыться. Из очевидных – Теодор, Аластар или Виктория, которая, все-таки, считалась его девушкой. Теодору Чарльз мог бы набить лицо просто потому, что сам загнал себя в клетку из своих переживаний, Аластар был не лучшим собеседником, а Виктория – пустышка, жадная до денег и власти. Скучно.
Он роняет телефон на грудь, и ладонь тянется вверх, к потолку, расправляя пальцы в пустоте. В голову назойливо лезла мысль о рыжей: он звонит, она, разумеется, берёт трубку, улыбается, и пусть всего на миг, но её внимание снова принадлежало бы ему, как в первый учебный день, когда она подняла на него глаза, идя к своей парте. Не на Теодора, не на кого-то еще, а на него, на Чарльза.
Рука по-прежнему вытянута к потолку, пальцы разжаты, будто он мог ухватиться за край собственных нечестивых мыслей и вытащить их наружу. Вторая же судорожно сжимала телефон. Контакт с её кличкой горел на экране. Чарльз нажал вызов, пока в голове, почти с осязаемой злобой, пульсировало "всё равно не возьмёт", и в этом была странная, горькая свобода, которая практически каждый вечер развязывала ему руки. Он названивал Лиэрин тогда, когда она не пришла на вечеринку; названивал, когда у нее был конфликт с отцом; названивал все воскресенье и сегодня, в тот редкий день, когда он не явился в школу, Чарльз все равно не бросал свою эстафету, ведь легко было кричать в пустоту, чем рискнуть быть услышанным.
Гудки тянулись вязко, один за другим, а он смотрел на свою поднятую ладонь, как будто там отражался её профиль. Казалось, стоит только дотянуться и цепкие пальцы схватят за плечо. Но в ответ звучала лишь привычная тишина.
— Ну же, милая, — почти ласково, но голос дрогнул, и уголки губ скривились в усмешке, — Гордая сука.
Чарльз сбросил вызов и тут же набрал снова. Между звонками сыпались короткие сообщения: то слащавые, будто обещание тепла, то резкие, издевательские, от которых хотелось самому же отшатнуться. Одно сообщение он стёр мгновенно, будто спалился в собственной слабости, другое оставил, как занозу, как доказательство, что он всё-таки сказал хоть что-то. Он не понимал, почему Лиэрин постоянно то блокировала его, то вновь давала раздолье, позволяя ему засыпать мерзкими сообщениями и навязчивым звонками.
Чем больше он звонил, тем сильнее сжимался кулак той руки, что тянулась ввысь. Пальцы словно хотели раздавить потолок, разорвать пустоту над собой...
И вдруг в трубке послышался щелчок.
Соединение.
— Ты что, совсем ебанулся? — голос Лиэрин прозвучал шепотом, совершенно раздраженно. Уже складывалось впечатление, будто она пожалела, что взяла трубку, а Чарльз даже не успел и слова сказать.
Он замер, воздух в горле сбился в сухой комок. На секунду показалось, что она ближе, чем когда-либо: такая живая, настоящая.
— Я... ты все таки взяла трубку, да? — Чарльз насильно выдавливает слова из глотки, что совершенно было не свойственно для него, но вынуждено, потому что он не рассчитывал, что она возьмёт трубку. Его голос слегка хрипел, сквозя былой подавленностью, но быстро вернулся к привычной слащавой интонации, — Значит, не все так безнадёжно.
— Всё очень даже безнадёжно. Чего ты хочешь от меня, если еле слова давишь, когда я отвечаю? — недовольство Лиэрин продолжало впиваться иглами в грудь, хоть слова и не казались оскорбительными, — Перестань названивать, я тебе не ведро для слива помоев.
— Перестать? — он тихо усмехнулся, растягивая слова, словно смакуя их как особенно вкусную конфету, — Забавно слышать это от тебя. Ты ведь всё равно всегда возвращаешься.
— Что? — в её голосе мелькнула искреннее недоумение. Он почти видел перед собой, как она нахмурилась.
— Ну да, — Чарльз облокотился затылком о подушки, пытаясь разглядеть кольца на руке сквозь мрак, — Сначала блокируешь, потом снова доступна. Сначала молчишь, а потом сама же берёшь трубку. Так что... не нужно рассказывать мне про "безнадёжно". Если бы тебе было плевать, то ты бы не ответила.
— А ничего, что ты терроризируешь меня звонками уже какой день? Я снимаю с блока, думая, что вдруг случится что, но снова обжигаюсь, когда тебе начинает сносить крышу.
— Обжигаешься? — он повторил её слово с ленивой усмешкой, почти ласково, — Ты сама не понимаешь, как это звучит. Будто снова и снова возвращаешься к огню, зная, что обожжёт.
— Хватит! — в голосе девушки звякнула злость.
— Но ты ведь всё равно возвращаешься, — протянул Чарльз, делая интонацию приторно-мягкой, от которой мороз бежал по коже, — Вот сейчас, например. Ты могла бы просто сбросить, но нет. Ты решила послушать. Значит, там, где-то внутри, тебе это тоже нужно.
— Ты несёшь бред, — прошипела она, но он уловил дрожь в её тоне.
— Может быть, — он чуть усмехнулся, не скрывая удовлетворения, — но ведь именно сейчас ты разговариваешь со мной, а не с ним.
На линии повисла короткая пауза. Он слышал ее прерывистое дыхание на том конце провода, отчего ухмылка еще сильнее расползлась по лицу.
— Ты просто больной ублюдок, Чарльз.
Щелчок и соединение оборвалось.
Чарльз ещё несколько секунд смотрел на тёмный экран, будто надеялся, что там снова вспыхнет её имя. Потом сдавленно рассмеялся, шумно выдохнул в тишину и уронил телефон рядом на простыню.
Но через пару минут пальцы сами потянулись обратно. Она, конечно же, тут же заблокировала номер, что уже было привычным делом. А Чарльзу было даже приятно: значит, она всё-таки реагирует, искренне, с неприкрытой злостью и раздражением, по-настоящему, по-живому.
Чарльз, даже не задумываясь, вошёл в соцсети. Там девушка ещё не закрыла ему доступ. Её профиль всё так же горел привычными фотографиями – рыжие волосы, холодные голубые глаза, и под каждым снимком десятки чужих лайков. Пальцы бегали по клавиатуре сами. Сначала строчили что-то липко-сладкое, как признание, от которого тянет скривиться: "ты не понимаешь, как красиво злишься". А затем сменялись ядовитым и грубым: "сколько ещё ты будешь притворяться, что тебе плевать, дура?". Он останавливался, стирал, переписывал, снова отправлял.
Телефон опять лёг на грудь, экран погас, оставив после себя лишь тёмное пятно на сетчатке. Чарльз закрыл глаза и улыбнулся в полумраке. Её злость всё ещё звенела в ушах, будто приятное эхо. Ненависть... да, вот что это было. Но ведь ненависть не была пустотой. Ненависть была такой же силой, как и любовь, только с другим лицом, более сладкая, более тягучая, такая, что сдавливало ребра. И если она может ненавидеть его так искренне, значит, способна и любить. Тонкая грань, скользкая, как лезвие ножа.
Он снова поднял ладонь к потолку, как зачарованный, будто пытался ухватить эту мысль, прижать её к себе. В её дрожащем голосе, в каждом сорванном слове и оскорблении слышалось то, что принадлежало только ему. Монтэгю мог сколько угодно стоять рядом, мог подвозить, защищать, но именно Чарльз умел довести её до настоящего, живого крика. И в этой мысли была странная, мрачная услада.
И вдруг перед глазами вспыхнуло видение: Тео, отворачивающийся от неё, с презрительной усмешкой. Лиэрин, которая в слепой ярости вырывает у него телефон, видит чужую переписку, чужие слова. Её губы дрожат, глаза полны предательства, а рядом Чарльз, единственный, кто остаётся.
Резкий выдох сорвался с губ, рука отдёрнулась, будто обожглась собственным воображением. Чушь. Болезненные, липкие грёзы. Но стоило сомкнуть веки, и картинка возвращалась, тягучая, будто патока, застревающая в горле.
То ему виделось, как Тео стоит, бросая мимолётный взгляд на другую девушку, и Лиэрин подмечает это. То слышалось шипение чьих-то голосов, сплетни в коридоре: "Монтэгю нашел себе новую игрушку". И снова лицо Лиэрин, перекошенное болью. А за плечом рука Грэнтэма – как дар, как спасение.
Чарльз ухмыльнулся. От собственных мыслей почти тошнило, но вместе с этим внутри зажегся огонь, дурманящий и вязкий, как крепкое вино. Его рука невольно опустилась на ремень брюк, а кольца звякнули о бляшку. Он чувствовал себя грязным, наваждения казались нездоровыми, но именно в этой мерзости рождалось низменное удовольствие.
Дыхание сбивается, он окончательно отбрасывает телефон в сторону и опускает руку ниже, сжимая тугую ткань брюк. Тишина комнаты стала густой, тяжёлой, почти обволакивала его, заставляя глубже нырнуть в свои грёзы. Он видел, как легко можно посеять зерно сомнения. Подделать переписку, бросить наугад пару фраз в нужных ушах, чтобы в её глазах Теодор предстал лживым, двуличным ублюдком, каковым Чарльз его всегда и считал. И тогда... тогда Лиэрин останется одна. Разбитая и брошенная.
Чарльз резко выпустил воздух сквозь зубы, зажмурил глаза и, словно спасаясь, уцепился за другое видение. Рыжие кудрявые волос, рассыпанные по плечам. Голубые глаза, сверкающие настоящим гневом. Губы, прикушенные от злости. Её голос, звенящий в ушах. Её лицо.
Это она. Только она.
Но тут же под ребрами будто что-то кольнуло. Нет, не только. Его заводила сама трещина, которую он мог оставить. То, что её ярость принадлежала ему. Что её крик звучал только для него.
Рука вновь ползёт к ремню, а дыхание Чарльза становится все поверхностнее, пока дрожащие пальцы возятся с пряжкой.
— Господи, я больной, — почти беззвучный шепот срывается с губ. Чарльз попытался сжать глаза крепче, но образы не исчезли. Она, раздраженная, прекрасная. Она, готовая сорваться. Она, которая всё равно возвращается. Она, которая толкает его из-за очередных мерзких слов, как тогда, у лестницы.
Нет, это не болезнь. Это любовь. Просто Фролло ещё не поняла.
И от этой мысли стало ещё хуже. Потому что внутри всё одновременно корёжило и сладко тянуло, будто он захлебывался ядом и одновременно им наслаждался.