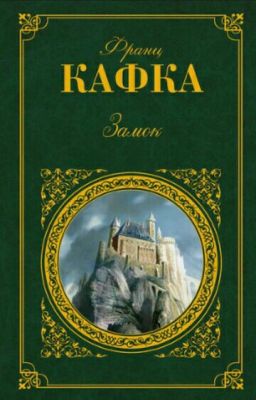XVII Тайна Амалии
"Суди сам, -- сказала Ольга. -- Впрочем, все как будто очень просто,сразу и не понять, как это может иметь такое большое значение. В Замке естьодин важный чиновник, его зовут Сортини". "Слышал я о нем, -- сказал К. --Он имел отношение к моему вызову". "Не думаю, -- сказала Ольга. -- Сортинипочти никогда официально не выступает. Не перепутал или ты его с Сордини,через "д"?" "Ты права, -- сказал К., -- то был Сордини". "Да, -- сказалаОльга, -- Сордини все знают, он один из самых деятельных чиновников, о неммного говорят. Сортини же, напротив, держится особняком, его никто не знает.Года три назад, а то и больше, я видела его в первый и в последний раз. Этобыло третьего июля, в праздник пожарной команды, и Замок тоже принялучастие, оттуда прислали в подарок новый насос. Сортини, как говорят,отчасти занимается пожарными делами (впрочем, может быть, он кого-тозамещал, обычно чиновники замещают друг друга, поэтому так трудно определитьдолжность того или другого). Так вот, Сортини принимал участие в передаченасоса, ну, конечно, из Замка пришло много народу -- и чиновников и слуг, --и Сортини, как можно было ожидать от человека с его характером, держалсясовершенно в стороне. Он мал ростом, тщедушен, сосредоточен на себе, но чтоособенно бросалось в глаза тем, кто его вообще замечал, так это его морщины,их у него было множество, хотя ему, наверное, было не больше сорока, и всеони шли веером со лба к носу, я никогда в жизни ничего подобного не видела.Ну вот, значит, наступил этот праздник. Мы с Амалией уже за несколько недельрадовались, переделали свои праздничные платья по-новому, особенно красивоеплатье было у Амалии: белая блузка, спереди вся пышная, кружева на ней внесколько рядов, матушка отдала ей все свои кружева, я ей тогда позавидовалаи проплакала полночи. Только тогда хозяйка постоялого двора "У моста" пришлапосмотреть на нас..." "Хозяйка "У моста"?" -- спросил К. "Да, -- сказалаОльга, -- она тогда очень дружила с нами, вот она и пришла, признала, чтоАмалия одета куда лучше меня, и, чтобы меня успокоить, одолжила мне своибусы из богемских гранатов. А когда мы уже были готовы и Амалия стоялапередо мной и все на нее залюбовались и отец сказал: "Наверное, Амалиясегодня найдет жениха!" -- я вдруг, сама не знаю почему, сняла с себя бусы,мою гордость, и уже без всякой зависти надела на Амалию. Я преклоняласьперед ее победой и считала, что все должны перед ней преклоняться; можетбыть, всех нас поразило, что она выглядит совсем не так, как всегда, ведь, всущности, красивой ее назвать нельзя, но сумрачный взгляд, сохранившийся унее с тех пор, витал где-то высоко над нами и невольно заставлял и в самомделе чуть ли не преклоняться перед ней. Это заметили все, даже Лаземан сженой, которые пришли за нами". "Лаземан?" -- переспросил К. "Да, Лаземан,-- сказала Ольга. -- Ведь мы были окружены почетом, и праздник, например,без нас никак не мог бы начаться, потому что отец был третьим инструкторомпожарной команды". "Неужели отец тогда был еще настолько бодр?" -- спросилК. "Отец? -- переспросила Ольга, словно не понимая. -- Да ведь три годаназад он был сравнительно молодым человеком -- например, во время пожара вгостинице он вынес бегом на спине одного чиновника, Галатера, весьматяжелого человека. Я сама была при этом, правда, настоящего пожара не было,только сухие дрова у печки занялись и задымили, но Галатер перепугался,закричал из окна: "Помогите!", приехали пожарные, и отцу пришлось еговынести, хотя огонь уже потушили. Но Галатер -- весьма неподвижный мужчина,и в таких случаях ему приходилось соблюдать осторожность. Все это ярассказываю только из-за отца, но с тех пор прошло не больше трех лет, а тыпосмотри, каким теперь он стал". Только тут К. увидел, что Амалия ужевернулась в комнату, но она была далеко, около стола родителей, и тамкормила мать с ложки -- та из-за ревматизма не могла шевелить руками -- ипри этом уговаривала отца потерпеть с едой, сейчас она и к нему подойдет иего тоже накормит. Но отец, не обращая внимания на ее уговоры, с жадностьюстарался подобраться к супу, и, пересиливая свою слабость, он то пробовалхлебать суп ложкой, то пить его прямо из тарелки и сердито ворчал, когда емуни то ни другое не удавалось: суп выливался, пока он подносил ложку ко рту,а в суп попадали лишь его свисающие усы и брызги летели во все стороны,только не ему в рот. "И до этого его довели за три года?" -- спросил К., всееще испытывая к старикам и ко всему, что было у стола, не жалость, аотвращение. "Да, за три года, -- сказала Ольга, -- вернее, за те несколькочасов, что длился праздник. Праздник шел на лугу, близ Деревни, у ручья;когда мы пришли, была уже страшная давка, собралось много народу из соседнихдеревень, от шума кружилась голова. Сначала, конечно, отец подвел нас кновому насосу, он засмеялся от радости, когда увидел его, так он былсчастлив, что прислали новый насос, он стал его ощупывать и объяснять намего устройство, сердился, если другие вмешивались и перебивали его, а когдаему хотелось показать нам что-то под насосом, он заставлял нас нагибаться ичуть ли не залезать вниз, он даже отшлепал Варнаву, когда тот не захотеллезть туда. Только Амалия никакого внимания на этот насос не обращала, онастояла в своем красивом платье не двигаясь, и никто не смел сделать ейзамечание, иногда я подбегала к ней, брала ее под руку, но она молчала. Я досих пор никак не могу понять, почему вышло так, что мы долго стояли унасоса, и, только когда отец наконец отошел, мы увидели Сортини, хотя он,очевидно, все это время стоял позади насоса, прислонясь к рукоятке. Правда,вокруг был ужасный шум, и не просто такой, какой всегда бывает напраздниках. Дело в том, что из Замка прислали в подарок пожарникам еще инесколько духовых инструментов, совсем особенных, из таких труб даже ребенокбез малейших усилий может извлекать самые дикие звуки, услышишь их -- икажется, что нагрянули турки, и привыкнуть к этой музыке было немыслимо, прикаждом звуке так и вздрагиваешь. И оттого, что трубы были новые, каждомухотелось их попробовать, а раз это был народный праздник, то всем иразрешали в них дуть. Вокруг нас теснилось несколько таких трубачей, можетбыть, их привлекла Амалия, собраться с мыслями было просто невозможно, а тутеще отец приказывал внимательно осматривать насос, оттого и Сортини,которого мы раньше и не знали, так долго оставался для нас незамеченным."Вон стоит Сортини", -- шепнул наконец отцу Лаземан, я стояла рядом. Отецнизко поклонился и сделал нам знак -- поклониться Сортини. Отец хотя и незнал его раньше, но глубоко уважал как знатока пожарного дела и частоговорил об этом дома, потому для нас было большой неожиданностью и большимсобытием, что мы вдруг увидали живого Сортини. Но Сортини не обратил на насвнимания -- не по личной прихоти, а как все чиновники, он выказывал полноебезразличие к людям. Кроме того, он очень устал, и только служебный долгудерживал его тут, внизу; иным представительство бывает в тягость, но этововсе не значит, что они -- из самых плохих чиновников; другие чиновники ислуги, раз они пришли сюда, смешиваются с толпой, с народом, но Сортинистоял у насоса, и всякого, кто пытался подойти к нему с какой-нибудьпросьбой или лестью, он отпугивал своим молчанием. Поэтому он нас заметилеще позже, чем мы его. И только когда мы почтительно поклонились и отец стализвиняться за нас, он посмотрел на нас, взглянул на всех по очереди усталымиглазами; казалось, он вздыхает оттого, что мы подходим друг за другом, покаего взгляд не остановился на Амалии, на которую ему пришлось поднять глаза,потому что она куда выше его. Тут он опешил, перескочил через рукояткунасоса, чтобы подойти поближе к Амалии, и мы, не разобрав, в чем дело, все,во главе с отцом, двинулись было ему навстречу, но он остановил нас, поднявруку, а потом махнул, чтобы мы уходили. Вот и все. Мы стали ужасно дразнитьАмалию, что она наконец нашла жениха, и очень веселились весь день, ничегоне подозревая. Но Амалия стала молчаливее, чем обычно. "Видно, она по ушивлюбилась в Сортини", -- сказал Брунсвик; ведь он человек грубый и такихлюдей, как Амалия, никак не понимает; но на этот раз нам показалось, что онпочти прав, вообще мы весь день дурачились, и все, даже Амалия, были словнооглушены сладким вином из Замка, когда за полночь вернулись домой". "АСортини?" -- спросил К. "Да, Сортини, -- сказала Ольга. -- Несколько раз явидела Сортини мимоходом, во время праздника, он сидел на рукоятке насоса,скрестив руки на груди, и не двигался, пока за ним не приехал экипаж изЗамка. Даже на маневры пожарных он не пошел, а наш отец, надеясь, чтоСортини на него смотрит, превзошел всех мужчин своего возраста". "И выбольше о нем ничего не слышали? -- спросил К. -- Ведь ты, кажется, очень егопочитаешь?" "Да, почитаю, -- сказала Ольга, -- а услыхали мы о нем скоро. Наследующее утро нас, с похмелья, разбудил крик Амалии, все тут же заснулиснова, только я проснулась окончательно и подбежала к Амалии. Она стояла уокна, держа в руках письмо -- его подал через окошко какой-то мужчина, онждал ответа. Амалия уже прочла письмо -- оно было короткое -- и держала егов опущенной руке; я всегда любила ее, когда видела такой усталой! Я всталана колени и прочла письмо. И только я успела его прочесть, как Амалия,взглянув на меня, подняла руку с письмом, но не смогла заставить себяперечитать его и разорвала на клочки, бросила в лицо мужчине, ждавшему заокном, и захлопнула окошко. Это утро оказалось решающим. Я называю егорешающим, хотя весь предыдущий день, каждая его минута были не менеерешающими". "А что было в письме?" -- спросил К. "Да я же еще об этом ничегоне сказала, -- ответила Ольга, -- письмо было от Сортини, адресовано девушкес гранатовыми бусами. Передать содержание я не в силах. Это было требованиеявиться к нему в гостиницу, причем Амалия должна была идти туда немедленно,так как через полчаса Сортини уезжал. Письмо было написано в самых гнусныхвыражениях, я таких никогда и не слыхала и поняла их лишь наполовину, подогадке. Кто не знал Амалии, тот, наверно, счел бы обесчещенной девушку,которой смеют так писать, даже если бы до нее никто и не дотрагивался. Иписьмо было не любовное, без единого ласкового слова, наоборот, Сортини явнозлился, что встреча с Амалией так его задела, оторвала от его обязанностей.Мы потом сообразили, что Сортини, вероятно, хотел уже с вечера уехать вЗамок и только из-за Амалии остался в Деревне, а утром, рассердившись, чтоему и за ночь не удалось забыть Амалию, написал ей письмо. Такое письмовозмутило бы любую девушку, даже самую хладнокровную, но потом, быть может,другую, не похожую на Амалию, одолел бы страх из-за гневного, угрожающеготона письма, а вот у Амалии оно вызвало только возмущение, страха она незнает -- ни за себя, ни за других. И когда я снова забралась в кровать,повторяя про себя отрывок фразы, которой кончалось письмо: "... и чтобы тынемедленно явилась, не то..." -- Амалия все стояла у окна и выглядывала водвор, словно ждала других посланцев и готова была со всеми обойтись как спервым". "Так вот они какие, чиновники, -- нерешительно сказал К., --значит, есть среди них и такие экземпляры. А что же сделал твой отец?Надеюсь, он пожаловался на Сортини в соответствующие инстанции, если толькоон не предпочел более короткий и верный путь -- прямо пойти в гостиницу. Носамое отвратительное во всей этой истории совсем не обида, которую нанеслиАмалии, обиду легко исправить, не понимаю, почему ты именно этому придаешьтакое преувеличенное значение; почему это Сортини навек опозорил Амалиюсвоим письмом, а гак можно подумать по твоему рассказу, но ведь этосовершенно нелепо, и вовсе не трудно было добиться для Амалии полногоудовлетворения, и через два-три дня вся история была бы забыта; Сортинивовсе не Амалию опозорил, а себя самого. И меня пугает именно Сортини,пугает самая возможность такого злоупотребления властью. То, что не удалосьв этом случае, потому что было высказано слишком ясно и отчетливо и нашло уАмалии решительный отпор, то в тысяче других случаев, при других менееблагоприятных обстоятельствах, могло бы вполне удаться, причем незаметно длявсех, даже для пострадавшей". "Тише, -- сказала Ольга, -- Амалия сюда смотрит". Амалия уже накормилародителей и теперь стала раздевать мать; она только что развязала ей юбку,закинула руки матери себе на шею, слегка приподняла ее, сняла с нее юбку иосторожно посадила на место. Отец, всегда недовольный тем, что матьобслуживали раньше, чем его, -- конечно, потому, что мать была гораздобеспомощнее его, -- попытался раздеться сам, очевидно намереваясь попрекнутьдочь за ее воображаемую медлительность, но, хотя он начал с самого легкого ивторостепенного, ему никак не удавалось снять громадные ночные туфли, вкоторых болтались его ступни; хрипя и задыхаясь, он наконец отказался отвсяких попыток и снова застыл в своем кресле. "Самого важного ты не понимаешь, -- сказала Ольга, -- может быть, востальном ты прав, но самое важное то, что Амалия не пошла в гостиницу; то,как она обошлась с посыльным, еще сошло бы, это можно было бы замять, нотем, что она не пошла, она навлекла проклятие на нашу семью, а при этом и ееобращение с посланцем сочли непростительным, более того, официально этообвинение и было выдвинуто на первый план". "Как! -- крикнул К. и сразупонизил голос, когда Ольга умоляюще подняла руку. -- Уж не хочешь ли ты, еесестра, сказать, что Амалия должна была послушаться Сортини и побежать кнему в гостиницу?" "Нет, -- сказала Ольга, -- упаси меня бог от такогоподозрения, как ты мог даже подумать? Я не знаю человека, который во всехсвоих поступках был бы более прав, чем Амалия. Правда, если бы она пошла вгостиницу, я бы и тут оправдала ее, но то, что она туда не пошла, я считаюее геройством. Но насчет себя скажу тебе откровенно: если бы я получилатакое письмо, я пошла бы туда непременно. Я не вынесла бы страха перед тем,что мне грозило, это могла только Амалия. Однако выходов было много: другая,например, нарядилась бы, потратила на это какое-то время, потом отправиласьбы в гостиницу, а там узнала, что Сортини уже уехал, -- ведь могло быть итак, что, отослав письмо, он тут же и уехал, это вполне возможно, у господнастроение переменчивое. Но Амалия поступила иначе, совсем не так, слишкомсильно ее обидели, оттого она и ответила без раздумья. Но если бы она длявидимости послушалась и перешагнула бы тогда порог гостиницы, то можно былоизбежать, отвести все обвинения, тут у нас есть умнейшие адвокаты, они умеютлюбую мелочь употребить на пользу, но ведь в этом случае даже такойблагоприятной мелочи не было. Напротив, тут было и неуважение к письмуСортини, и оскорбление посыльного". "Но при чем тут какие-то обвинения, причем тут адвокаты? Неужто из-за преступного поведения Сортини можно было вчем-то обвинить Амалию?" "Конечно, можно, -- сказала Ольга. -- Разумеется,не по суду, да и наказать ее непосредственно не наказывали, но все же и ее,и всю нашу семью наказали другим способом, а насколько это наказание сурово,ты, наверно, уже стал понимать. Тебе это кажется чудовищным инесправедливым, но так во всей Деревне считаешь только ты единственный, длянас такое мнение очень благоприятно, оно бы нас очень утешало, если бы непокоилось на явных заблуждениях. Это я могу легко доказать тебе, извини,если при этом я заговорю о Фриде, но между Фридой и Кламмом тоже вышла -- несчитая конечного результата -- очень похожая история, совсем как междуАмалией и Сортини, однако ты, хотя сначала и перепугался, теперь считаешь,что все правильно. И это не значит, что ты ко всему привык, нельзя такотупеть, чтобы ко всему привыкнуть. Производя оценку, ты простоотказываешься от прежних ошибок". "Нет, Ольга, -- сказал К. -- Не понимаю,зачем ты втягиваешь Фриду в это дело, там случай совсем другой, перестаньпутать такие разные вещи и рассказывай дальше". "Прошу тебя, -- сказалаОльга, -- не обижайся, если я буду настаивать на сравнении, ты все ещезаблуждаешься, и по отношению к Фриде тоже, когда думаешь, что надо защищатьее, не позволяя никаких сопоставлений. Да ее и защищать не приходится, еенадо хвалить. И если я сравниваю эти два случая, то вовсе не говорю, что онипохожи, они все равно что черное и белое, и белое тут -- Фрица. В худшемслучае над Фридой можно посмеяться -- я сама тогда, в пивном зале, такневоспитанно смеялась и потом об этом жалела, впрочем, тут у нас если ктосмеется, значит, злорадствует или завидует, но все же нар ней можнопосмеяться. Но Амалию -- если ты только с ней кровно не связан -- можнотолько презирать. Потому-то оба случая хоть и разные, как ты говоришь, новместе с тем они и похожи". "Нет, они не похожи, -- сказал К., недовольнопокачав головой. -- Оставь ты Фриду в покое. Фрида не получала таких милыхписулек, как Амалия от Сортини, и Фрида по-настоящему любила Кламма, а ктоне верит, пусть спросит у нее самой, она его и сейчас любит". "Да разве этобольшая разница? -- спросила Ольга. -- Неужели, по-твоему, Кламм не могнаписать Фриде такое же письмо? Когда эти господа отрываются от своихписьменных столов, они все становятся такими, им никак не приладиться кжизни, они тогда могут в рассеянности и нагрубить, правда не все, но многие.Может быть, письмо к Амалии он набрасывал рассеянно, совершенно не размышляянад тем, что выходило на бумаге. Откуда нам знать мысли господ? Разве ты самне слышал или тебе не рассказывали, каким тоном Кламм разговаривает сФридой? Всем известно, какой Кламм грубиян, говорят, что он часами молчит ивдруг скажет такую грубость, что оторопь берет. Про Сортини ничего такого неизвестно, потому что он сам никому не известен. В сущности, про него толькото и знают, что его имя похоже на имя Сордини, и, если бы не это сходство вименах, его вообще никто не знал бы. Да и как специалиста по пожарному делуего, наверно, тоже путают с Сордини, тот и есть настоящий специалист и сампользуется сходством их имен, чтобы свалить на Сортини представительскиеобязанности, а самому спокойно работать. А когда у такого неопытного вобыденной жизни человека, как Сортини, вдруг вспыхивает любовь к деревенскойдевушке, чувство, конечно, принимает иную форму, чем когда влюбляетсякакой-нибудь столяр-подмастерье. И кроме того, надо помнить, что междучиновником и дочкой сапожника -- огромная пропасть и через нее надо как-топеребросить мост, вот Сортини и пытался сделать это по-своему, другой, можетбыть, поступил бы иначе. Правда, считается, что мы все принадлежим Замку, иникакой пропасти нет, и никаких мостов строить не надо; может быть, вобычных условиях это и так, но, к сожалению, у нас была возможностьубедиться, что, когда с этим столкнешься, все обстоит иначе. Во всякомслучае, теперь тебе поведение Сортини должно стать понятнее и не казатьсятаким уж чудовищным, да это и на самом деле так; по сравнению с поведениемКламма все куда понятнее, а заинтересованному лицу перенести его гораздолегче. Если Кламм напишет самое нежное письмо, оно будет неприятней, чемсамое грубое письмо Сортини. Пойми меня правильно, ведь я не смею судить оКламме, я только их сравниваю оттого, что ты противишься всякому сравнению.Ведь Кламм -- командир над женщинами, он приказывает то одной, то другойявиться к нему, никого долго не терпит, и как приказал явиться, такприказывает и убраться. Ах, да Кламм и труда себе не даст писать письма. Инеужто по сравнению с этим тебе еще кажется чудовищным, когда такой живущийв полном уединении человек, как Сортини, чье отношение к женщинам вообщеникому не известно, вдруг садится и своим красивым чиновничьим почеркомпишет письмо, хотя и отвратительное. А если доказано, что Кламм ничуть нелучше Сортини, а, скорее, наоборот, так неужели любовь Фриды можетчто-нибудь изменить в пользу Кламма? Поверь, отношение женщин к чиновникамопределить очень трудно или, вернее, всегда очень легко. В любви тутнедостатка нет. Несчастной любви у чиновников не бывает. Поэтому ничегопохвального нет, если про девушку скажут -- и я говорю далеко не только оФриде, -- что она отдалась чиновнику только потому, что любила его. Да, онаего любила и отдалась ему, так оно и было, но хвалигь ее за это нечего. НоАмалия-то не любила Сортини, скажешь ты. Ну да, она его не любила, а можетбыть, и любила, кто разберет. Даже она сама не разберется. Как она можетрешить, любила она или нет, когда она сразу его так оттолкнула, как еще ниодного чиновника никогда не отталкивали? Варнава говорит, что ее и сейчасиногда дрожь берет, стоит ей вспомнить, как она тогда, три года назад,захлопнула окошко. И это правда, вот почему ее ни о чем нельзя спрашивать.Она покончила с Сортини и больше ничего не знает, а любит она его или нет --ей неизвестно. Но мы-то все знаем, что женщины не могут не любитьчиновников, когда те вдруг обратят на них внимание; более того, они ужелюбят чиновников заранее, хоть и пытаются отнекиваться, а ведь Сортини нетолько обратил внимание на Амалию -- он даже перепрыгнул через рукоятьнасоса ногами, онемевшими от сидения за письменным столом, он перепрыгнулчерез рукоять! Но, как ты сказал, Амалия -- исключение. Да, она этоподтвердила, когда отказалась пойти к Сортини. Уж это ли не исключение? Ноесли бы она, кроме того, и не любила Сортини, то тут исключение стало бы изряда вон выходящим, это и понять было бы невозможно. Конечно, в тот день нанас нашло какое-то затмение, но и тогда, словно в тумане, мы как будтоуглядели в Амалии какую-то влюбленность, и это показывает, что мы хотьнемного, но соображаем. И если теперь все сопоставить, какая же разницаостанется между Амалией и Фридой? Только та, что Фрида сделала то, от чегоАмалия отказалась". "Возможно, -- сказал К., -- но для меня главная разницав том, что Фрида -- моя невеста, Амалия же в основном интересует меня толькопотому, что приходится сестрой Варнаве, посыльному из Замка, и судьба ее,быть может, связана со службой Варнавы. Если бы какой-то чиновник нанес ейтакую вопиющую обиду, как мне сначала показалось по твоему рассказу, меня быэто очень затронуло, но и то больше как общественное явление, чем как личнаяобида Амалии. Но теперь, по твоему же рассказу, картина совершенноизменилась, правда не совсем для меня понятным образом. Тебе как рассказчикуя доверяю и потому охотно готов совсем пренебречь этой историей, тем болеечто я не пожарник и меня Сортини никак не касается. А вот Фрида менякасается, потому мне и странно, что ты, кому я так доверял и всегда готовдоверять, все время какими-то косвенными путями, ссылаясь на Амалию,пытаешься нападать на Фриду, вызвать во мне подозрения. Не хочу думать, чтоты это делаешь с умыслом, тем более со злым умыслом, иначе мне давноследовало бы уйти. Нет, тут у тебя никакого умысла нет, простообстоятельства тебя к этому вынуждают: из любви к Амалии ты хочешь возвыситьее, вознести над всеми женщинами, а так как для этого ты в самой Амалииничего особо похвального найти не можешь, то выручаешь себя тем, чтопринижаешь других женщин. Поступила Амалия всем на удивление, но чем большеты об этом поступке рассказываешь, тем труднее решить, значителен он илиничтожен, умен или глуп, героичен или труслив, потому что Амалия глубоко вдуше затаила причину своего поступка, никому у нее ничего не выведать. Фридаже, напротив, ничего удивительного не сделала, она только последовала зовусердца, что ясно всякому, кто подойдет к ее поступку доброжелательно, каждыйможет это проверить, сплетням тут места нет. Но я-то не желаю ни унижатьАмалию, ни защищать Фриду, я только хочу тебе разъяснить, каковы наши сФридой отношения и почему всякое нападение на Фриду, всякая угроза Фридеугрожает и моему существованию. Я прибыл сюда по доброй воле и по добройволе тут остался, но все, что произошло за это время, и особенно мои виды набудущее -- хотя они и туманны, но имеются, -- всему этому я обязан Фриде,чего и оспаривать никак нельзя. Меня, правда, приняли в качестве землемера,но все это одна видимость, со мной ведут игру, меня гонят из всех домов, сомной и сегодня ведут игру, но насколько теперь это делается обстоятельнее,видимо, я для них стал чем-то более значительным, а это уже что-то значит,теперь у меня есть хоть и невзрачный, но все же дом, служба, настоящаяработа, есть невеста, она берет на себя часть моих обязанностей, когда язанят другими делами, я на ней собираюсь жениться, стать членом общины, уменя кроме служебных отношений есть и личная, правда до сих пор неиспользованная, связь с Кламмом. Разве этого мало? А когда я прихожу к вам,кого вы приветствуете? Кому рассказываете историю своей семьи? От кого тыждешь возможности, пусть мизерной, пусть маловероятной, возможности получитькакую-нибудь помощь? Уж конечно, не от меня, того самого землемера,которого, например, еще неделю тому назад Лаземан и Брунсвик силой вынудилипокинуть их дом, нет, ты надеешься на помощь человека, который уже всостоянии что-то сделать, а этим я обязан Фриде, Фриде настолько скромной,что попробуй спроси ее, так ли это, и она наверняка скажет, что знать ничегоне знает. И все же выходит, что Фрида в своем неведении больше сделала, чемАмалия при всей своей гордости: видишь ли, мне кажется, что помощи ты ищешьдля Амалии. И у кого же? Да, в сущности, разве не у той же Фриды?" "Неужто ятак нехорошо говорила о Фриде? -- сказала Ольга. -- Я вовсе этого не хотела,думаю, что и не говорила, хотя все возможно, ведь положение у нас такое, чтомы со всем светом в раздоре, а начнешь жаловаться -- и тебя заносит богзнает куда. Конечно, ты и в этом прав, теперь между нами и Фридой огромнаяразница, и ты правильно подчеркнул это еще раз. Три года назад мы былидочками бюргера, а Фрида -- сиротой, служанкой в трактире, мы проходилимимо, даже не глядя на нее; конечно, мы вели себя слишком высокомерно, нотак нас воспитали. Однако в тот вечер, в гостинице, ты уж мог заметить,какие теперь сложились отношения: Фрида с хлыстом в руках, а я -- в толпеслуг. Но дело обстоит еще хуже. Фрида может нас презирать, это соответствуетее положению, это вызвано теперешними обстоятельствами. Но кто нас только непрезирает? Те, кто решает презирать нас, сразу попадают в высшее общество.Знаешь ли ты преемницу Фриды? Ее зовут Пепи. Только позавчера вечером я сней познакомилась, раньше она служила горничной. Так вот, она превзошлаФриду в презрении ко мне. Она увидела в окно, что я иду за пивом, побежала кдвери и заперлась на ключ, мне пришлось долго просить ее, обещать ей ленту,которой я завязываю косу, пока она наконец не открыла мне. А когда я ейотдала эту ленту, она швырнула ее в угол. Что ж, пусть презирает меня,все-таки я как-то завишу от ее хорошего отношения и она работает в буфетегостиницы, правда только временно, нет в ней тех качеств, которые нужны дляпостоянной службы. Достаточно послушать, как хозяин разговаривает с этойПепи, и сравнить, как он разговаривал с Фридой. Но это вовсе не мешает Пепипрезирать Амалию, ту Амалию, от одного взгляда которой эта самая Пепи совсеми своими косичками и бантиками вылетела бы из комнаты во сто раз скорей,чем ее могли бы унести ее толстые ноги. А какую возмутительную болтовню проАмалию мне пришлось снова выслушать от нее вчера вечером, пока посетители невступились за меня, хоть и вступились они так, как ты тогда вечером видел"."До чего ты напугана, -- сказал К. -- Ведь я только поставил Фриду наподобающее ей место, но вовсе не собирался вас принижать, как ты себепредставляешь. Конечно, и я чувствую в вашей семье что-то необычное, нопочему это может стать поводом к презрению -- я не понимаю". "Ах, К., --сказала Ольга, -- боюсь, что ты еще поймешь почему. Неужели тебе никак непонятно, что поступок Амалии был причиной того, что все стали презиратьнас?" "Это было бы слишком странно, -- сказал К. -- Можно восхищатьсяАмалией или осуждать ее, но презирать? А если даже по непонятным мнепричинам Амалию действительно презирают, то почему же это презрениераспространяется на всех вас, на вашу ни в чем не повинную семью? То, чтотебя, например, презирает Пепи, -- просто безобразие, и, если я когда-нибудьпопаду в ту гостиницу, я ее проучу!" "Нелегкая была бы у тебя работа, К., --сказала Ольга, -- если бы ты взялся переубеждать всех, кто нас презирает,ведь все исходит из Замка. Мне хорошо помнится утро следующего дня. Брунсвик-- он тогда был у нас подмастерьем -- пришел, как всегда, отец выдал емуработу и отправил его домой, и все сели завтракать, мы с Амалией тоже, намбыло весело, отец, не умолкая, рассказывал о празднике, у него были всякиепланы насчет пожарной дружины, ведь в Замке своя пожарная дружина, ониприслали на этот праздник и свою команду, с ними вели всякие переговоры, агоспода, присутствовавшие там, видели учения нашей команды и очень лестноотозвались о ней, сравнивали с выступлением команды из Замка, и сравнениебыло в нашу пользу, начался разговор о реорганизации команды из Замка, импонадобились бы инструкторы из Деревни, тут речь пошла о нескольких людях,но отец понадеялся, что выбор падет на него. Об этом он и рассказывал, и посвоей добродушной привычке -- рассиживаться за столом -- он сидел, раскинувруки, обхватив стол за всю ширь, и, когда он подымал глаза к окну и смотрелв небо, лицо у него было такое молодое, такое радостное и полное надежды,каким мне с тех пор уже не суждено было видеть его. И тут Амалия снепривычной для нее сосредоточенностью сказала, что господским речамособенно доверять не стоит, в подобных обстоятельствах господа любятговорить что-нибудь приятное, но все это имеет мало значения или вовсеничего не значит, они только скажут и тут же забудут навсегда, правда, вследующий раз можно попасться на эту же приманку. Мать запретила ей такиеразговоры, отец посмеялся над ее скороспелыми мудрствованиями, но вдругзапнулся, казалось, он что-то ищет, словно вдруг чего-то хватился, но тут жевспомнил: Брунсвик ему рассказывал про какого-то посыльного, про какое-торазорванное письмо, и отец спросил, знаем ли мы об этом, и кого этокасается, и что произошло. Мы промолчали. Варнава -- он тогда был проказлив,как молодой барашек, -- сказал что-то совершенно глупое или дерзкое, мызаговорили о другом, и все позабылось".