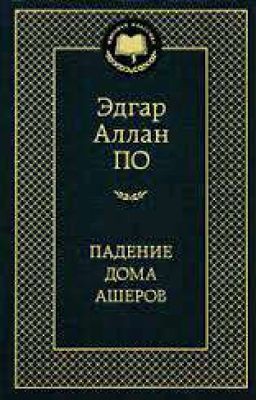***
Наблюдая эти особенности, я подъезжал по короткому шоссе к дому. Слуга, поджидавший меня, взял мою лошадь, и я вошел в замок, с его готическими сводами. Отсюда безмолвный лакей, неслышно ступая, повел меня через темные и запутанные переходы в студию своего хозяина. Многое из того, что я видал на стенах, усиливало, не знаю каким образом, смутное чувство, о котором я уже говорил. Все, что окружало меня: резьба на потолках, темная стенная обивка, эбеновые мрачные полы и бряцание фантасмагорических боевых трофеев, сотрясавшихся от моих быстрых шагов - все это или нечто подобное этому было для меня обычным еще с детства, и я без колебаний увидал, что все это знакомо - и все же дивился, чувствуя, какие незнакомые, неведомые грезы возникают во мне при виде этих обыкновенных предметов. На одной из лестниц я встретил домашнего врача. Его лицо, как показалось мне, имело смешанное выражение низкого коварства и смущения. Он первый поспешно подошел ко мне и, поздоровавшись, тотчас же скрылся. Лакей отворил дверь и ввел меня к своему господину.
Комната, в которой я очутился теперь, была очень просторна и высока. Длинные и узкие, остроконечные окна находились на таком большом расстоянии от черного дубового пола, что были совершенно недоступны изнутри. Слабые красноватые лучи, проходя через оконные стекла, защищенные решеткой, проливали достаточно света, чтобы сделать явственным наиболее рельефные предметы; но глаз тщетно пытался достичь отдаленных углов комнаты или углублений потолка, украшенного резьбой и раскинувшегося сводами. Тяжелые драпировки висели на стенах. Вся обстановка старинная и изношенная, отличалась чрезмерностью и отсутствием комфорта. Повсюду кругом были разбросаны книги и музыкальные инструменты, но они не могли хотя сколько-нибудь оживить картину. Я чувствовал, что дышу атмосферой скорби. Все было окутано, надо всем нависло что-то суровое, глубоко печальное и безутешное.
При моем входе Эшер встал с дивана, на котором он лежал во всю длину, и приветствовал меня с живой сердечностью. В первую минуту мне показалось, что в этой живости было много деланной приветливости - вынужденных усилий светского ennui. Но одного взгляда на его лицо было для меня достаточно, чтобы убедиться в полной его искренности. Мы сели; и в течение нескольких мгновений, пока он молчал, я глядел на него со смешанным чувством сострадания и страха. Никогда ни один человек не изменялся так страшно и в такое короткое время! Я не узнавал Родрига Эшер, я не мог поверить, что бледное существо, находившееся передо мной, и товарищ моего детства - один и тот же человек. Однако, лицо его по-прежнему было замечательно. Мертвенная бледность; большие глаза, чистые и необычайно блестящие; губы несколько тонкие и очень бледные, но изогнутые удивительно красиво; изящный нос, с еврейскими очертаниями, но с широтой ноздрей необычной для подобной формы; очаровательный подбородок, мало выдающийся вперед и этим говорящий о недостатке нравственной энергии; волосы нежней и тоньше, чем паутина, - все эти черты, в соединении с необыкновенным развитием лба, придавали его лицу выражение, которое нелегко забыть. Теперь же в самом преувеличении характерных перемен было что-то, что я сомневался, кого я вижу перед собой. Призрачная бледность кожи и чудесный блеск глаз больше всего поражали и даже пугали меня. Кроме того, шелковистые волосы росли теперь в полном беспорядке, и, как тысячи тех паутинок, что летают в воздухе, они не падали, а скорее развевались вокруг лица, - в них было нечто, напоминающее арабески и чуждое простому представлению о человеческом существе.
Я был сразу поражен бессвязностью, непоследовательностью в манерах моего друга; как я скоро заметил, это происходило от постоянных и бесплодных усилий побороть крайне нервное возбуждение, сделавшееся у него обычным. Я ожидал чего-нибудь подобного, я был подготовлен к этому с одной стороны письмом, с другой - воспоминанием об известных чертах из детства и заключениями, выведенными из особенностей его темперамента. Все его движения были попеременно то живыми, то ленивыми. Его голос быстро менялся, переходя от трепета нерешительности (когда силы как будто совсем покидали его) к той особенной энергической сжатости, к тем обрывистым, тяжелым и глухим звукам, к тому гортанному, прекрасно-размеренному и модулированному говору, который можно наблюдать только у неисправимого пьяницы или у закоренелого потребителя опиума, в период наиболее сильного возбуждения.
Именно таким голосом говорил Эшер о цели моего приезда, о своем настойчивом желании видеть меня, об облегчении, которого он от меня ожидал. Подробно, и даже несколько длинно, распространился он относительно того, что он считал истинной природой своей болезни. Это, говорил он, зло фамильное и зависящее от телосложения, он отчаялся найти какое-нибудь средство излечения - это просто нервное возбуждение, прибавил он тотчас же, и, конечно, оно скоро пройдет. Болезнь проявлялась в целом ряде ненормальных ощущений. Некоторые из них заинтересовали меня в его описании и поставили меня в тупик, хотя, быть может, при этом действовали также самые выражения, его манера рассказывать. Эшер очень страдал от болезненной остроты ощущений; он мог выносить только самую неприхотливую пищу; он мог носить платье только из известных тканей; запах каких бы то ни было цветов обременял его; глаза его страдали от самого слабого света; и только некоторые звуки, именно звуки струнных инструментов, не внушали ему ужаса.
Я увидел, что Эшер сделался рабом страха, совершенно ненормального. "Я погибну, - говорил он, - я должен погибнуть от этого жалкого безумия. Так, именно так, а не иначе, суждено мне погибнуть. Я боюсь будущего, не ради его самого, но ради того, что за ним последует. Я дрожу при мысли о каком-нибудь, даже самом обыкновенном, случае, который может оказать свое действие на это невыносимое душевное возбуждение. Не самой опасности я боюсь, а ее неизбежного спутника - страха. Находясь в этом безнадежном, в этом жалком состоянии, я чувствую, что рано или поздно настанет период, когда я должен буду расстаться сразу и с жизнью, и с рассудком, в какой-то борьбе против свирепого призрака, чье имя - страх".
Кроме того, по некоторым отрывистым и неясным намекам, я познакомился еще и с другими оригинальными чертами душевного состояния, которое переживал Эшер. Он был совершенно порабощен какими-то суеверными ощущениями; они были связаны с домом, где он жил и откуда уже много лет не решался выйти, они были связаны с влиянием, о предполагаемой силе которого он говорил в выраже- ниях слишком смутных, чтобы их восстанавливать здесь; он говорил, что своим материальным составом и самой формой семейный дом, точно тяжким бременем, налег на его душу, что элементы физические, эти седые стены и домовые башни, и темный пруд, куда они гляделись, наложили свою властную печать на его моральное существование.
Он допускал, однако, хотя и после некоторого колебания, что необыкновенная тоска, угнетавшая его, в значительной степени могла проистекать из причины более естественной и гораздо более ощутительной, он разумел тяжелую и давнишнюю болезнь, больше того, очевидную, уже грядущую, смерть его нежно-любимой сестры, его единственного товарища за эти долгие годы, единственного и последнего человека на земле, с которым он был связан кровными узами. "После ее смерти, - проговорил он с таким горьким выражением, что я до сих пор его вижу, - я, больной и лишенный каких бы то ни было надежд, останусь последним отпрыском древнего рода Эшер". В то время как он говорил это, леди Мадэлин (так называлась она) бесшумно прошла через отдаленную часть комнаты и, не заметив моего присутствия, исчезла. Я глядел на нее с чувством крайнего изумления, нечуждым ужаса, - ощущение, которое я до сих пор напрасно стараюсь объяснить себе. В состоянии полного оцепенения следил я за ее удаляющимися шагами. Когда же дверь, наконец, закрылась, я с инстинктивным любопытством взглянул на ее брата, но он закрыл лицо руками, и я мог только заметить, что бледность, бледность необыкновенная, распространилась по его исхудавшим пальцам, через которые брызнули горькие слезы.