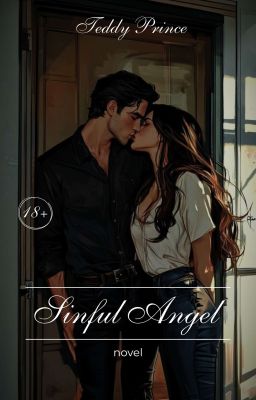Глава 8
Асхат
(Тот, кто когда-то любил Айсулу)
Я сидел на старой уличной скамейке у ворот, глядя на раскинувшийся передо мной зимний простор. Мир вокруг будто замер - тихий, как дыхание в предрассветной тьме. Белые хлопья снега медленно кружились в воздухе, ложась мягким покрывалом на землю. Вдали виднелись конюшни, за ними - мой ипподром. Слева паслись кони, их тёплое дыхание поднималось в морозном воздухе лёгкими облачками. Запах свежего сена и сухой соломы смешивался с чистым зимним морозцем - запах, от которого сразу становилось спокойно.
На коленях лежал потрёпанный временем фотоальбом с выцветшими от лет страницами. Пальцы, огрубевшие от работы и холода, бережно держали фотографию. Она была сделана почти сорок лет назад, и стоило взглянуть на неё - словно двери прошлого сами распахивались.
На снимке - я, молодой, крепкий, с сияющими глазами, в которых тогда ещё жила наивная уверенность, что впереди всё только самое светлое. Рядом - она. Айсулу. Улыбка, будто солнце, и глаза, в которых всегда плескалось что-то тёплое, притягательное, как весенний ручей. Кудрявые волосы заплетены в длинную косу, выбившиеся пряди мягко обрамляют лицо. На ней бежевое штапельное платье, лёгкое, как сама она в тот день.
Фотографировал нас Тимур - мой друг, почти брат. Мы вместе учились в академии на художественном факультете. Молодые, амбициозные, мы мечтали покорить мир своими картинами. Айсулу тогда училась в консерватории. Ахметова Айсулу. Теперь - Аскарова. Моя первая любовь. И, как ни странно, мать девушки, которая, возможно, станет моей невесткой.
Последнее сообщение от Димаша, моего сына, пробудило во мне всё это. Слова, которые он написал, были простыми, но в них я уловил что-то такое, что заставило сердце сжаться и руку потянуться к альбому. Я понял: история повторяется.
Я помню каждый момент, связанный с ней. Помню, как впервые увидел её на сцене. Она стояла в центре зала, под светом прожектора, и пела. Голос - чистый, прозрачный, будто колокольчик в тишине. Казалось, он обволакивает и уносит куда-то далеко, туда, где всё просто и чисто. Все парни тогда были влюблены в неё. Но для меня она была не просто красивой девушкой с чарующим голосом. Она была вдохновением. Моей музой. Моей Айсулу.
Сакен ухаживал за ней уже тогда - уверенно, открыто, без тени сомнения в собственных силах. Семья Аскаровых принадлежала к так называемому «высшему обществу» - по крайней мере, они сами любили так о себе думать и постоянно напоминали об этом окружающим. Сакен был из тех, кто умел блистать в компании: дорогие костюмы, ухоженные руки, уверенная походка. Его отец держал серьёзный бизнес, мать занималась благотворительностью для «избранных», - в их кругу всё всегда должно было выглядеть безупречно.
Я же... На фоне Сакена я был тенью. Обычный парень, художник, сын простой семьи, в чьей жизни не было ни блеска, ни связей. В девяностые годы не хватало всего: продуктов, денег, даже элементарного тепла зимой. Мы многим жертвовали, чтобы просто выжить. Отец тогда работал на заводе, пока однажды его не выгнали. Ирония судьбы - директором был отец близкого друга Сакена, Айтуара.
Айтуар Аманов... Он был ещё тем наглецом, самодовольным и беспардонным, каким и вырос благодаря отцу. Тот, в свою очередь, не моргнув глазом, просто вышвырнул моего отца с работы. Ни сожаления, ни объяснений - лишь холодный приказ и презрительный взгляд.
Но мой отец не из тех, кто сдаётся. Он только крепче сжал зубы и сказал, что вернётся к корням. Мы уехали за город, и он снова занялся скотом, конями, которыми умел заниматься с детства. Мама же была обычной учительницей русского языка, работала в простой сельской школе, за что её уважали в ауле, но... уважение не приносило денег.
Я понимал, что не могу тягаться с окружением Айсулу. Её родители уже тогда владели бизнесом, она носила модные платья, которых я даже не видел в магазинах, и была частью того самого блестящего мира, где ходили Сакен и Айтуар. Но это не мешало мне любить её.
Любил тихо, без надежды, но с какой-то упрямой преданностью. Я часто рисовал её портреты. Делал это по вечерам, при свете настольной лампы, чтобы штрихи ложились мягко, будто боялся испортить черты, которые казались мне совершенством. А потом - незаметно, осторожно - подкладывал эти рисунки в её портфель, пока никто не видел.
Помню один такой момент особенно ясно. Весна, консерватория, шум в коридоре. Она достала тетради, а между ними оказался мой листок. Я стоял вдалеке, делая вид, что просто жду пары. Айсулу развернула рисунок, задержала взгляд, и на её лице появилась та самая широкая, настоящая улыбка - без тени высокомерия, просто тёплая, почти девчоночья. Она смеялась глазами, но даже не подозревала, кто её рисует.
И, может, в этом была моя единственная победа над Сакеном. Он мог дарить ей цветы и дорогие безделушки, но только я видел её так - на бумаге, в тишине, когда она не играла ни для кого, а просто была собой.
Я долго думал, каким должен быть наш первый разговор. Репетировал фразы, которые звучали убедительно ночью и распадались на буквы при свете дня. Но жизнь, как всегда, сама придумала лучший сценарий.
Стояла ранняя весна. Та, когда снег уже ушёл в землю, а запах сырой коры и талой воды висит в воздухе гуще любой музыки. Я пришёл к консерватории заранее - задолго до её занятий. Во дворе, под старой липой, мокрая скамейка оставляла на джинсах тёмные полосы, но мне было всё равно. На коленях - альбом с бумагой, на пальцах - тёплый сигнальный блеск графита. Я рисовал фасад: колонны, потерявшие былой глянец, ступени с ломаным краем, чёрные от времени перила, - мне нравилось, как эта строгость держит в объятиях тонкие голоса внутри.
У входа хлопнула дверь, и она вышла. Без пафоса, без свиты. В пальто цвета молочного кофе, с платком, небрежно завязанным на шее, в мягких кожаных ботинках. Волосы - собранные в косу, но несколько прядей выбились и легли на щёки строчками какого-то неизвестного мне стихотворения. В руке - папка с нотами, уголок чуть надорван. Она шла быстро, но не нервно, - так ходят люди, у которых есть план и голос, которому нужно пространство.
Я поднялся. Сердце - в горле. Ноги - как будто набитые мокрым песком. Хотел поздороваться, а сказал:
- У вас... у вас лист выпал.
Это был не лист. Это был мой рисунок. Один из тех, что я днём подкладывал ей в портфель - портрет в три четверти, с внимательными глазами и едва намеченной улыбкой. Видно, зацепился за край папки и выскользнул. Она остановилась, обернулась и посмотрела на меня - впервые не просто сквозь, а в самое сердце. Не удивлённо и не настороженно - с интересом, будто в музее, когда подходишь к холсту ближе, чем принято.
- Ваш? - спросила она, наклоняясь и поднимая лист с влажной брусчатки двумя пальцами - бережно, как берут тонкий фарфор.
- Мой, - сказал я и только тут понял, насколько глупо это прозвучало. - В смысле... я рисовал. Иногда.
- «Иногда» у вас выходит очень убедительно, - она улыбнулась. - Вы учитесь на худграфе?
- Академия. Живописное отделение. Третий курс, - отчего-то мне захотелось стать ровнее, будто так мои слова прозвучат весомее. - Асхат.
- Айсулу, - представилась она, хотя мы оба знали друг друга по фамилиям, по слухам, по чужим пересудам в коридорах. - Спасибо. Это... неожиданно.
Я пожал плечами, чтоб спрятать дрожь в руках:
- Я думал... музыка любит, когда её рисуют. Чтобы она не улетела сразу. На бумаге ей спокойней.
- Музыка любит, когда её слушают, - мягко возразила она. - Но иногда ей действительно хочется... остаться. Хоть на секунду.
Мы стояли нелепо близко, а вокруг мир делал вид, что занят своим: дворник скреб лопатой остатки льда у люка, кто-то спешил через двор с футляром, на балконе второго этажа ветер перелистывал забытый журнал. Я видел на её пальцах тонкие белые следы от струн скрипки - значит, она не только пела, но и играла. Эта деталь почему-то окрылила: в этом было трудолюбие, не только дар.
- Можно я... - я показал на альбом. - Несколько минут. Вы так стоите - свет хорошо ложится. Я быстро.
- Здесь? На ветру? - она чуть приподняла бровь, но не с иронией, а с вызовом. - Давайте. Только пять минут. У меня через десять сольфеджио.
Я сел обратно, скрестил ноги, прижал альбом к колену. Рука нашла линию скул, затем шею, затем мягкую тень под нижней губой. Она стояла, не двигаясь, опираясь на край перил. Из консерватории донёсся чей-то неверный пассаж, окно захлопнулось, и тишина опять стала просторной.
- Вы всегда рисуете так, будто пишете письмо? - вдруг тихо спросила она.
- Похоже. Я... не очень умею говорить.
- Значит, будем читать, - ответила она так просто, что я впервые за много лет перестал бояться собственного голоса.
Счёт времени в голове споткнулся - «пять минут» превратились в семь, может, девять. Я остановился ровно на том месте, где страх испортить сильнее желания продолжать. Потянул лист, сдул графитную пыль.
- Это черновик, - оговорился я прежде, чем она успела посмотреть. - Но мне важно было... сегодня. Не откладывать.
- И правильно, - она взяла рисунок и долго не говорила. Долго - это секунд десять. Но за это время я успел прожить маленькую жизнь, где она смеётся, где она плачет, где отдаёт лист кому-то другому. - Можно я оставлю? - спросила, наконец. - Если вы не против.
- Для этого и рисовал.
Она аккуратно положила портрет в свою папку - отдельно от нот, как будто боялась смять. И вдруг совсем буднично:
- Чай будете? У нас буфет отвратительный, но кипяток честный. Успеем до моего занятия.
В буфете пахло липким сиропом, вчерашними пирожками и мятой, будто сонная медсестра дежурила по вечерам с термосом. Мы взяли по стакану - в гранёном стекле, с подстаканниками, как в поезде. Сели у окна. На стекле - тонкие разводы, через которые двор казался акварелью.
- Вы из города? - спросила она.
- Почти. Отец увёз нас за черту. Лошади, коровы, огород. Я туда возвращаюсь по выходным. Чищу седло, крашу забор, ловлю себя на том, что цвет ржавчины помню лучше, чем расписание автобуса.
Она улыбнулась:
- Цвет ржавчины - это хорошо. Его многие недооценивают.
- А вы? - спросил я. - Вы всегда знали, что будете петь?
- Нет, - она покачала головой. - Сначала я знала, что мне нравится тишина после снега. Потом - как звучит метроном. Потом - как голос, если его не трогать страхом, может держать ноту дольше, чем ты думаешь. Я однажды заплакала на сцене - не от слабости, от узнавания. И решила - буду там, где так можно.
Мы говорили просто - без имен «важных» людей, без фамилий «нужных» дирижёров. Мне было легко. Я рассказал про отца - как его уволили, как он не опустил глаза, как по вечерам сидел на крыльце и молча правил удила. Она слушала, не перебивая, только иногда кивала; у неё была редкая улыбка - не натянутая, а живая, как будто появляется изнутри, когда что-то попадает точно в сердце.
И тут мир напомнил о себе. В буфет вошёл Сакен - в дорогом пальто, с лёгким запахом чужой воды после бритья, с тем самым выражением лица, которое я бы называл «он здесь хозяин, даже если пришёл впервые». За ним тенью скользнул Айтуар. Они заметили нас сразу. Сакен не подошёл - слишком гордый для того, чтобы подойти первым. Он встал у стойки и громко, чтобы мы слышали, сказал буфетчице:
- Кофе. И воды без газа. Бутылку нормальную, не то, что вы обычно подаете.
Айтуар, не скрываясь, скользнул взглядом по нашему столу, остановившись на моих руках - всё ещё в серой пыли от карандаша, на её папке, из которой выглядывал уголок моего листа.
- Асха-а-ат, - протянул он так, будто мы близкие друзья. - С новыми знакомствами?
Я встал. Не потому что испугался - потому что так меня научил отец: поднимайся, когда с тобой хотят разговаривать. Айсулу тоже встала, но положила ладонь на моё предплечье - легчайшее касание, едва ощутимое, но оно меня удержало.
- Мы пьём чай, - сказала она ровно. - И не нуждаемся в компании.
Сакен на секунду приподнял брови - не ожидал, что она скажет мы. Он подошёл на полшага ближе, и в его улыбке промелькнуло что-то железное.
- Айсулу, тебя ждёт занятие, - произнёс безупречно вежливо. И добавил, уже повернувшись ко мне: - А вам, молодой человек, пора на свой... как там у вас... пленэр?
- Мне - туда, где меня ждут, - ответил я, удивившись собственной ясности. - Как и вам.
Он ничего не сказал. Только посмотрел так, будто ставил на мне крест. Айтуар хмыкнул. Они ушли, унося с собой запах свежего кофе и зимнего презрения. Мы сели обратно. Я вдохнул - и только тогда понял, что всё это время задерживал дыхание.
- Извини, - сказала она вдруг. - Не люблю подобные спектакли.
- Но ты спела хорошо, - улыбнулся я. - Даже без оркестра.
Она рассмеялась - тихо, коротко. Потом посмотрела на часы:
- Мне правда пора. Спасибо за чай. И за то, что «не откладывал».
Она протянула мне руку - сухую, тёплую. Я коснулся её, и на секунду мне показалось, что эта весна наконец-то сделала вдох. Она ушла лёгкой походкой, а я остался сидеть со своим стаканом, в котором неожиданно стало пусто. Снаружи снова пошёл редкий снег - тот, который падает крупными мокрыми хлопьями и тает сразу, едва касаясь земли.
Вскоре всё завертелось: учёба, работа по выходным, подработка вывесками в городе. Но тот разговор стал для меня опорной точкой, к которой возвращаешься, когда темно. Я понял простую вещь: между её миром и моим есть тропинка - узкая, но настоящая. По ней нельзя бежать, нельзя толкаться; по ней можно только идти - и смотреть, как медленно, но верно меняется свет.
Несколько месяцев подряд наша близость с Айсулу распускалась неторопливо, как тугая роза: лепесток за лепестком, без спешки и лишних слов. Алматы в те дни дышала юностью - влажные вечера после внезапных дождей, запах нагретого камня, тополиный пух, что летел над аллеями ровно настолько, чтобы казаться снегом в июне. Мы шли по паркам, сидели на шершавых деревянных лавках, делили вафельный стаканчик дешёвого пломбира, и я - студент художественной академии, мальчишка в выцветшей рубашке - не мог поверить, что эта девочка из их «высшего света» слушает меня, на минуту забыв о своих хрустящих манжетах и семейных салонах.
Её смех был лёгким, без оборотней и задних мыслей; иногда он звенел так чисто, что хотелось запомнить тембр - записать как этюд. Я любил, как она поправляла волосы, как наклоняла голову, вглядываясь в мои наброски; любил, как в её глазах разгоралась осторожная искра, когда мы спорили - о Малевиче, о Брамсе, о том, есть ли у таланта долг.
Мне казалось, что мир наконец-то выбирает меня. Что всё складывается - впервые и по-настоящему.
А потом всё кончилось одним ударом, как лезвием по натянутому холсту.
Вечером в мастерскую вбежал Тимур - тот самый, с которым мы делили общежитскую комнату и стипендию, краску и стихи. Он переводил дыхание, держась за косяк, и не сразу нашёлся, с чего начать. Запах скипидара и мокрой бумаги щипал глаза.
- Асхат... у меня есть для тебя новость, - сказал он наконец. - Сакен сделал ей предложение. Сватовство уже было. Они всё давно решили.
Звук его голоса ушёл куда-то вглубь, как будто кто-то прикрутил ручку громкости. Щёлкнули батареи, за окном вяло проползла электричка - и ничего не имело значения. Я стоял и смотрел на собственные руки, испачканные кобальтом и охрой, понимая только одно: меня не предупредили. Не посчитали нужным рассказать. И всё то, что я называл нашей общей будущностью, оказывается, было моим одиночным сном.
Я попробовал бороться с реальностью так, как умеют мальчишки: на следующий день подстерёг её у бокового входа в консерваторию. Деревянные ступени, натёртые до янтарного блеска, пахли лаком и пылью. Она спустилась быстро, лёгкой почти неслышной походкой, и когда я назвал её по имени, вздрогнула, но не остановилась.
- Айсулу, подожди... Скажи просто: это правда? - я осторожно коснулся её локтя.
Она высвободилась - не резко, но твёрдо, не глядя в глаза:
- Так сложились обстоятельства, Асхат.
Через два дня я поймал её в коридоре между аудиториями, где от стен возвращалось эхо чужих гамм. Она подняла взгляд - печально и устало, будто после долгой болезни.
- Мне не разрешает отец.
А ещё через неделю, уже у калитки, когда вечерний ветер щекотал косу и выдувал из неё тонкие пряди, прозвучало последнее, холодное:
- Сакен будет против.
С каждой встречей её слова становились каменнее, а в голосе появлялась чужая, выученная взрослость. Словно кто-то, сильнее нас обоих, расставил шахматные фигуры и объявил партию сыгранной, не спрашивая моего согласия. И я сразу, почти физически, ощутил всю толщу того невидимого стекла, что всегда стояло между её миром и моим: их выправленные костюмы и лакированные кабинеты, наши картошка в мундире и отцовская оглобля; их «семейный круг», наш - из тесной кухни, где мать учила меня склонять «любовь» по падежам, а не по интересам.
Я бродил по городу, как по незнакомой квартире в темноте, ударяясь о углы воспоминаний. Этажерка в читальном зале, где мы прятались от дождя; нескладный чай в столовой, который она мужественно называла «терпимым»; её ладонь, легшая на переплёт старой книги - и моё желание нарисовать этот жест. Дома я садился за стол и снова рисовал её - до судорог в пальцах, до серой рассветной тени под глазами. Бумага впитывала боль, но не лечила.
Тимур пытался меня отвлечь, таскал на грубые мужские разговоры, на студенческие этюды натуры, где все запахи - пот, табак, дешёвая пудра - смешивались в один терпкий воздух прожитой молодости. Я кивал, делал вид, что улыбаюсь, и возвращался туда, где в альбомах лежали её лица - множащиеся, как зеркала в зеркалах.
В ту осень я впервые понял простую и страшную вещь: любовь - это не только музыка, но и протокол; не только ария, но и бухгалтерия домов; не только выбор двоих, но и воля людей, которые никогда не выйдут с тобой на сцену, но всегда назначат, когда зажгут рампу. Я был слишком юн, чтобы мириться, и слишком горд, чтобы просить. А ещё - слишком беден, чтобы быть услышанным там, где слышат только звон собственных бокалов.
Когда я, нажав в ладони мелкую монету, купил ей в последний раз цветы у перехода - неказистый букетик астр, - она не взяла. Лишь чуть заметно покачала головой и прошептала: «Не усложняй, прошу». И пошла, не обернувшись.
Я остался стоять с этими смешными астрами, словно с доказательством собственной неуклюжести. Вернулся домой пешком, через весь город, чтобы не слышать голоса в троллейбусе и не видеть чужих отражений. Долго сидел на кухне, слушая, как в раковине тонко капает вода. Отец вошёл, промолчал, положил мне ладонь на плечо - мы в нашей семье умели лечить молчанием. А я думал одно: если когда-нибудь у меня будет сын, я научу его держаться за своё - не кулаками, а выбором. И не отпускать ту, что отвечает тебе не смехом, а взглядом.
Но тогда я был только мальчиком с краской под ногтями - и пустыми руками. И город впервые показался мне чужим.
«Как бы ни складывался сюжет нашей жизни, какие бы преграды ни возникали на пути… Как бы нас ни сбивали с толку, лишая веры и надежды, — никогда нельзя позволять себе пасть в отчаяние». Так часто повторял мне отец. Его слова звучали во мне эхом, когда я, собравшись с силами, сделал шаг вперёд.
Как бы сильно я ни любил Айсулу, сильнее всего мне хотелось одного — чтобы она была счастлива и жила без лишних проблем, без боли и разрыва с семьёй. Она вышла замуж за Сакена, и вскоре, окончив консерваторию, они уехали в совершенно другой город. С тех пор Айсулу исчезла из моей жизни. Она не писала, не искала встреч, и мы больше никогда не разговаривали. Все новости о ней я узнавал лишь через случайные разговоры, от общих знакомых, как будто собирал разрозненные осколки из чужих уст. Наверное, так и должно было быть. Так было проще для неё… и, возможно, даже для меня.
Мне пришлось вычеркнуть её из своего сердца, оставить прошлое в прошлом, забыть всё, что нас когда-то связывало. И тогда жизнь сама повела меня дальше. Я встретил Адему. Сначала робко, словно с опаской, а потом — с таким теплом, что в душе расцвела новая весна.
Через пару лет у нас родился сын, и я впервые почувствовал, что такое настоящее счастье. Адема была совсем иной женщиной, не похожей на Айсулу. В ней не было утончённой женственности, но было то, что я ценил гораздо больше — живость, задор и искренность. Она смеялась так звонко, что её смех заражал всех вокруг. Она могла быть неуклюжей — уронить мамин любимый сервиз, опрокинуть на отца кружку с горячим чаем, — и в ту же секунду смотреть на всех виновато, с глазами полными смущения и жалости. Но никто никогда не сердился на неё. Напротив — её любили за честность, за открытое сердце, за ту редкую преданность, которая держала нашу семью крепкой, как корни дерева в земле.
Когда родился Димаш, мы были ещё слишком молоды и не знали, что значит быть родителями. Мы учились этому шаг за шагом, спотыкаясь, ошибаясь, но всегда — вместе. Моя мать тогда стала для нас поддержкой, помогая, подсказывая, оберегая. А мы учились у неё. И несмотря на все трудности, мы справлялись.
Сейчас я закрываю альбом, кладу его на столик рядом и снова отвожу взгляд к окну. Снег падает мягкими хлопьями, укутывая землю в белое одеяло. Я смотрю на это безмолвное чудо и чувствую в душе необыкновенное тепло. Жаркое, согревающее — словно внутри горит огонёк, который нельзя погасить.
Да, прошлое остаётся с нами, как старая тетрадь с выцветшими страницами. Его невозможно переписать, но можно бережно хранить в памяти — как часть того, что сделало нас такими, какими мы есть сегодня.