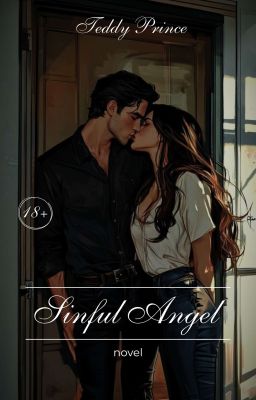Пролог
Айым
Говорят, любовь живёт недолго. Что она, как пламя — вспыхивает ярко, выжигает всё внутри, а потом гаснет, оставляя после себя только пепел. Мол, невозможно годами любить одного человека — это противоречит природе человеческого сердца. Но моё, похоже, не знает таких правил.
Может быть, я просто родилась с изъяном. Слишком чувствительная. Слишком верная. Слишком настоящая.
Или, наоборот, с проклятием — любить так, как будто ты дышишь этим человеком, как будто он не рядом, а внутри тебя, под кожей, в крови.
Жизнь — странная, пугающая и прекрасная вещь. Она умеет обнимать, а потом душить. Дарить и тут же забирать. Ласково целовать утром и швырять об стену ночью. Я не обвиняю её. Я с ней в сговоре. Мы давно играем в эту игру — кто кого передумает, кто кого переживёт.
Сейчас я сижу на парапете одного из высотных зданий Алматы. Снизу город дышит огнями и шумами, а тут, наверху — почти тишина. Ветер треплет волосы, сигарета почти догорела, и мне только что исполнилось тридцать.
Тридцать. Странное число. Ты вроде ещё молода, но уже уставшая. Уже что-то знаешь, но всё ещё не понимаешь главного. Это возраст, когда ты уже поняла, что принцы не существуют, а если и существуют — они или женаты, или мёртвы внутри. И самое страшное — ты всё ещё способна надеяться.
Пять лет назад я развелась. Просто ушла. Без криков, без громких скандалов. Как уходят те, кто очень долго молчал. Мой муж… Алан… был тем, кто снаружи казался совершенным. Молодой дипломат, умный, уважаемый, с безупречными манерами и ровной спиной. Его называли перспективным. Я — его тенью. Женой, которая должна была восхищаться, ждать и не мешать.
Я любила его. По-настоящему. Словно он был моим продолжением. Его запах, его голос, даже его молчание — я вбирала всё. Мне казалось, что в его глазах я есть, я значу, я важна. Но, кажется, я ошиблась. Или он просто не был создан для любви.
Первое время было красиво. Мы не устраивали пышную свадьбу — он был занят, дипломатия не про сентименты. Но мне хватало его ладони в моей, его шепота на другом конце мира, когда мы говорили из разных стран. Секс был страстным, разговоры глубокими, планы — смелыми. Мы мечтали о доме с панорамными окнами, о детях с его глазами и моими ресницами. Мы верили, что любовь — это достаточно. А потом всё треснуло.
Я не помню точно, когда начались эти трещины. Не было грозы, не было предупреждения. Просто однажды он стал возвращаться домой молча. Его взгляд стал стеклянным, холодным. В теле его будто поселился кто-то другой. И я чувствовала — я теряю его. Но ничего не могла с этим сделать.
А потом... та ночь. Глубокая, беззвёздная. Он вошёл, весь сжатый, будто что-то грызло его изнутри. Я, как всегда, подошла, обняла. И попыталась спросить — что случилось? В ответ — летящая в меня тяжёлая шкатулка. Потом — удар. А затем... тишина. Не та, что в воздухе. Та, что внутри.
Я не знаю, как долго она длилась. Может, секунды. Может, вечность. Когда я открыла глаза, не было ни света, ни звуков. Только боль. Боль, которая расползалась по телу, как яд, тягучий и хищный. Голова раскалывалась. Всё плыло. Мир был где-то за стеклом, тусклый, чужой.
Я лежала у подножия лестницы. Каменные ступени давили на спину, пол подо мной был холодным, как могила. Я не сразу поняла, что именно болит. Всё болело. Каждая клеточка. Но потом пришло осознание.
Живот.
Моё сердце оборвалось в один страшный момент, когда я коснулась живота и не почувствовала ничего. Ни движения. Ни трепета. Ни жизни.
Четыре месяца. Шестнадцать недель. Маленькое сердце. Маленькие пальчики. Наш ребёнок.
Наш — с тем, кто только что в порыве злости столкнул меня вниз.
Я закричала. Тихо. Протяжно. Как животное, которое знает, что умирает. Но даже тогда… он не подошёл. Он просто смотрел сверху, как будто я была помехой. Как будто внутри меня не было ничего, кроме бесполезной плоти. Ни ребёнка. Ни души.
До этого было много ударов. Они не начались внезапно — они росли, как опухоль. Сначала — короткие вспышки ярости, потом — оправдания, потом — молчание. Он говорил, что я виновата сама. Что я вызываю. Что я смотрю на других слишком открыто. Что кто-то слишком долго задержал на мне взгляд. Что я слишком мягкая, слишком громкая, слишком… живая.
Каждый раз я надеялась, что это в последний раз. Что если я буду лучше — он снова станет тем, кого я любила. Тем, кто целовал мои пальцы, кто шептал мне на ухо стихи, кто смотрел на меня, как на свет.
Но вместо света во мне остались только синяки и трещины.
Я всё ещё хотела близости. Хотела быть рядом. Хотела прикасаться к нему, делиться. Хотела, чтобы он увидел меня — не как женщину, которая мешает его карьере, а как ту, ради кого вообще стоит жить.
Но он не видел.
Он бил — и не смотрел в глаза.
Он кричал — и не слышал, как я сжимаюсь в себя.
Он придумывал обвинения, чтобы оправдать свою жестокость, и с каждым днём я исчезала всё больше.
И в ту ночь, когда я упала — точнее, когда он сбросил меня — во мне умерло не только то маленькое сердце. Умерла и я. Та, что любила его. Та, что верила.
Больница пахла слишком чисто. Слишком резко. Белизна стен резала глаза, словно издевалась — как будто свет был теперь вне меня.
Внутри было пусто.
Впервые — буквально.
Я лежала на спине, смотрела в потолок и не плакала. Всё, что могло бы стать слезами, уже выжгло меня изнутри.
Никто не знал. Ни мама. Ни подруги. Ни даже лечащий врач.
Я сама так решила. Я же сильная, правда?
Сильная молчит. Сильная терпит. Сильная улыбается, когда зашивают душу без наркоза.
О побоях знала только моя кожа.
О страхе знал только мой пульс.
О крике знало только подушечное пространство между ладонями, когда я зажимала рот, чтобы не разбудить чудовище в соседней комнате.
Мой муж… даже не приехал. Ни в ту ночь, ни утром. Ни потом.
Он не пришёл взглянуть на мёртвую надежду. Не посмотрел, что осталось от нашей мечты.
Наверное, это был его финальный удар — холодный, молчаливый, невидимый.
Я пролежала так весь день.
Потом вечер.
И когда ночь снова упала на город — я сломалась. Не громко. Не истерично. Просто взяла телефон.
Нашла в контактах одно-единственное имя.
Султан.
Мой друг. Единственный, кто всегда был рядом, хоть и на расстоянии.
— Алло? — Его голос был тёплым. Настоящим. Он сразу понял, что что-то не так. — Айым?
— Просто… забери меня, пожалуйста. — Я не сказала «спаси». Не сказала «я больше не могу». Но он понял.
— Где ты?
— Больница. Я вышла из палаты. Жду у выхода. Не спрашивай… Просто забери.
Я не знала, что было слышно в моём голосе.
Но, наверное, всё.
Через тридцать минут я уже сидела в его машине. В простом чёрном пальто, которое кто-то из медсестёр дал мне на выходе. Без документов. Без сумки. Без прошлого.
— Ты не обязана говорить. — Султан смотрел на дорогу, но я чувствовала, как его сердце дрожит.
— Он убил нашего ребёнка. — Мой голос был чужим. Ровным. Как будто я читала сводку новостей.
Султан резко выдохнул, но промолчал.
Я отвернулась к окну. Город казался красивым. Всё ещё живым. Всё ещё моим.
Я больше не принадлежала ему.
Я больше не была его собственностью.
Я вышла за пределы дома, который был моим роскошным, позолоченным адом.
И впервые — могла дышать.
Султан всегда был рядом.
С первого курса.
С первой бесконечной репетиции, когда я расплакалась прямо на сцене, потому что не смогла сыграть страсть — и он подошёл, сел рядом и тихо сказал:
— Играть страсть — глупо. Надо быть ею.
С тех пор мы были неразлучны. Нас называли «сцена и свет». Я — немного сумасшедшая, слишком чувствительная и острая. Он — яркий, харизматичный, почти эфемерный.
У Султана были длинные крашеные русые волосы, у корней уже виднелись тёмно-коричневые пряди. Он не скрывал этого. Даже подыгрывал.
— Это как я сам: половина свет, половина тень, — смеялся он, поправляя волосы и заправляя за ухо ту самую прядь, где поблёскивала маленькая серьга.
Он был красив. Смуглая кожа, тёплые карие глаза, точёные черты лица. На его внешность обращали внимание, но сам он к этому относился с иронией.
— Все думают, что я влюблён в себя. А я просто умею любить того, кто рядом. Когда он рядом.
Он не скрывал, что гей. И не выставлял это напоказ. Он просто был собой.
Свободным. Честным. Тонким.
Мы учились вместе. Спали друг у друга в общежитии, ели лапшу с одной вилки, сидели на крышах и читали вслух Чехова, потом целовались в лоб и говорили:
— Ну слава Богу, что мы не любим друг друга. Мы бы сгорели к чёртовой матери.
А потом я вышла замуж.
И пропала.
Не потому, что хотела. А потому что была отрезана. Дом, в котором я жила с Аланом, был клеткой, обитой бархатом. Мне не разрешалось гулять одной. Мой телефон проверяли. Мои соцсети были под контролем. Даже макияж он выбирал мне сам.
— У тебя слишком яркие губы. Ты что, хочешь, чтобы на тебя пялились?
— Волосы распущены? Не у нас дома.
— Ты что, опять переписываешься со своим дружком-педиком?
Я молчала. И исчезала всё глубже.
Султан писал.
Звонил.
Скидывал мемы, которые были «только для своих». Но я не отвечала.
Он знал: что-то не так. Чувствовал.
Но не ломился в стены — уважал границы, как всегда. Хотя внутри его рвало на части.
И вот теперь я снова была рядом.
Сломанная. Худая. Смотрящая сквозь стекло.
Когда он увидел меня у выхода из больницы — он не сказал ни слова. Только обнял. Долго. Так, как будто обнимает человека, которого вернуло с того света.
И я почувствовала: я вернулась. Пусть пока едва дышу.
Но я здесь.
А он — всегда был здесь.
Сигарета догорала в пальцах.
Я сидела на парапете, обвивая себя руками, будто холод проникал прямо под кожу.
Август тянулся душным ветром, шевелил юбку, колол в глаза дымом.
На моём новеньком телефоне — последние поздравления. Вибрация была тихой, деликатной, почти извиняющейся.
«С днюшкой тебя, девочка, ты у нас лучшая»
«Любви тебе, улыбок, кайфа и миллион серотонина»
«Поздравляю! Не старей, богиня»
Но я знала — никто не приедет.
У одной гости из Семея. У другой дети — и няня в отпуске. У третьей — овуляция и невозможность выйти из дома даже на полчаса.
У четвёртой семейный выезд за границу, где дети будут впервые видеть Париж.
А у пятой — ремонт.
Пыль, шпаклёвка, доставка ламината и гипсокартона.
Я сидела и смотрела на город, растекающийся подо мной.
Красивый, насыщенный, чужой.
Через два часа — офис.
Там будут кофе в автомате, кожаные кресла и вежливые коллеги.
Никаких «поздравляем, Айка», только деловые встречи, электронные письма, звонки.
Там мне не нужно будет думать о возрасте. О любви. О семье. О потерянной дочери внутри себя.
Я не люблю свой день рождения.
С тех пор — нет, не после аварии. Даже не после госпитализации.
А с того момента, как после развода мои родители вычеркнули меня из семейного альбома.
Словно я выбрала бедность. Позор. Слабость.
Словно их интересовали только те полтора миллиона, которые мой муж помог покрыть в тяжёлые годы.
Я думала, любовь родителей — безусловна.
Наивная.
После развода я стала плохой дочерью.
Опозорившей семью.
«Почему не потерпела?»
«А может, ты сама его довела?»
«Раз такая умная — неужели не могла спасти брак?»
Никто не спрашивал, почему я тогда шла по коридору, держа за живот и истекая кровью.
Никто не хотел знать, что я держалась из последних сил, только бы не потерять малыша.
Меня обвиняли в разводе.
А не его — в том, что я тогда скатилась с лестницы от удара.
Я курила.
Досматривала сигарету до фильтра.
Вдыхала горечь, будто искала в ней что-то похожее на тепло.
Телефон гас.
Город гудел.
Жизнь продолжалась.
Но не для всех.
Через некоторое время я стояла в своей квартире —
в ванной, с мокрыми волосами и острым холодом кафеля под ногами.
Зеркало покрыто запотевшими пятнами, словно время само не хочет смотреть на меня.
Я смотрю — всё равно.
Я уже давно научилась смотреть на себя, не видя ничего.
В спешке я открываю аптечку —
таблетки, таблетки, таблетки.
Всё то, что должен был бы сделать кто-то за меня — забота, напоминание, тепло —
я делаю сама, на автомате, с дрожащими пальцами.
На пол падает один блистер.
Я подбираю. Мне нельзя терять. Ничего больше нельзя терять.
Булимия.
Такое красивое слово, звучащее как имя балерины.
На самом деле — это имя палача.
Он живёт во мне уже несколько лет,
как невидимый сожитель,
как крик, который никто не слышит, потому что я его проглатываю.
Сначала это было скрыто.
Приступы приходили по вечерам —
одиночество, раскаяние, переедание, боль.
А потом — всё ускорилось.
Теперь даже еда не нужна.
Теперь мой организм сам отторгает всё, даже воздух.
Иногда я не ем по три дня.
Иногда я пью воду, и даже она — тяжесть.
Иногда я просто лежу в темноте, слушая, как в груди шумит пустота.
И я боюсь, что однажды не проснусь.
И в то же время — не боюсь вовсе.
Потому что та часть, что когда-то жила и дышала, умерла ещё тогда…
в тот день на лестнице.
А еще — нет месячных.
Почти год.
Мой организм, как и я, больше не хочет быть женщиной.
Он больше не хочет быть матерью, потому что уже однажды не смог.
Меня нельзя винить — говорят, булимия бывает от желания контроля.
Но я никогда ничего не контролировала.
Мною управляли — мужчины, страх, ожидания, чужие голоса, чужие взгляды.
А теперь — этой болью управляю я.
Я смотрю в зеркало.
Глаза как два забытых фонаря на опустевшей улице.
Слегка опухшие веки, тени под глазами, слишком острые ключицы.
Я больше не женщина, я — призрак себя.
Но я всё равно живу.
Мой внутренний ребёнок ещё где-то шепчет: «Ты заслуживаешь любви».
И я слушаю.
Не верю — но слушаю.
Я выхожу из дома, медленно прикрывая за собой тяжёлую деревянную дверь, оставляя внутри тишину и лёгкий запах утреннего кофе, который так и остался нетронутым на столе. Воздух на улице уже не такой свежий — он несёт на себе дыхание большого города: чуть пыльный, с примесью выхлопов, но всё же с ноткой той ранней прохлады, которая ещё цепляется за последние минуты утра.
Я подхожу к своей машине. Отражение в её лакированной поверхности смотрит на меня с усталостью, которую я прячу под аккуратным макияжем и прямой спиной. Открываю дверцу. В салоне пахнет кожей и лёгким, почти незаметным ароматом духов, которыми я пользовалась вчера. Сажусь, завожу двигатель, и машина, тихо зарычав, оживает подо мной. Она послушна, как будто знает моё состояние и не хочет шуметь лишний раз.
Я трогаюсь. Город постепенно начинает расцветать движением.
Дороги ещё не забиты полностью, но в них уже чувствуется напряжение — словно каждая машина знает, что скоро наступит час-пик, и пытается успеть вырваться вперёд, обогнать, не застрять.
Я проезжаю мимо аллеи, где стройные деревья, высокие и серьёзные, выстраиваются как стражи вдоль тротуаров. Листва шелестит от лёгкого ветра, играя с первыми солнечными лучами.
Здания одного за другим проносятся за окнами.
Каждое — словно немой свидетель тысяч историй.
Вот кафе, в котором мы когда-то сидели вдвоём, с кружками горячего шоколада.
Вот тот перекрёсток, на котором я в прошлом году стояла в пробке и вдруг решила уволиться.
Город — как живая книга, и каждая его улица — напоминание.
Звуки.
Ритмичные щелчки поворотников.
Приглушённая музыка из соседней машины.
Дальняя сирена скорой, пробирающаяся сквозь плотную ткань шума.
В груди — тишина. Боль не ушла, нет.
Но она притупилась.
Словно укрыта ватным одеялом времени.
В этом странном утреннем покое появилось что-то вроде облегчения.
Не настоящее счастье, нет. Но... дыхание стало глубже.
Я не плачу. Это уже достижение.
Я сворачиваю к своему офису — высокое стеклянное здание, отражающее свет так, будто в нём живёт само солнце.
Паркуюсь у своего места — табличка с моим именем на парковке всегда вызывает странную смесь гордости и одиночества.
Я выхожу, обхожу машину и направляюсь ко входу.
Двери открываются бесшумно, пропуская меня внутрь.
В холле пусто — только охранник кивает мне молча, как будто тоже знает, что я не настроена на разговоры.
Поднимаюсь по лестнице. Лифт я не люблю — слишком тесно, слишком механично.
На моём этаже ещё никого нет.
Тишина. Чистая, как вымытая поверхность.
Я прохожу по длинному коридору.
Под каблуками звонко отзывается мрамор —
каждый шаг словно выстукивает мой путь вверх, к самой себе.
В носу начинает щекотать запах дорогого ароматизатора.
Я сама его выбрала — что-то древесное, с нотами кедра, сандала и лёгкой ванильной горечи.
Он ассоциируется с уверенностью. С тем, кем я стала.
Вот и мой кабинет.
Я открываю дверь, вхожу.
Сбрасываю пиджак на диван — движения отработаны, быстры, почти автоматичны.
И уже хочу направиться к столу, как вдруг…
Останавливаюсь.
На моём столе — букет.
Большой, роскошный.
Белые лилии, распустившиеся и свежие до дрожи.
Как будто их только что поставили.
Я замираю.
Потом медленно подхожу.
Смотрю на цветы с тревогой — не потому, что они красивые, а потому что они неуместны.
Все знали: я ненавижу день рождения.
Я запретила своим сотрудникам поздравлять меня.
Я вычеркнула этот день из календаря.
Я не хочу напоминаний. Ни о прошлом. Ни о потерях. Ни о возрасте.
Но вот он — этот букет.
И он здесь не случайно.
Кто?
Султан? Нет. Он знает, что я обожгусь, если прикоснусь к воспоминаниям.
Он знает, что я могу взорваться, если почувствую, что кто-то нарушил моё пространство.
Мои подруги? Вряд ли. Они даже не знают, какие цветы я не выношу.
Коллеги?
Их ещё нет. Да и не посмели бы.
Я подхожу к букету.
На одной из лилий прикреплена тонкая, почти невидимая бирка.
Я медленно разворачиваю её и читаю вслух:
«С днём рождения!»
И всего лишь одна буква.
Д.
Мир будто замер в один момент.
Словно даже кондиционер перестал гудеть, и воздух сгустился, став тягучим, как мёд.
В горле пересохло.
Пальцы инстинктивно сжались в кулак.
А внутри — огонь.
Не вспышка. А медленное, глубокое, плотное пламя, ползущее по позвоночнику, будто кто-то невидимый провёл когтями по моей спине.
Я вглядываюсь в эту надпись, как будто она сейчас заговорит.
Мозг отказывается верить.
Но тело…
Тело уже всё поняло.
Я знаю, чья это буква.
Я чувствую это в дрожи бёдер. В напряжении внизу живота. В сладкой боли, расползающейся под рёбрами.
И вот, как будто кто-то включил старую киноплёнку, я проваливаюсь в прошлое —
туда, где была не офисная директриса в строгом костюме,
а молодая, живая, без страха, без шрамов.
С ним.
С Димашем.
Он смотрит на меня так близко, что ресницы касаются моих щёк.
Губы дрожат от предвкушения, и прежде, чем я осознаю, он уже целует меня.
Медленно.
Уверенно.
Не давая воздуха — будто хочет, чтобы я задохнулась от него.
И я действительно задыхаюсь. Не физически —
а от желания.
Я вспоминаю, как его ладони — тёплые, крепкие — ложатся на мои бёдра, как он резко притягивает меня ближе,
и тогда, не дожидаясь слов, его пальцы скользят под мою юбку, и я чувствую, как сердце стучит где-то между ног.
Его голос, шепчущий в ухо:
«Ты моя. Всегда была...»
Эти слова — будто заклинание.
Я вспоминаю, как его ладонь находит мою плоть, нежную, уже влажную от вожделения.
Как он двигается уверенно, без сомнений, будто читает меня, как любимую книгу.
В настоящем я резко выдыхаю, открыв глаза.
Ощущаю, как между бёдрами становится горячо и влажно.
Моё тело предаёт меня — или, наоборот, впервые за долгое время говорит честно.
Я возбуждена.
От одного букета.
От одного воспоминания.
От одного имени.
Я стою в своём кабинете, взрослая, сильная, с уставшей психикой, с тайнами, болезнями, шрамами.
Но внутри меня снова 19.
Снова он.
Снова я.
Снова — мы.
Голова кружится.
Колени будто ватные.
И на грани — стон.
Глухой, едва слышный, вырвавшийся из груди, прежде чем я успела его проглотить.
И в этот момент я понимаю:
всё, что я закопала, всё, что убеждала себя забыть, всё, что уничтожала годами —
ожило.
С одного букета.
С одной буквы.
Он вернулся.
А я…
Я не знаю — рада ли я, или только теперь начинаю по-настоящему бояться.