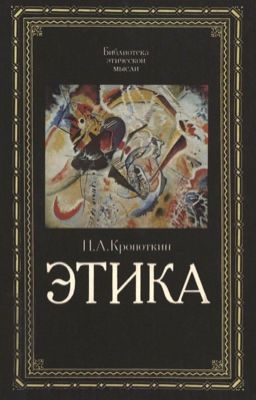ЮНОСТЬ. В ПОИСКАХ ЗА ИДЕАЛОМ
«Юность», «Утро помещика» и «Люцерн» появились в продол жение тех же лет, но они произвели как на нас, читателей, так и на литературных критиков странное и скорее неблагоприятное впе чатление. Чувствовалось, что перед нами — великий писатель; видно было, что талант его растет; задачи жизни, которых он касался в своих произведениях, несомненно, расширялись и уг лублялись; но герои, выражавшие мысли самого автора, не могли завоевать наших симпатий. В «Детстве» и «Отрочестве» перед нами был мальчик Иртеньев. Теперь, в «Юности», Иртеньев зна комится с князем Нехлюдовым. Между ними завязывается тесная дружба, и они дают обещание сообщать друг другу, не скрывая ничего, о своих дурных поступках. Конечно, они не всегда в силах сдержать обещание; но оно ведет их к постоянному самоанализу, к быстро забываемому раскаянию и к неизбежной двойственности ума, имеющей самое разрушающее влияние на характер обоих молодых людей. Толстой не скрыл, впрочем, в своей повести печальных результатов этих моральных потуг. Он нарисовал их с полной искренностью, а между тем он, по-видимому, выставлял
418
такого рода бесплодные усилия как нечто желательное. С этим мы, конечно, не могли согласиться.
Юность, несомненно, является тем возрастом, когда в уме начинают пробуждаться стремления к высшим идеалам; это — годы, когда человек стремится освободиться от недостатков отро ческого возраста; но достигнуть этой цели нельзя* если следовать путям, рекомендуемым в монастырях и в иезуитских школах. Един ственный правильный путь — это открыть перед юным умом новые, широкие горизонты; освободить его от предрассудков и ложных страхов; указать место человека в природе и человечестве, и, в осо бенности, отождествить себя с каким-нибудь великим делом и развивать свои силы, имея в виду борьбу за это великое дело. Идеализм, т. е. способность почувствовать поэтическую любовь к чему-нибудь великому и готовиться к нему,— единственная ох рана от всего того, что подтачивает жизненные силы человека от порока, разврата и т. д. Такое вдохновение, такую любовь к идеалу русское юношество обыкновенно находило в студенческих круж ках, которые так горячо отстаивал Тургенев. Иртеньев же и Не хлюдов, продолжая оставаться во время университетских лет в своей блестящей аристократической изолированности, не могут создать себе высшего идеала жизни и тратят свои силы в бесплод ных попытках полурелигиозного нравственного самосовершен ствования, состоящего в скоропроходящем самоупрекании и ско- розабываемом самоунижении и вообще построенного по плану, который, может быть, и увенчается успехом в монастырском уеди нении, но совершенно невыполним среди соблазнов, окружающих молодого человека из общества. Надо сказать, что Толстой рас сказывает о неудачах, постигших молодых людей, по обыкнове нию с полной искренностью.
***
Едва ли нужно напоминать, что «Война и мир» является мо гучим протестом против войны. Влияние, оказанное великим писателем в этом отношении на его современников, можно было уже наблюдать в России. Во время русско-турецкой войны 1877— 1878 годов, в России уже нельзя было найти корреспондента, который описывал бы события в прежнем кроваво-патриотиче ском стиле. Фразы вроде того, что «враги узнали силу наших шты ков» или «мы перестреляли их как зайцев», до сих пор оставшие
ся в ходу в Англии, вышли у нас из употребления. Если бы в письме какого-нибудь военного корреспондента нашлись подобные пе режитки дикости, ни одна уважающая себя русская газета не решилась бы напечатать подобных фраз. Общий характер писем русских военных корреспондентов совершенно изменился: во вре мя той же войны выдвинулись такие беллетристы, как Гаршин, и такие художники, как Верещагин,— оба храбрые под пулями, но сражавшиеся с войной, как с величайшим общественным злом.
\4
419
Всякому, кто читал «Войну и мир», памятны тяжкие испыта ния Пьера и его дружба с солдатом Каратаевым. При этом чув ствуется, что Толстой полон восхищения перед спокойной фило софией этого человека из народа — типического представителя обычного умного русского крестьянина. Некоторые литературные критики пришли поэтому к заключению, что Толстой в лице Кара таева проповедует нечто вроде восточного фатализма. По моему мнению, это заключение критиков совершенно ошибочно. Карата ев, будучи последовательным пантеистом, прекрасно знает, что бывают такие естественные несчастья, с которыми невозможно бороться; он знает также, что несчастья, которые выпадут на его долю — его личные страдания, а также казнь арестованных в Мо скве якобы поджигателей, причем он каждый день может попасть в число казнимых,— являются неизбежными последствиями гораздо более великого события, т. е. вооруженного столкновения народов, которое, раз начавшись, должно развиваться со всеми возмутительными и вместе с тем совершенно неизбежными своими последствиями.
...Каратаев принимает неизбежное, но он вовсе не фаталист. Если бы он чувствовал, что его усилия могут предупредить вой ну, он проявил бы эти усилия. В конце романа, когда Пьер говорит своей жене, Наташе, что он намеревается присоединиться к тай ному обществу, из которого впоследствии вышли декабристы (об этом намерении Пьера в романе говорится несколько туманно, ввиду цензуры, но русские читатели понимали этот намек), и На таша спрашивает его: «Одобрил ли бы это Платон Каратаев?»— Пьер, после минутного размышления, отвечает вполне утверди тельно.
***
«АННА КАРЕНИНА»
Из всех беллетристических произведений Толстого «Анна Каре нина» обладает наиболее широким кругом читателей на всех язы ках. Как произведение искусства оно стоит очень высоко...
И все же... роман произвел в России решительно неблагоприят ное впечатление; он вызвал поздравления Толстому из реакцион ного лагеря и очень холодный прием со стороны прогрессивной части общества. Дело в том, что вопрос о браке и о возможном расхождении между мужем и женой очень серьезно обсуждался в России нашими лучшими людьми как в литературе, так и в жиз ни. Само собой разумеется, что такое безразлично легкомыслен ное отношение к браку, какое мы так часто видели за последнее время в Англии, в бракоразводных процессах высшего «общест ва», сурово и бесповоротно осуждалось; точно так же всякая форма обмана, который является сюжетом бесчисленных фран цузских повестей и драм, совершенно исключалась при всяком честном обсуждении вопроса. Но, исключив из обсуждения и суро
420
во осудив легкомыслие одних и обман других, приходилось тем серьезнее обсуждать права новой любви, серьезной и глубокой, появляющейся после нескольких лет счастливой супружеской жизни. Повесть Чернышевского «Что делать?» можно рассмат ривать как наилучшее выражение мнений о браке, господство- вавших тогда среди лучшей части молодого поколения. Раз вы вступили в брак, говорили представители этого поколения, не от носитесь легкомысленно к любовным приключениям и ко всякого рода флирту. Не всякое проявление страсти заслуживает еще название новой любви, и то, что описывается как любовь, в гро мадном большинстве случаев — не что иное, как лишь временная похоть. Даже в случаях действительной любви, прежде чем она вырастет в реальное и глубокое чувство, в большинстве случаев имеется период, когда есть еще время подумать о последствиях, какие эта любовь может вызвать, если она вырастет до размеров
истинной глубокой страсти. Но все же обязательно признать, что бывают случаи, когда людей охватывает новая любовь; имеются случаи, когда она является, и должна явиться, благодаря целому ряду обстоятельств, как, например, когда девушка вышла замуж почти против воли, лишь вследствие настойчивых молений влюб ленного в нее человека, или когда люди вступили в брак, не по нимая друг друга, или, наконец, когда один из двух продолжает развиваться в смысле высшего идеала, в то время как другой или другая, устав носить маску притворного идеализма, погружается в филистерское счастье, облеченное в теплый халат. В подобных случаях расхождение не только неизбежно, но часто необходимо в интересах обеих сторон. В таких случаях лучше перенести стра дания, вызываемые расхождением (честные натуры лишь очи щаются таким страданием), чем совершенно изуродовать даль нейшую жизнь одного — а в большинстве случаев обоих — и знать при этом, что дальнейшая совместная жизнь при подоб ных условиях фатально отразится на ни в чем не повинных детях. Так, по крайней мере, относится к этому вопросу русская литера тура и лучшая часть русского мыслящего общества.
И вот появляется Толстой с «Анной Карениной», во главе ко торой поставлен угрожающий библейский эпиграф: «Мне отмще ние и Аз воздам» и в которой это библейское отмщение падает на несчастную Каренину, которая кладет конец своим страданиям после расхождения с мужем, покончив с собой самоубийством. Русские критики, конечно, разошлись в данном случае со взгля дами Толстого: любовь, овладевшая Карениной, менее всего вы зывала «отмщение». Она молодой девушкой вышла замуж за пожилого и непривлекательного человека. В то время она не соз навала всей серьезности этого шага и никто не попытался объяс нить ей этого. Она не знала любви и узнала ее, лишь встретясь с Вронским. Вследствие глубокой честности ее натуры самая мысль об обмане была ей противна; продолжая жить с мужем, она не сделала бы этим ни мужа, ни ребенка счастливее. В таких условиях расхождение с мужем и новая жизнь с Вронским, кото
421
рый серьезно любил ее, были единственным выходом в ее положе нии. Во всяком случае, если история Анны Карениной заканчи вается трагедией, эта трагедия вовсе не является результатом «высшей справедливости». Как и в других случаях, честный ху дожественный гений Толстого разошелся с его теоретическим разумом и указал на другие, действительные, причины, а именно на непоследовательность Вронского и Карениной. Разойдясь с мужем и отнесясь с презрением к «общественному мнению», т. е. к мнению женщин, которые, как показывает сам Толстой, сами не обладали достаточной честностью, чтобы иметь право решать вопрос подобного рода, ни Каренина, ни Вронский не оказались
достаточно смелыми, чтобы порвать с этим «обществом», пустоту которого Толстой знает и описывает так блестяще. Вместо этого, когда Анна возвращается с Вронским в Петербург, они оба за няты одной мыслью: как Бетси и другие, подобные ей, встретят Анну, когда она появится среди них? Таким образом, мнение раз личных Бетси, а вовсе не «Высшая Справедливость» приводит Каренину к самоубийству.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Беспокойное состояние цивилизованного мира, и в особенно сти России, неоднократно привлекало внимание Толстого и побу дило его напечатать значительное количество открытых писем, воззваний и статей по различным вопросам. Во всех этих произве дениях он главным образом проповедует отрицательное отноше ние к церкви и государству. Он советует своим читателям никогда не поступать на службу государству, даже в земских и волостных учреждениях, которые организованы государством в виде при манки. Отказывайтесь поддерживать эксплуатацию в какой бы то ни было форме. Отказывайтесь от военной службы, каковы бы ни были последствия, ибо это — единственный способ протесто вать против милитаризма. Не имейте никакого дела с судами, ес ли вы даже оскорблены или потерпели ущерб; всякое обращение к суду дает лишь дурные результаты. По мнению Толстого, такое отрицательное и в высшей степени искреннее отношение послу жит делу истинного прогресса лучше всяких революционных мер. Но как первый шаг к уничтожению современного рабства он так же рекомендует национализацию или, скорее, муниципализацию земли.
Как и следовало ожидать, художественные произведения, написанные Толстым в последние двадцать пять лет (после 1876 г.), носят глубокие следы его нового мировоззрения. Этот период его художественной деятельности был начат произведе ниями для народа, и хотя большинство его рассказов для народа испорчено чересчур очевидным желанием подчеркнуть известного
422
рода мораль, хотя бы для этого пришлось даже насиловать фак ты, все же между этими рассказами имется несколько — в осо бенности «Сколько человеку земли нужно», «Хозяин и работник» и несколько других,— отличающихся художественностью. Упо мяну также о «Смерти Ивана Ильича», чтобы напомнить читате лям о том глубоком впечатлении, какое произвел этот рассказ при своем появлении.
С целью найти еще более обширную аудиторию в народных театрах, которые начали в то время возникать в России, Толстой написал «Власть тьмы» — полную ужаса драму из крестьянской жизни, в которой он пытался произвести глубокое впечатление при помощи реализма Шекспира или, скорее, Марлоу (Marlow). Другое драматическое произведение этого периода — «Плоды
просвещения» — носит комический характер. В этой комедии ос меиваются предрассудки высших классов относительно спири тизма. Оба произведения (первое — с изменением заключитель ной сцены) с большим успехом даются в русских театрах.
Необходимо, впрочем, оговориться, что не одни повести и дра матические произведения этого периода, принадлежащие Толсто му, могут быть причислены к произведениям искусства. Труды его по религиозным вопросам, упомянутые нами выше, являются так же произведениями искусства в лучшем смысле этого слова, так как в них найдется много страниц описательного характера, от
личающихся высоким художественным достоинством; в то же время страницы, посвященные Толстым выяснению экономиче ских принципов социализма или отрицающие правительство прин ципов анархизма, могут быть сравниваемы с лучшими произведе ниями этого рода, принадлежащими Вильяму Моррису, причем первенство остается за Толстым вследствие необыкновенной про стоты и вместе с тем художественности изложения.
«Крейцерова соната» после «Анны Карениной», несомненно, имела наиболее обширный круг читателей. Необычайность темы этой повести, а также нападки на брак, заключенные в ней, на столько привлекают внимание читателей, вызывая обыкновенно между ними ожесточенные споры, что при этом, в большинстве случаев, забывают о высоких художественных достоинствах этой повести и о беспощадном анализе некоторых сторон жизни, зак люченном в ней. Едва ли нужно упоминать о нравственном уче нии, вложенном Толстым в «Крейцерову сонату», тем более что вскоре сам автор в значительной степени отказался от тех выво
дов, которые следовали из этого учения. Но эта повесть имеет глубокое значение для всякого изучающего произведения Толстого и стремящегося познакомиться с внутренней жизнью великого художника. Никогда еще не было написано более сурового об винительного акта против браков, заключаемых лишь ради внеш ней привлекательности и не основанных на интеллектуальном союзе или симпатии между мужем и женой; что же касается борьбы, которая ведется между Позднышевым и его женой, она рассказана в высшей степени художественно и дает самое глубокое
423
драматическое изображение супружеской жизни, какое мы имеем во всемирной литературе.
Впрочем, самым крупным произведением позднейшего периода является «Воскресение». Недостаточно сказать, что юношеская энергия семидесятилетнего автора, проявляющаяся в этой пове сти, поражает читателя. Ее чисто художественные качества на столько высоки, что если бы Толстой не написал ничего, кроме «Воскресения», он все же был бы признан одним из великих пи сателей. Все те части повести, которые изображают общество, начиная с письма «Мисси», сама Мисси, ее отец и т. д., могут быть приравнены к лучшим страницам первого тома «Войны и мира». Столь же высоким достоинством отличаются описания суда, при сяжных и тюрем. Правда, можно сказать, что главный герой, Нехлюдов, поражает некоторой искусственностью; но этот недо статок был почти неизбежен, раз Нехлюдову была отведена роль изображать если не самого автора повести, то, во всяком случае, являться откликом его идей и его жизненного опыта; этот недоста ток свойствен всем беллетристическим произведениям, в которых преобладает автобиографический элемент. Что же касается до остальных действующих лиц повести, громадное количество ко торых проходит перед читателем, то все они изображены с необык новенной живостью, каждое из них носит определенный характер и остается навсегда в памяти читателя, хотя бы они являлись в повести лишь мельком (как, напр(имер), изображения судей, присяжных, дочери тюремного смотрителя и т. д.).
Количество вопросов, поднятых в этой повести,— вопросов политического, социального и партийного характера — настолько велико, что все общество, как оно есть, живущее и волнующееся многоразличными задачами жизни и противоречиями, проходит перед читателем, и притом не только русское общество, но обще ство всего цивилизованного мира. В действительности, за исклю чением сцен, изображающих жизнь политических преступников, содержание «Воскресения» приложимо ко всем нациям. Это — самое интернациональное из всех произведений Толстого. В то же самое время коренные вопросы «имеет ли общество право су да?», «разумно ли поддерживать систему судов и тюрем?» — эти страшные вопросы, которые настоящее столетие призвано раз решить, проходят красной нитью через всю книгу и производят такое впечатление на читателя, что во вдумчивом человеке неиз бежно зарождаются серьезные сомнения насчет разумности всей нашей системы наказаний. «Се livre pesera sur la conscience du siecle» («эта книга оставит следы на совести столетия») —так выразился один французский критик. И справедливость этого за мечания мне пришлось проверить во время моего пребывания в Америке, при разговорах с различными лицами, до этого времени
совсем не интересовавшимися тюремным вопросом. Эта книга ос тавила следы на их совести. Она заставила их задуматься над несообразностью всей современной системы наказаний.
424
То же замечание можно применить и ко всей деятельности Толстого. Будет ли успешна его попытка дать людям элементы мировой религии, которая, по его мнению, может быть принята разумом, получившим научную подготовку,— религии, которая может служить для человека руководителем в нравственной жиз ни, являясь вместе с тем разрешением великой социальной задачи и всех вопросов, связанных с нею,— удастся ли эта смелая попыт ка? Этот вопрос разрешит лишь время. Одно лишь можно утверж дать с уверенностью, а именно, что со времени Руссо ни одному человеку не удалось затронуть людскую совесть так, как это сде лал Толстой своими произведениями, касающимися нравственных вопросов. Он бесстрашно раскрыл нравственные стороны всех жгучих вопросов современности, раскрыл их в такой производя щей глубокое впечатление форме, что читатели его произведений не могут ни забыть этих вопросов, ни откладывать их разреше ние: каждый чувствует, что какое-нибудь решение должно быть найдено. Вследствие этого влияние Толстого не может быть из меряемо годами или десятилетиями; оно останется надолго. Влия ние это не ограничивается одной какой-либо страной. В миллио нах оттисков его произведения читаются на всех языках, будят совесть людей всех классов и всех наций и производят везде одни и те же результаты. Толстой является наиболее любимым, наибо лее трогательно любимым человеком во всем мире.
***
Впечатление, которое этот роман при своем появлении (1859) произвел в России, не поддается описанию. Это было более круп ное литературное событие, чем появление новой повести Тургене
ва. Вся образованная Россия читала «Обломова» и обсуждала «обломовщину». Каждый читатель находил нечто родственное в типе Обломова, чувствуя себя в большей или меньшей степени пораженным той же болезнью. Образ Ольги вызывал чувство почти благоговейного поклонения ей в тысячах молодых читате лей; ее любимая песнь «Casta Diva» сделалась любимой песней молодежи. Даже теперь, сорок лет спустя после появления рома на, можно читать и перечитывать «Обломова» все с тем же на слаждением; роман не только не потерял своего значения, но, как все гениальные произведения искусства, сохранил это значение, и оно лишь углубилось: Обломовы не исчезли до сих пор, измени лась лишь обстановка.
Во время появления романа слово «обломовщина» употреб лялось всеми для характеристики положения России. Вся русская жизнь, вся русская история носят на себе следы этой болезни — той лености ума и сердца, лености, почти возведенной в доброде тель, того консерватизма и инерции, того презрения к энергичной деятельности, которые характеризуют Обломова и которые так усиленно культивировались во времена крепостного права даже
425
среди лучших людей России, даже среди тогдашних «недоволь ных». «Печальное следствие рабства»,— говорили тогда. Но по мере того как эпоха крепостного права уходит все далее в область истории, мы начинаем сознавать, что Обломовы продолжают жить и в нашей среде: крепостное право не было, стало быть, един ственным фактором, создавшим этот тип людей; и мы приходим к заключению, что самые условия жизни обеспеченных классов, рутина цивилизованной жизни содействуют развитию и поддер жанию этого типа.
Другие говорят по поводу Обломова: «...расовые черты, ха рактерные для русской расы»,— и в этом они в значительной сте пени правы. Отсутствие любви к борьбе — «моя хата с краю», в отношении к общественным вопросам; отсутствие «агрессивных» добродетелей; непротивление и пассивное подчинение — все эти черты характера в значительной степени присущи русской расе. Может быть, благодаря этому русскому писателю и удалось с та кой яркостью очертить этот тип. Но несмотря на все вышесказан ное, тип Обломова вовсе не ограничивается пределами одной России; это — универсальный тип — тип, созданный нашей сов ременной цивилизацией, возникающий во всякой достаточной, самоудовлетворенной среде. Обломов — консервативный тип; консервативный не в политическом смысле этого слова, но в смыс ле консерватизма благосостояния. Человек, достигший извест ной степени обеспеченности или унаследовавший более или менее крупное состояние, избегает предпринимать что-либо новое, по тому что это «новое» может внести нечто неприятное и бес покойное в его спокойное беспечальное существование; он
предпочитает коснеть, ведя жизнь, лишенную истинных импуль сов действительной жизни, из боязни, как бы подобные импуль сы не нарушили спокойствие его чисто растительного сущест вования.
Обломов знает истинную цену искусства и его импульсов; он знает высший энтузиазм поэтической любви; он знаком с этими ощущениями по опыту. Но «зачем?» — спрашивает он снова и сно ва. Зачем все это «беспокойство»? Зачем выходить и сталкивать ся с людьми? Он — вовсе не Диоген, отрешившийся от всех потребностей,— совсем напротив: если жаркое, поданное ему, пе ресохло или дичь пережарена, он очень близко принимает это к сердцу. «Беспокойством» он считает лишь высшие интересы жизни, думая, что они не стоят «хлопот». В молодости Обломов мечтал освободить своих крепостных крестьян, но таким образом, чтобы это освобождение не принесло значительного ущерба его дохо дам. Постепенно он забыл об этих юношеских планах и теперь заботится лишь о том, чтобы управление имением приносило ему возможно меньше «хлопот». По словам самого Обломова, он «не знает, что такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный мужик, что богатый; не знает, что значит четверть ржи или овса, что она стоит, в каком месяце и что сеют и жнут, как и когда продают». Когда Обломов мечтает о жизни в деревне
426
в собственном имении, жизнь эта представляется ему как ряд пик ников и идиллических прогулок в сообществе добродушной, по корной и дородной жены, которая с обожанием глядит ему в гла за. Вопрос о том, каким образом достается ему вся эта обеспечен ность, чего ради люди должны работать на него, никогда не приходит ему в голову. Но разве мало найдется разбросанных по всему миру владельцев фабрик, хлебных полей и каменноуголь ных шахт или акционеров различных предприятий, которые смот рят на свою собственность точно так же, как Обломов смотрел на свое имение, т. е. идиллически наслаждаясь работой других и не принимая сами ни малейшего участия в этой работе?
На место выросшего в деревне Обломова можно поставить Обломова городского — сущность типа от этого не изменится. Всякий внимательный наблюдатель найдет значительное количе ство представителей обломовского типа в интеллектуальной, соци альной и даже личной жизни. Всякая новизна в интеллектуаль ной сфере причиняет Обломовым беспокойство; они хотели бы, чтобы все люди обладали одинаковыми идеями. Они относятся подозрительно к социальным реформам, так как даже намек на какую-либо перемену пугает их. Обломов любим Ольгой и любит ее, но такой решительный поступок, как брак, пугает его. Ольга чересчур беспокойна для него. Она заставляет его идти смотреть картины, читать и обсуждать прочитанное, спорить — словом, она втягивает его в вихрь жизни. Она любит его настолько горячо, что готова следовать за ним, даже не венчаясь. Но самая сила ее любви, самая напряженная жизненность Ольги пугают Об ломова.
Он пытается найти всевозможные предлоги, чтобы оградить свое растительное существование от этого притока жизни; он настолько высоко ценит мелкие материальные удобства своей жизни, что не осмеливается любить, боится любви со всеми ее последствиями — «ее слезами, ее импульсами, ее жизнью» — и вскоре снова впадает в удобную «обломовщину».
Несомненно, что «обломовщину» нельзя рассматривать как расовую болезнь. Она существует на обоих континентах и под всеми широтами. Помимо «обломовщины», столь ярко обрисо ванной Гончаровым, имеется помещичья «обломовщина», чинов ничья «обломовщина» — откладывать в долгий ящик, научная
«обломовщина» и как венец всего этого, семейная «обломовщина», » 64
которой все мы охотно платим щедрую дань
***
Достоевского до сих пор много читают в России; когда же, около двадцати лет тому назад, его романы впервые были пере ведены на французский, немецкий и английский языки — они бы ли встречены как своего рода откровения. Его превозносили как одного из величайших писателей нашего времени, как единствен
427
ного, который «лучше всего выразил сущность мистической сла вянской души», хотя говорившие так сами едва ли смогли бы оп ределить истинное значение вышеприведенной похвалы. Достоев ский затмил на время славу Тургенева, и о Толстом тоже, было, забыли. Во всех этих похвалах, конечно, было много истериче ского преувеличения, и в настоящее время здравомыслящие ли тературные критики воздерживаются от подобных восторгов. Несомненно, что во всех произведениях Достоевского чувствуется сильный талант. Его симпатия к наиболее униженным и страдаю щим отбросам нашей городской цивилизации настолько велика, что некоторыми своими романами он увлекает за собой самого хладнокровного читателя и производит сильное и благотворное в нравственном отношении влияние на сердца молодых читателей. Его анализ самых разнообразных форм зарождающегося психи ческого расстройства отличается, по уверениям специалистов, чрезвычайной верностью. Но все же художественные качества его произведений стоят неизмеримо ниже по сравнению с произве дениями других великих русских художников: Толстого, Тургене ва или Гончарова. У Достоевского страницы высокого реализма переплетаются самыми фантастическими эпизодами или страни цами самых искусственных теоретических споров и разговоров, в которых автор излагает свои собственные сомнения. Кроме того, автор всегда находится в такой поспешности, что у него, кажется, не было даже времени перечитать свои произведения прежде от сылки их в типографию. И наконец, каждый из героев Достоевско го, в особенности в романах позднейшего периода, страдает ка кой-либо психической болезнью или является жертвой нравст венной извращенности. В результате получается то, что хотя некоторые романы Достоевского и читаются с интересом, тем не менее они не вызывают желания перечитывать их снова, как это бывает с романами Толстого и Тургенева и даже второстепенных писателей.
Впрочем, читатель прощает Достоевскому все его недостатки, потому что, когда он говорит об угнетаемых и забытых детях на шей городской цивилизации, он становится истинно великим пи сателем благодаря его всеобъемлющей бесконечной любви к чело веку даже в самых отвратительных глубинах его падения. Благо даря его горячей любви ко всем этим пьяницам, нищим, жалким ворам и т. д., мимо которых мы обычно проходим хладнокровно, не бросив на них даже сострадательного взгляда; благодаря его умению открывать человеческие и часто высокие черты в людях, находящихся на последней ступени падения; благодаря любви, которую он внушает нам к самым неинтересным представителям человечества, даже к таким, которые никогда не в состоянии бу дут вырваться из грязи и нищеты, в которые их бросила судьба,— благодаря этим качествам своего таланта Достоевский, несомнен но, завоевал себе единственное в своем роде положение среди современных писателей, и его будут читать не ради художествен ной законченности, которая отсутствует в его произведениях,
428
а ради разлитой в них доброты, ради реального воспроизведения жизни бедных кварталов больших городов и ради той бесконеч ной симпатии, которую внушают читателю такие существа, как Соня Мармеладова.
***
Поэзия Некрасова сыграла такую значительную роль в моем личном развитии во время моей юности, что я в данном случае не решаюсь довериться собственной высокой оценке этой поэзии, и с целью проверки моих впечатлений и моей оценки я сравнил их с отзывами русских критиков: Арсеньева, Скабичевского и Вен герова (редактора-издателя большого биографического словаря русских писателей).
Вступая в период созревания, в возрасте от шестнадцати до двадцати лет, мы чувствуем потребность найти соответственное выражение стремлениям и идеям высшего порядка, начинающим пробуждаться в нашем уме. Недостаточно чувствовать эти стрем ления: нам нужны слова для их выражения. Некоторые находят такие слова в молитвах, которые они слышат в церкви; другие — и я принадлежу к их числу — не удовлетворяются подобным вы ражением их чувств; они находят его чересчур неопределенным и ищут более конкретной формы для выражения растущей в них симпатии к человечеству и для философских вопросов о жизни вселенной, занимающих их. Обыкновенно такой конкретной фор мой является поэзия. Для меня в произведениях Гёте, в его фило софской поэзии, с одной стороны, и в произведениях Некрасова — с другой, в конкретных образах, в которых вылилась его любовь к крестьянам, нашлись «слова», в которых нуждалось мое сердце для выражения поэтических чувствований. Впрочем, все это от носится лишь ко мне самому. Пред нами вопрос: можно ли по ставить Некрасова наряду с Пушкиным и Лермонтовым в качест ве великого поэта?
Некоторые отрицают саму возможность подобного сравнения. Некрасов не был истинным поэтом, говорят они, так как поэзия его была всегда тенденциозной. Эта точка зрения, часто защи щаемая поклонниками чистой эстетики, очевидно, неправильна. Шелли не был чужд тенденций, которые, однако, не мешали ему быть великим поэтом. Броунинг в некоторых поэмах тенденцио зен, и все же это обстоятельство не препятствует ему быть одним из великих поэтов Англии. Каждый великий поэт проводит ту или иную тенденцию в большинстве своих произведений, и дело лишь в том — находит ли он прекрасную форму для выражения этой тенденции или нет? Поэт, который сумеет облечь возвышенную тенденцию в действительно прекрасную форму, т. е. в производя щие глубокое впечатление образы и звучные стихи, будет вели чайшим поэтом.
429
***
Русская народная масса, крестьяне и их страдания — главные темы стихотворений Некрасова. Его любовь к народу проходит красной нитью по всем его произведениям, он остается верен ей всю свою жизнь. В молодые годы эта любовь спасла его от раст раты таланта среди того «беспечального» существования, которое вела большая часть его современников; позднее она вдохновила его на борьбу с крепостным правом; когда же крепостное право бы ло побеждено, он не счел, подобно многим из своих друзей, борьбу поконченной: он сделался поэтом темной массы народа, угнетае мой экономическим и политическим ярмом; наконец, когда на ступила старость, он не сказал себе: «Я сделал все, что мог»; на против, до конца в его песнях звучала скорбь о том, что он не был настоящим борцом. Он писал: «Мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть борцом»; в том же стихотворении он го ворит: «Кто, служа великим целям века, жизнь свою всецело от дает на борьбу за брата-человека, только тот себя переживет...»
Иногда в его произведениях звучит нота отчаяния, но это бы вает сравнительно редко. Русский крестьянин, в его изображении, вовсе не является существом, только источающим слезы. Это — полный ясного спокойствия, обладающий юмором, иногда чрез вычайно веселый работник. Некрасов очень редко идеализирует крестьянина: в большинстве случаев он изображает его таким, каким он является в действительности, и вера поэта в духовные силы этого крестьянина глубока и жизненна. «Лишь бы пронес лось дыхание свободы, и Россия покажет, что она имеет людей — что пред ней лежит великое будущее» — эта мысль часто звучит в его произведениях.
Лучшая поэма Некрасова — «Мороз Красный нос». Это — апофеоз русской крестьянки; в этой поэме нет и следа сентимен тальности; она написана в возвышенном эпическом стиле, и вто рая ее часть, где Мороз обходит свои лесные владения и крестьян ка медленно замерзает, причем пред ней проходят яркие картины минувшего счастья,— все это превосходно даже с точки зрения самой придирчивой эстетической критики, так как поэма написана прекрасными стихами и представляет целый ряд чудных образов и картин.
«Крестьянские дети» — чрезвычайно милая деревенская идил лия. «Муза мести и печали», говорит один из наших критиков, делается необыкновенно мягкой и нежной, когда начинает гово рить о женщинах и детях. В действительности, ни один из русских поэтов не доходил до такого апофеоза женщины, в особенности женщины-матери, как этот «поэт мести и печали». Как только Некрасов начинает говорить о женщине-матери, стихи его звучат могущественно; и строфы, посвященные им собственной матери,— женщине, затерянной на чужой стороне, в глуши помещичьего дома, принужденной жить среди людей, занятых охотой, пьянст вом и проявлением зверских наклонностей над беззащитными
430
крепостными рабами,— эти строфы являются истинными перлами во всемирной поэзии.
Его поэмы, посвященные изображению ссылки и судьбы жен декабристов, последовавших за мужьями в Сибирь, отличаются высокими достоинствами, и в них найдется немало прекрасных отдельных мест, но в общем (они) стоят, пожалуй, ниже поэм, по священных крестьянской жизни, или его поэмы «Саша», в которой он, одновременно с Тургеневым, изобразил типы, тождественные с Рудиным и Наталией. Но и в них есть места, полные поэтических достоинств, а свидание Волконской с мужем на дне рудника — чудная страница всемирной поэзии.
Несомненно, что в стихотворениях Некрасова найдутся строки, показывающие, что поэту нелегко давалась борьба с рифмой; найдутся в его поэмах места совсем неудачные, но несомненно также и то, что он является одним из самых популярных поэтов России. Часть его произведений уже в настоящее время сделалась достоянием всего русского народа. Его читают не только люди образованных классов — Некрасов любимец читателей-крестьян. Один из наших критиков справедливо заметил, что для того, чтобы понять Пушкина, требуется большая или меньшая степень искус ственного литературного развития; для понимания же Некрасова крестьянину достаточно лишь уметь читать. Надо видеть самому, чтобы убедиться, с каким удовольствием читают Некрасова рус ские дети в беднейших деревенских школах и заучивают целые страницы его произведений наизусть.
***
«Гроза» — одна из лучших драм в современном репертуаре русской сцены. Пьеса эта со сценической точки зрения превос ходна. Каждая сцена в отдельности производит впечатление, действие драмы развивается быстро, и каждое из действующих лиц дает превосходную роль для артиста. Роли Дикого, Варвары
(ветреной сестры), Кабанова, Кудряша (возлюбленного Варва ры), старика, самоучки-механика, даже старой барыни с двумя лакеями, появляющейся всего на несколько минут во время гро зы,—каждая из этих ролей может дать высокое артистическое наслаждение актеру и актрисе, выполняющих ее; что же касается ролей Катерины и Кабановой — то ни одна великая артистка не побрезгует ими.
Переходя к главной идее драмы, я снова принужден буду пов торить сказанное мной по поводу других произведений русской литературы. На первый взгляд может показаться, что Кабанова и ее сын — исключительно русские типы, типы, более не сущест вующие в Западной Европе. Таково, по крайней мере, мнение некоторых английских критиков, но оно едва ли справедливо. Слабохарактерные, не умеющие отстоять себя Кабановы, может быть, действительно редко встречаются в Англии, или же их лу
431
кавая покорность не заходит так далеко, как это мы видим в «Гро зе». Но даже и для России Кабанов не особенно типичен. Что же касается его матери, старухи Кабановой, то каждому из нас не раз приходилось встречать ее в английской обстановке. В самом деле, кому не знаком тип старой леди, которая ради наслаждения властью, не желая расстаться с нею, держит своих дочерей при себе до седых волос, мешая им выйти замуж и притесняя их? Ле ди, которая на всякие манеры притесняет своих домашних. Дик кенс был хорошо знаком с Кабанихой, и она процветает в Англии до сих пор, как и в других странах.
***
Реализм в том смысле, какой придавался этому слову в настоя щей работе, т. е. реалистическое описание характеров и событий, подчиненное идеалистическим целям, является отличительной чертой драматических произведений Островского. Простота его сюжетов — удивительна, напоминая в этом отношении повести Тургенева. Вы видите жизнь — жизнь со всеми ее мелочами, раз вивающуюся перед вашими глазами, и вы наблюдаете, как из этих мелочных деталей неощутимо вырастает драматическая завязка.
«Сцена идет за сценой — все такие обыденные, будничные, серенькие, и вдруг совершенно незаметно развертывается перед вами потрясающая драма. Можно положительно сказать, что не действие пьесы разыгрывается, а сама жизнь течет по сцене мед ленно, незаметной струей. Точно как будто автор только всего и сделал, что сломал стену и предоставил вам смотреть, что дела ется в чужой квартире». В таких словах один из наших критиков, Скабичевский, характеризует творчество Островского.
Островский вывел в своих драматических произведениях гро мадное количество разнообразных характеров, взятых из всех классов русского общества и народа, но он навсегда распро стился со старым романтическим делением человеческих типов на «добродетельных» и «злодеев». В действительной жизни эти два деления сливаются, входят одно в другое. В то время как ан глийский драматический автор до сих пор не может представить себе драмы без «злодея», Островский не чувствовал надобности вводить в свои произведения это условное лицо. Равным образом не чувствовал он потребности следовать условным правилам «драматической коллизии» (столкновения).
***
...Островский, в противоположность всем его современни кам — писателям сороковых годов, не был пессимистом. Даже среди самых ужасных столкновений, изображенных в его драмах, он сохраняет жизнерадостность и понимание неизбежной фаталь
432
ности многих скорбей жизни. Он никогда не избегал изображения мрачных сторон из водоворота человеческой жизни и дал доста точно отвратительную коллекцию семейных деспотов из среды старого купечества, за которой следовала коллекция еще более отвратительных типов из среды промышленных «рыцарей нажи вы». Но он всегда, тем или иным путем, указывал на одновремен ное влияние лучших элементов или же намекал на возможную победу этих элементов. Таким образом, он не впал в пессимизм, столь свойственный его современникам, и в нем вовсе нет той склонности к истерии, какая, к сожалению, проявляется в неко торых из его современных последователей. Даже в моменты, когда в некоторых из его драм вся жизнь принимает самый мрачный оттенок (как, напр(имер), в «Грех да беда на кого не живет» — странице из крестьянской жизни, столь же реалистически мрачной, как «Власть тьмы» Толстого, но более сценичной),— даже в та кие моменты появляется луч надежды, по крайней мере, хоть в созерцании природы, если уже не остается ничего другого, чтобы прояснить мрак человеческого безумия.
И все же имеется одна черта творчества Островского, и притом очень важная, которая мешает Островскому занять во всемирной драматической литературе то высокое место, которое он заслужи вает по своему могучему драматическому таланту, мешает ему быть признанным одн<им) из великих драматургов XIX века. Дра матические конфликты в его произведениях все отличаются чрез вычайной простотой. Вы не найдете в них тех более трагических проблем и запутанных положений, которые сложная натура обра зованного человека нашего времени и различные стороны вели ких социальных вопросов постоянно создают теперь в конфлик тах, возникающих в каждом слое и классе общества. Надо, впрочем, прибавить, что еще не появился тот драматург, ко торый смог бы изображать великие современные проблемы жизни так же мастерски, как московский драматург изображал бо
лее простые проблемы, которые он наблюдал в знакомой ему обстановке 65.
***
«Губернские очерки» определили характер дальнейших про изведений Салтыкова. С каждым годом его талант укреплялся и его сатира отличалась все более глубоким пониманием совре менной цивилизованной жизни и тех многообразных форм, в ко торых в наше время выливается борьба реакции против прогрес са. В «Невинных рассказах» Салтыков коснулся некоторых наибо лее трагических сторон крепостного права. Позже, в изображениях современных рыцарей промышленности и плутократии, с их страстью к наживе и удовольствиям низменного рода, их бессер дечием и их безнадежной низостью, Салтыков достиг вершин опи сательного искусства; но, может быть, еще более ему удались изображения того «среднего человека», который не обладает
15 П. А. Кропоткин
433
сильными страстями, но вместе с тем, дабы спокойно наслаждать ся филистерским благополучием, не остановится ни перед каким преступным деянием, направленным против лучших людей своего времени, а если понадобится, то с удовольствием также протя нет руку худшим врагам прогресса. Производя сатирическую экзекуцию над этим «средним человеком», который вследствие своей неудержимой трусости так роскошно расцвел в России, Салтыков создал свои лучшие творения. Но когда ему приходи лось касаться тех, которые являются действительными гениями реакции, тех, которые держат «среднего человека» в постоянном страхе и, если нужно, вдохновляют реакцию смелостью и жесто костью, сатира Салтыкова или отступала перед этой задачей, или же ее нападения были скрыты за той массой комических эпи зодов и «эзоповских» выражений, что яд сатиры совершенно ис парялся.
Когда реакция взяла верх в 1863 году и проведение реформ, задуманных в пору освобождения крестьян, попало в руки людей, в душе ненавидевших все эти реформы; когда, с другой стороны, крепостники употребляли все усилия если не возродить кре постное право, то по крайней мере вернуть крестьян в порабоще ние путем тяжелых налогов и непомерных аренд, Салтыков в ряде блестящих сатир прекрасно обрисовал эти классы людей. Его «История одного города» — в сущности, сатирическая история России, полная намеков на современные события. «Дневник про винциала в Петербурге», «Письма из провинции» и «Помпадуры» принадлежат к этой же серии; в «Господах ташкентцах» он изобразил ту толпу проходимцев, которая бросилась искать обогащения, проводя железные дороги, выступая адвокатами по
-грязным делам и расхищая новозавоеванные территории. В этих очерках, а равным образом в тех, которые он посвятил описанию печальных и иногда психопатических продуктов крепостного пра ва («Господа Головлевы», «Пошехонская старина»), он создал
типы, которые, как, напр(имер), Иудушка, могут быть, по мнению некоторых русских критиков, поставлены наряду с образами Шек спира и действительно не уступают лучшим типам Гончарова и Тургенева.
Конечно, крестьяне Тургенева (Тула и Орел) отличаются большей реальностью, его типы более ясно очерчены, а любой из современных беллетристов-народников, даже из менее талантли вых, пошел дальше Григоровича в исследовании характера и жиз ни крестьянства. Но повести Григоровича, при всех указанных недостатках, оказали огромное влияние на целое поколение. Они научили нас любить крестьян и чувствовать всю тяжесть долга, лежащего на нас,— образованной части общества — по отно шению к крестьянству. Повести эти чрезвычайно помогли разви
434
тию того общего чувства сожаления к положению крепостных, без которого уничтожение крепостного права было бы отодвинуто на много лет и во всяком случае не имело бы такого решительного характера. В более позднюю эпоху его произведения, несомненно, имели влияние на создание того движения «в народ», которое на чалось в семидесятых годах 66.
***
Дети духовенства получают у нас даровое образование в шко лах духовного ведомства, а после некоторые из них идут в семи нарии, и Н. Г. Помяловский (1835 — 1863) приобрел свою пер вую громкую известность описанием возмутительных методов воспитания, практиковавшихся в этих школах в 40-х и 50.-х годах прошлого столетия. Он был сыном бедного дьякона в деревне под Петербургом, и ему самому пришлось пройти через одну из этих школ и через семинарию. Как высшие, так и низшие духовные школы были тогда в руках совершенно необразованного духовен ства — преимущественно монахов, и главным предметом обучения было самое нелепое заучивание наизусть абстрактнейшей теоло гии. Общий нравственный уровень школ был чрезвычайно низок; в них господствовало почти повальное пьянство, а главным побу дительным средством к образованию считалось сечение за каж дый не выученный наизусть урок, причем секли иногда по два и по три раза в день с утонченной жестокостью. Помяловский страстно любил своего младшего брата и во что бы то ни стало хотел спасти его от тех жестоких испытаний, которые пришлось перенести ему самому. Он начал писать в педагогических журналах о положе нии образования в духовных школах с целью добыть таким путем средства, чтобы поместить своего брата в гимназию. Вслед за тем появился ряд его чрезвычайно талантливых очерков, изображав ших жизнь в этих школах, причем целый ряд священников, кото рые сами были жертвами подобного «образования», подтвердил в газетах справедливость обличений Помяловского. Истина без каких-либо прикрас, голая истина с полным отрицанием форму лы «искусства для искусства» явилась отличительной чертой творчества Помяловского.
Наряду с очерками из жизни школ духовного ведомства и ду ховенства Помяловский написал также две повести из жизни мелкой буржуазии — «Мещанское счастье» и «Молотов», в кото рые внесен в значительной степени автобиографический элемент. После него осталась также неоконченная повесть более обшир ных размеров «Брат и сестра». Он проявил в этих произведени ях тот широкий, гуманный дух, который воодушевлял Достоев ского, отмечая гуманные черты в наиболее падших созданиях; но произведения его отличались той здоровой реалистической тенденцией, которая была отличительной чертой молодой литера турной школы, одним из основателей которой он был сам. Он изоб
15!
435
разил также чрезвычайно сильно и трагически человека, вышед шего из бедных слоев, который напоен ненавистью против высших классов и против всех форм социальной жизни, существующих лишь для удобств этих классов, но в то же самое время не обла дает достаточной верой в свои силы, той верой, которую дает ис тинное знание и которой всегда обладает всякая истинная сила. Вследствие этого его герой кончает или филистерской семейной идиллией, или, если она не удавалась, пропагандой безрассудной жестокости и презрения ко всему человечеству — как единственно возможного основания личного счастья.
***
Горький не выносит хныканья; он не выносит самобичевания, столь сродного некоторым писателям, так поэтически выражае мого тургеневскими гамлетизированными героями, возведенного в добродетель Достоевским и образчики которого встречаются в России в таком бесконечном разнообразии. Горькому знаком этот тип, но он безжалостен к подобным людям. Она предпочтет любого мерзавца этим эгоистическим слабосильным людям, ко торые всю жизнь занимаются самогрызением, принуждая других пить с ними для того, чтобы разводить перед слушателем длинные рацеи об их якобы «пламенеющих душах»; он презирает эти су щества, «полные сочувствия», которое не идет, однако, дальше самосожаления, и «полные любви», которая, в сущности, не что иное, как себялюбие. Горький прекрасно знает этих людей, кото рые всегда ухитряются разбить жизнь женщин, доверяющих им; которые не остановятся даже перед убийством и все же будут хныкать, ссылаясь на обстоятельства, которые довели их до этого. «И вижу я, что не живут люди, а все примеряются и кладут на это всю свою жизнь»,— говорит старуха Изергиль в рассказе под тем же названием. «И когда обворуют себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж?.. И красавцев становится все меньше!» (Рассказы, I, 126)6,7.
Зная, как русские интеллигенты страдают этой болезнью хны канья, зная, как редки среди них агрессивные идеалисты — дей ствительные мятежники — и как, с другой стороны, многочислен ны Неждановы (герой тургеневской «Нови»), даже среди тех, которые покорно отправляются в Сибирь, Горький избегает брать свои типы из интеллигентной среды, думая, что интеллигенты чересчур легко делаются «пленниками жизни».
В «Вареньке Олесовой» Горький вылил все свое презрение к среднему «интеллигенту» начала 90-х годов. Он выводит в этом рассказе интересный тип девушки, полной жизни; это — чрезвычайно первобытное существо, совершенно незатронутое идеалами свободы и равенства; но девушка эта полна такой уси
436
ленной жизненности, так независима, так правдива по отношению к самой себе и к окружающим, что возбуждает глубокий инте рес. Она встречается с одним из тех интеллигентов, которые зна комы с высшими идеалами и преклоняются перед ними, но в то же время — слабняки, вполне неспособные к здоровой жизни. Ко нечно, Вареньке смешна даже идея, чтобы подобный человек мог влюбиться в нее, и Горький заставляет ее следующим образом характеризовать обычных героев русских повестей: «Русский ге рой какой-то глупый и мешковатый, всегда ему тошно, всегда он думает о чем-то непонятном и всех жалеет, а сам-то жалкий-пре- жа-алкий! Подумает, поговорит, пойдет объясняться в любви, потом опять думает, пока не женится... а женится — наговорит жене кислых глупостей и бросит ее...» («Варенька Олесова», II, 281).
Как мы уже говорили ранее, любимый тип Горького — это «мятежник», человек, находящийся в состоянии полного возму щения против общества и в то же время мощный, сильный. Так как ему приходилось встречать этот тип хотя бы в зародышевом состоянии среди бродяг и босяков, с которыми он жил, то он берет из этого слоя общества своих наиболее интересных героев.
В «Коновалове» Горький сам до известной степени дает пси хологию своего героя — босяка. Это — «интеллигент среди оби женных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полузверей, наполняющих грязные трущобы городов». Это — люди, «в массе своей существа от всего оторванные, всему враждебные и надо всем готовые испробовать силу своего озлобленного скептицизма»
(И, 23). Босяк Горького чувствует, что ему не повезло в жизни, но он не ищет оправдания себе в обстоятельствах. Коновалов, например, не допускает справедливости теории, которая в таком ходу между образованными неудачниками, а именно, что он якобы является печальным продуктом «неблагоприятных обстоятельств». Он говорит: «Жизнь у меня без всякого оправдания... Живу и тос кую... Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет... Понима ешь? Как бы это сказать? Этакой искорки в душе нет... Силы, что ли? Ну, нет во мне одной штуки — и все тут!» И когда его молодой друг, начитавшийся в книгах разных извинений и оправданий для слабости характера, указывает на «разные темные силы», окружающие человека, Коновалов говорит ему: «Упрись крепче!.. Найди свою точку и упрись!»
Некоторые из босяков Горького, как и следовало ожидать, склонны к философствованию. Они задумываются над человече ской жизнью и имели возможность узнать ее.
«Каждый человек,— говорит он,— боровшийся с жизнью, по бежденный ею и страдающий в безжалостном плену ее грязи, более философ, чем сам Шопенгауэр, потому что отвлеченная мысль никогда не выльется в такую точную и образную форму, в какую выльется мысль, непосредственно выдавленная из че ловека страданием» («Коновалов», И, 31).
437
Любовь к природе является другой характерной чертой бося ков: «Коновалов любил ее (природу) глубокой, бессловесной любовью, выражавшейся только мягким блеском его глаз, и всег да, когда он был в поле или на реке, он весь проникался каким-то миролюбиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с ребенком. Иногда он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо: «Эх!., хорошо!..» И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем ^ риторических фигурах мно гих поэтов... Как все-таки и поэзия теряет свою святую просто
ту и непосредственность, когда из поэзии делают профессию» (II, 33 — 34).
Но должно заметить, что мятежный босяк Горького — не «ницшеанец», игнорирующий все за пределами узкого эгоизма или воображающий себя «сверхчеловеком». Для создания чисто ницшеанского типа необходимо «болезненное честолюбие» «ин теллигента». В босяках Горького, как и в изображаемых им жен щинах самого низшего класса, имеются проблески величия харак тера и простоты, несовместимых с самообожанием «сверхчело века». Он не идеализирует их настолько, чтобы изображать их действительными героями; это не соответствовало бы жизненной правде: босяк — все-таки побежденное существо. Но он показы вает, как у иных из этих людей, вследствие сознания ими собст венной силы, бывают моменты величия, хотя силы этой все-таки не хватает, чтобы создать из Орлова («Супруги Орловы») или Ильи («Трое») действительных героев — людей, способных бо роться с противниками, обладающими силами более значитель ными, чем какими обладают они сами. Горький как бы задает вопрос: «Почему вы, интеллигенты, не имеете такой же яркой индивидуальной окраски, не так открыто мятежны против об щества, которое вы критикуете? Почему вы не обладаете силой, присущей некоторым из этих отверженных?» Ведь «не своротить камня с пути думою!»68
***
Снова и снова Горький возвращается к идее о необходимости идеала для беллетриста. «Причина современного шатания мыс ли,— говорит он в «Ошибке»,— в оскудении идеализма. Те, что изгнали из жизни весь романтизм, раздели нас донага; вот отчего мы стали друг к другу сухи, друг другу гадки» (I, 151). Позже, в «Читателе» (1898), он вполне развертывает свое художествен ное вероисповедание. Он рассказывает, как одно из его ранних произведений было по напечатании прочтено в кружке друзей. Он получил за него много похвал и, простясь с друзьями, шел по пустынной улице, чувствуя в первый раз в своей жизни счастье; но в это время человек, незнакомый ему и которого он не заметил в кружке слушателей, нагоняет его и начинает говорить ему об
обязанностях автора.
438
«Вы согласитесь со мной,— говорит незнакомец,— если я ска жу, что цель литературы — помогать человеку понимать себя са мого, поднять его веру в себя и развить в нем стремление к исти не, бороться с дурным в людях, уметь найти хорошее в них, воз буждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтобы люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты» (III, 241 — 242)
«Мы, кажется, снова хотим грёз, красивых вымыслов, мечты и странностей, ибо жизнь, созданная нами, бедна красками, туск ла, скучна!.. Попробуем, быть может, вымысел и воображение помогут человеку подняться ненадолго над землей и снова выс
мотреть на ней свое место, потерянное им!» (245)
Но далее Горький делает признание, которое, может быть, объясняет, почему он не мог создать более обширного романа,
с полным развитием характеров. «Я открыл в себе,— говорит он,— немало добрых чувств и желаний, немало того, что обыкновенно называют хорошим, но чувства, объединяющего все это, стройной и ясной мысли, охватывающей все явления жизни, я не нашел в себе» (III, 247). Читая это признание, тотчас вспоминаешь о Тургеневе, который видел в подобной «свободе», в подобном объединенном понимании мира и жизни первое условие для того, чтобы сделаться крупным художником.
«Можешь ли ты,— продолжает спрашивать Читатель,— создать для людей хотя бы маленький, возвышающий душу об ман? Нет!..» «...Все вы, учителя наших дней, гораздо больше отни маете у людей, чем даете им, ибо вы все только о недостатках говорите, только их видите. Но в человеке должны быть и достоин ства; ведь в вас они есть? А вы, чем вы отличаетесь от дюжинных, серых людей, которых изображаете так жестоко и придирчиво, считая себя проповедниками, обличителями пороков ради торже ства добродетели? Но замечаете ли вы, что добродетели и пороки вашими усилиями определить их только спутаны, как два клубка ниток, черных и белых, которые от близости стали серыми, вос приняв друг от друга часть первоначальной окраски? И едва ли Бог послал вас на землю... Он выбрал бы более сильных, чем вы. Он зажег бы сердца их огнем страстной любви к жизни, к истине, к людям...» (с. 249)
«Все будни, будни, будничные люди, будничные мысли, собы тия,— продолжает безжалостный Читатель,— когда же будут го ворить о духе смятенном и о необходимости возрождения духа? Где же призыв к творчеству жизни, где уроки мужества, где доб рые слова, окрыляющие душу?» (250)
«Ибо сознайся! — ты не умеешь изображать так, чтобы твоя картина жизни вызывала в человеке мстительный стыд и жгучее желание создать иные формы бытия... Можешь ли ты ускорить биение пульса жизни, можешь ли ты вдохнуть в нее энергию, как это делали другие?» (251)
«Я вижу вокруг себя много умных людей, но мало среди них людей благородных, да и те, которые есть, разбиты и больны
439
душой. И почему-то всегда так наблюдаю я: чем лучше человек, чем чище и честнее душа его, тем меньше в нем энергии, тем болез неннее он и тяжело ему жить... Но как ни много в них тоски о луч- щем, в них нет сил для создания его» (251)
«И еще,— снова заговорил мой странный собеседник,— мо жешь ли ты возбудить в человеке жизнерадостный смех, очищаю щий душу? Посмотри, ведь люди совершенно разучились хорошо смеяться!» (251)
«Не в счастье смысл жизни, и довольством собой не будет удовлетворен человек — он все-таки выше этого. Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель» (254)
«Гнев, ненависть, мужество, стыд, отвращение и, наконец, злое отчаяние — вот рычаги, которыми можно разрушить все на земле». «Но что вы можете сделать для возбуждения в нем жаж ды жизни, когда вы только ноете, стонете, охаете или равнодуш но рисуете, как он разлагается?» (252 — 253)
«О, если б явился суровый и любящий человек с пламенным сердцем и могучим всеобъемлющим умом! В духоте позорного молчания раздались бы вещие слова, как удары колокола, и, может быть, дрогнули бы презренные души живых мертвецов!..»
(253).
Эти же идеи Горького о необходимости чего-нибудь лучшего,
чем обыденная жизнь, чего-нибудь возвышающего душу положе ны в основание его драматического произведения «На дне», ко торое имело такой успех в Москве, но которое, будучи сыграно той же труппой в Петербурге, не вызвало особенного энтузиазма. Идея этого произведения напоминает «Дикую утку» Ибсена. Обитатели ночлежного дома могут кое-как жить, лишь пока у них имеются какие-либо иллюзии: пьяница-актер мечтает об излечении от пьянства в каком-нибудь специальном заведении; падшая девуш ка ищет убежища в иллюзии о действительной любви и т. д. И дра матическое положение этих существ, у которых и так мало нитей, привязывающих их к жизни, становится еще более острым, когда
эти иллюзии разрушаются. Этот драматический этюд Горького очень силен. Но на сцене он должен несколько терять вследствие некоторых чисто технических ошибок (бесполезный четвертый акт, введение торговки Квашни, появляющейся только в первом акте и потом исчезающей); но помимо этих ошибок сцены чрезвы чайно драматичны. Положение отличается действительным тра гизмом, действие — быстро, а разговоры обитателей ночлежного дома и их философия жизни воспроизведены с замечательным искусством. Вообще чувствуется, что Горький еще не сказал пос леднего слова. Является только вопрос: найдет ли он среди тех классов общества, среди которых он теперь вращается, дальней шее развитие — несомненно, существующее — тех типов, которые он лучше всего понимает? Найдет ли он среди них дальнейшие материалы, соответствующие его эстетическому вероисповеданию, которое было до сих пор источником его сил?69
440
***
Если читать очерки и рассказы Чехова в хронологической по следовательности, автор сначала предстает полный жизнерадост ности и молодого веселья. Рассказы этого периода почти все от личаются чрезвычайной краткостью; многие из них занимают лишь три-четыре страницы, но они полны заразительной весе лостью. Некоторые из них — просто фарсы, но нельзя удержать ся при чтении их от самого сердечного смеха, так как даже самые, казалось бы, нелепые по сюжету и невозможные из них написаны с неподражаемой прелестью. Потом в эту же среду веселого смеха понемногу вкрадываются там и сям черточки бессердечной вульгарности со стороны кого-нибудь из действующих лиц рас сказа, и вы чувствуете, что сердце автора сжимается от боли. По немногу, постепенно эта нота все учащается и учащается; она все более заставляет обратить на себя внимание; она перестает быть случайной и становится органической, и, наконец, в каждом рассказе, в каждой повести она уже становится главной преобла
дающей нотой. Рассказывает ли автор о легкомысленном бессер дечии молодого человека, который «шутки ради» заставляет мо лодую девушку думать, что он ее любит, или об отсутствии самых простых человеческих чувств в семье старого профессора — всег да звучит та же нота бессердечия и пошлости, то же отсутствие более утонченных человеческих чувств или — что еще хуже— полное интеллектуальное и моральное банкротство «интелли генции».
Герои Чехова — не из тех людей, которые никогда не слыхали лучших слов или вовсе незнакомы с идеями, более высокими, чем те, которые обращаются в низших слоях филистеров. О нет, они слыхали такие слова, и когда-то их сердца тоже бились горячо при звуке этих слов. Но пошлая обыденная жизнь заглушила все такие стремления, апатия пришла на смену, и в удел им осталось одно прозябание изо дня в день посреди самой безнадежной пош лости. Пошлость, изображаемая Чеховым, начинается потерей веры в собственные силы и постепенной утратой всех тех ярких надежд и иллюзий, которые составляют прелесть всякой деятель ности; и тогда шаг за шагом, капля по капле пошлость постепен но иссушает сами источники жизни: остаются разбитые надеж
ды, разбитые сердца, разрушенная энергия. Человек достигает такого состояния, когда он может только механически повторять изо дня в день известные действия и валится в кровать, радуясь, что ему удалось убить как-нибудь время; им постепенно овладе вает полная умственная апатия, полное нравственное безразли чие. Хуже всего то, что самое обилие образчиков этой пошлости, даваемых Чеховым из самых разнообразных слоев общества, причем он никогда не повторяется, как бы указывает, что мы име ем дело с гнилостью данной цивилизации целой эпохи, раскрывае
мой автором перед нами.
441
Говоря о Чехове, Толстой сделал очень верное замечание, что он принадлежит к числу тех немногих писателей, произведе ния которых можно с удовольствием перечитывать. Это совер шенно верно. Любое из произведений Чехова,— будет ли это кро шечная безделка, или небольшая повесть, или комедия,— произ водит впечатление, которое не скоро забывается. В то же время оно отличается таким обилием деталей, превосходно подобран ных для увеличения впечатления, что перечитывать его всегда доставляет новое удовольствие. Чехов, несомненно, был великим
художником. Разнообразие мужских и женских типов из всех клас сов общества, появляющихся в его произведениях, и разнообразие психологических сюжетов — поистине поразительно. Но, несмотря на это, каждый рассказ носит такой отпечаток личности автора, что при чтении самого незначительного из них вы тотчас узнаёте Чехова, его собственную индивидуальность и манеру, его понима ние людей и явлений .
***
Его область — мир «интеллигентов», образованной и полуоб разованной части русского общества, и этот мир он знает в совер шенстве. Он указывает на банкротство той «интеллигенции», на ее неспособность разрешить выпавшие на ее долю великие исто рические задачи мирового обновления и на пошлость и вульгар ность обыденной жизни, под гнетом которой увядает большинство этой «интеллигенции». Со времен Гоголя еще ни один русский писатель не изображал с такой поразительной верностью челове ческой пошлости во всех ее разнообразных проявлениях. Но какая вместе с тем разница между этими двумя писателями? Гоголь изображал главным образом внешнюю пошлость, бросающуюся в глаза и нередко переходящую в фарс, которая вследствие этого в большинстве случаев вызывает улыбку или смех. Но смех всег да — уже шаг к примирению. Чехов также в своих ранних произ ведениях заставляет читателя смеяться, но, по мере того как ухо дит молодость, он начинает смотреть более серьезно на жизнь, смех исчезает, и, хотя остается тонкий юмор, вы чувствуете, одна ко, что те виды пошлости и филистерства, которые он теперь изоб ражает, вызывают в самом авторе не смех, а душевную боль. «Че ховская печаль» так же характерна для его произведений, как глубокая складка посреди лба на его добром лице, освещенном живыми, задумчивыми глазами. Более того, пошлость, изобра жаемая Чеховым, глубже той, которую знал Гоголь. В глубинах души современного образованного человека происходят более глубокие столкновения, о которых Гоголь семьдесят лет тому на зад ничего не знал. «Печаль» Чехова более впечатлительного и утонченного характера, чем «незримые слезы» гоголевской са тиры 71.
442
***
В 1862 году Чернышевский был арестован и, находясь в кре пости, написал замечательную повесть «Что делать?». С художе ственной точки зрения повесть не выдерживает критики, но для русской молодежи того времени она была своего рода откровени ем и превратилась в программу. Вопрос о браке и расхождении супругов, в случае необходимости, сильно занимал тогда русское общество. Замалчивать подобные вопросы в то время было поло жительно невозможно. И Чернышевский обсуждал их в своей повести, разбирая отношения своей героини, Веры Павловны, к ее мужу, Лопухову, и к молодому доктору, которого она полю била после замужества. При этом он давал единственно возмож ное решение, которое и честность и здравый смысл подсказывали в подобных случаях. В то же самое время он проповедовал — в прикровенной форме, но вполне понятно для читателей фурь еризм, изображая в привлекательном виде коммунистические ассоциации производителей. Он также изобразил в своей повести типы действительных «нигилистов», наглядно указав таким обра зом их различие от тургеневского Базарова. Ни одна из повестей Тургенева, никакое произведение Толстого или какого-либо дру гого писателя не имели такого широкого и глубокого влияния на русскую молодежь, как эта повесть Чернышевского. Она сдела лась своего рода знаменем для русской молодежи, и идеи, пропо ведуемые в ней, не потеряли значения и влияния вплоть до настоя щего времени.
...Едва ли найдется другой писатель, которого так ненавидели бы его политические противники. Но даже эти противники должны признать теперь громадные заслуги, оказанные им России в эпоху уничтожения крепостного права, и воспитательное значение его публицистической деятельности 72.
***
Главным средством для выражения политической мысли в Рос сии в течение последних пятидесяти лет была литературная кри тика, которая вследствие этого достигла у нас такого развития и получила такое значение, каких мы не встречаем нигде, кроме России.
...Литературная критика в России имела некоторые свои спе циальные черты, не встречающиеся в других странах. Она не огра ничивалась критикой произведений искусства с чисто литератур ной или эстетической точки зрения. Конечно, русский критик, как и все другие, прежде всего рассматривал, были ли, например, Рудин или Катерина типами, взятыми из живой действительно сти? Была ли повесть или драма хорошо построена, хорошо раз вита, хорошо написана? Но на эти вопросы недолго ответить,
443
а между тем есть целый ряд вопросов, несравненно более важ ных, которые возникают во вдумчивом читателе при чтении каж дого произведения, действительно принадлежащего к области хорошего искусства: вопросы, в данном примере, относительно положения Рудина или Катерины в обществе; о роли, плохой или хорошей, которую они играют в обществе; об идеях, вдохновляю щих их, и о ценности этих идей; а затем — обсуждение самих по ступков этих героев и их причин, как индивидуальных, так и об щественных. В хорошем произведении искусства поступки героев, очевидно, бывают таковы, какими они были бы, при одинаковых условиях, в действительной жизни: иначе литературное произве дение принадлежало бы к плохому искусству. Следовательно, по ступки героев могут обсуждаться как факты действительной жизни.
Но эти поступки, а также их причины и последствия открывают перед вдумчивым критиком самые широкие горизонты: они дают ему возможность оценивать как идеалы, так и предрассудки об щества, анализировать людские страсти, обсуждать типы, наибо лее часто встречающиеся в данный момент, и т. д. В сущности, хорошее произведение искусства дает материал для обсуждения почти всех взаимных отношений данного типа в обществе. Автор, если он мыслящий поэт, уже сам — сознательно, а чаще бессоз нательно — принял в соображение все это. Он вкладывал в свое произведение свой жизненный опыт. Почему же критик не может раскрыть перед читателем все эти мысли, которые должны были мелькать в голове автора — иногда полусознательно, когда он создавал ту или иную сцену или рисовал такой-то уголок челове ческой жизни?
Это самое и делали русские литературные критики последне го пятидесятилетия, а так как поле романа и поэзии безгранично, то едва ли найдется какой-нибудь крупный, социальный или об щечеловеческий вопрос, который не подвергался бы обсуждению в их критических статьях. Вследствие этого мы видим также, что произведения вышеназванных четырех критиков читаются теперь с такой же жадностью, как и во время их появления, двадцать или пятьдесят лет тому назад: они не потеряли ни своей свежести, ни интереса, потому что если искусство является школой жизни, то тем более это можно сказать о подобных критических произве дениях 73.
***
Сказать, что В. Г. Белинский (1811 — 1848) был высокоода ренный литературный критик, и ограничиться этой характеристи кой невозможно. Он был, в сущности,— в чрезвычайно важный момент общечеловеческого развития — учителем и воспитателем русского общества не только в области искусства — его ценности, его задач, его объема, но также в области политики, социальных вопросов и гуманитарных стремлений.
444
Под влиянием реализма Гоголя, лучшие произведения кото рого тогда начали появляться, он стал понимать, что действитель ная поэзия — всегда реальна; что она должна быть поэзией жиз ни и действительности. Под влиянием политического движения, которое шло тогда во Франции, Белинский воспринял передовые политические идеи. Он был блестящий стилист, и все написанное им полно такой энергии и вместе с тем носит такой верный отпеча ток его чрезвычайно симпатичной личности, что произведения его всегда оставляли глубокое впечатление у читателей. В новом периоде его деятельности все его стремления к великому и высоко му, вся его безграничная любовь к истине, которые он раньше посвящал личному самосовершенствованию и идеальному искус ству, были отданы теперь на служение человеку в бедных рамках русской действительности. Он безжалостно разбирал эту действи тельность, и всякий раз, как он замечал или только инстинктивно чувствовал в разбираемых им произведениях неискренность, на пыщенность, отсутствие общественного интереса, привержен ность к архаическому деспотизму или рабству в какой бы то ни было форме — включая рабство женщины,— он сражался с заме ченным им злом со всей присущей ему энергией и страстностью. Он сделался таким образом политическим писателем в лучшем значении этого слова, будучи в то же самое время художествен ным критиком; он стал учителем высших гуманитарных прин ципов.
Влияние Добролюбова нельзя приписать особенной опреде ленности его литературного критерия или какой-либо определен ной программе активной деятельности. Но он был один из наибо лее чистых и наиболее основательных представителей того типа новых людей — реалистов-идеалистов,— появление которых Тургенев подметил в конце 50-х годов. Поэтому во всем, что он писал, каждый чувствовал личность автора, высоконравственного, достойного полного доверия, слегка аскетического «ригориста», обсуждавшего все факты жизни с точки зрения «Что хорошего это может принести трудящимся массам?» или «Как трудящиеся массы отнесутся к таким-то литературным типам?». К профес сиональным эстетикам он относился с величайшим презрением, что не мешало ему глубоко чувствовать и наслаждаться великими произведениями искусства. Он не осуждал Пушкина за его легко мыслие или Гоголя за отсутствие идеалов. Он не давал советов — писать повести или поэмы с заранее обдуманной тенденцией, зная, что это не может дать хороших результатов, если самого автора не захватила такая-то жизненная задача. Он допускал, что ве ликие гении были правы, творя бессознательно, потому что по нимал, что истинный художник может творить лишь тогда, когда глубоко затронут тем или иным явлением действительности. Он
445
предъявлял лишь одно требование к произведению искусства, а именно: верно и точно передает оно жизнь или нет? В послед нем случае он отворачивался от него; но если произведение верно рисовало жизнь, тогда он писал этюд об этой жизни, изображен ной художником, и его статьи были, в сущности, этюдами, посвя щенными нравственным, политическим и экономическим вопро сам,— произведение искусства давало ему лишь факты для об суждения. Этим объясняется влияние Добролюбова на его современников, подобные этюды, написанные таким человеком, являлись настоятельной потребностью того взволнованного вре мени, подготовляя лучших людей для грядущей борьбы. Они были школой политического и нравственного образования.
***
...Влияние Писарева на молодежь его времени, а следователь но, и на ту долю, которую эти люди позднее привнесли в сокровищ ницу прогресса страны, было так же велико, как и Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Опять-таки совершенно невоз можно определить характер и причину этого влияния, если огра ничиться указанием на основные начала писаревской литератур ной критики. Его руководящие идеи в этой области могут быть объяснены в немногих словах: его идеалом был «мыслящий ре алист» — тип, который в то время был изображен Тургеневым в Базарове и который был развит далее Писаревым в его крити ческих этюдах. Подобно Базарову, он не был высокого мнения об искусстве вообще, но, в виде уступки, требовал, чтобы русское ху дожество по крайней мере достигало той высоты, какую он ви дел в произведениях Гете, Гейне и Бернс,— произведениях, воз вышающих человечество; в противном же случае люди, болтаю щие постоянно о художественности, но не производящие ничего равного выставленному им идеалу, должны были бы, по мнению Писарева, отдать свои силы на нечто более для них доступное и полезное. Поэтому он посвятил несколько чрезвычайно обрабо танных статей развенчанию «пустой» поэзии Пушкина. В этике он целиком сходился с «нигилистом» Базаровым, который единст венным авторитетом считал собственный разум. И он думал (подобно Базарову, в разговоре последнего с Павлом Петрови чем), что главной задачей в то время было развитие совершенно
го, научно развитого реалиста, который мог бы разорвать со всеми традициями и ошибками старого времени и стал бы работать, глядя на человеческую жизнь, как здравомыслящий реалист. Писарев даже сам сделал кое-что для распространения здравых естественнонаучных познаний, получивших внезапное развитие в те годы, и написал замечательное изложение принципов дарви низма в ряде статей, озаглавленных «Прогресс в мире растений и животных».
Но, как совершенно верно заметил Скабичевский, все это не
446
определяет еще положения Писарева в (среде) русской молодежи. В своих критических статьях он воплотил только известный мо мент в развитии русской молодежи, со всеми свойственными юно сти преувеличениями. Действительная причина влияния Писа рева лежала в ином, и мы можем пояснить это влияние лишь сле дующим примером. Появилась повесть, в которой автор изобра зил девушку добродушную, честную, но совершенно необразован ную, с мещанскими понятиями о счастье и жизни, исполненную обычных предрассудков. Она влюбляется, и ее постигают всякого рода несчастья. Девушка эта, как сразу догадался Писарев, не была выдумкой автора. Тысячи таких девушек существуют в дей ствительности, и их жизнь проходит так, как указал автор. Это, по определению Писарева,— «кисейные барышни». Их мировоз зрение не выходит за пределы их кисейного платья. И он доказы вал, что подобные девушки с их «кисейным образованием» и «ки сейными понятиями» неминуемо, в конце концов, должны быть несчастны. Эта статья Писарева, которую прочли и читают до сих пор тысячи девушек в образованных русских семьях, застав ляет массу молодых людей сказать себе: «О нет! Я никогда не буду похожа на эту бедную кисейную барышню. Я буду учиться; я буду мыслить, и я завоюю для себя лучшее будущее». Почти каждая статья Писарева имела подобное же влияние. Они открывали глаза молодым людям на тысячи тех мелочей жизни, на которые мы, по привычке, не обращаем внимания, но сумма которых соз дает ту удушливую атмосферу, в которой задыхались героини «Крестовского—псевдонима». От этой жизни, обещающей лишь обман, скуку и чисто растительное существование, он звал моло дежь обоего пола к жизни, озаренной светом науки, жизни труда, широких взглядов и симпатий, которая открывалась для «мысля щего реалиста».
МЫСЛИ, СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ
***
Европа представляет в настоящую минуту печальное, но по учительное зрелище. С одной стороны, мы видим усиленное дви жение дипломатов и маклеров по торговле народами, усиливаю щееся каждый раз, как только на старом континенте запахнет порохом. Создаются и разрушаются союзы; целыми областями и их населениями торгуют, как скотом: их продают, чтобы обеспе чить себе союзников. «Наш торговый дом гарантирует вашему столько-то голов человеческого стада, столько-то десятин лугов, чтобы их пасти, такие-то порты для вывоза их шерсти!», и все в этом торге стараются наперерыв обойти друг друга. На поли тическом, воровском языке это называется дипломатией.
С другой стороны, мы видим бесконечные вооружения. Каж
447
дый день приносит нам новые изобретения ради более успешного истребления наших ближних, новые расходы, новые займы, но вые налоги. Издавать патриотические возгласы, объявлять себя воинствующим патриотом, раздувать ненависть между народами становится ныне самым выгодным ремеслом и в политике, и в га зетном деле. При этом не щадят даже детей: мальчуганов соби рают в казармы и воспитывают в них ненависть к пруссаку, к ан гличанину, к итальянцу; их приучают слепо повиноваться прави телям настоящей минуты, будь они синие, белые или черные — все равно. А когда этим детям минет двадцать один год, их нагру жают, как вьючных скотов, пулями, провизией, оружием, лопата ми, хозяйственными принадлежностями и всякой всячиной, дают в руки ружье, велят маршировать под трубные звуки и учат ду шить друг друга направо и налево, никогда не справляясь о том, зачем и для какой цели это нужно? «Кто бы ни стоял перед вами: немецкие или итальянские бедняки или даже ваши собственные братья, восставшие из-за куска хлеба,— все равно: как только раздастся сигнал, убивайте без разбора!»
Вот к чему приводит вся мудрость наших правителей и воспи тателей! Вот все, что они сумели дать нам как идеал, и это — в то время, когда бедняки всех стран уже протягивают друг другу руки поверх государственных границ!74
***
...Всякая война ведет за собой безработицу, остановку произ водства, торговые кризисы, усиление налогов, увеличение госу дарственных и областных долгов. Мало того. Каждая война ста новится нравственным поражением государства, потому что после каждой войны народ замечает, что государство оказалось никуда не годным даже в том, что считается главной его обязанностью: если на него нападают, оно не умеет защитить свою землю; даже в случае победы оно теряет в уважении своих граждан. Вспомним только брожение умов, начавшееся после войны 1871 года одина ково во Франции и в Германии, несмотря на временное увлечение немцев военщиной; вспомним недовольство в России после войны 1877 года.
Войны и вооружения добивают государства; они ускоряют их нравственную и экономическую несостоятельность. Еще две-три больших войны, и они нанесут последний удар этим уже разлагаю щимся механизмам.
***
Государство— это покровитель крепостного права, покрови тель мироедства, заступник хищничества, защитник собственно сти, основанной на захвате чужой земли и чужого труда! Тому, у кого ничего нет, кроме рук да готовности работать, тому нечего
448
ждать от государства. Для него оно — просто сила, ставшая по перек его освобождению.
Всё — для богатого бездельника! Всё — против трудящегося бездомного работника! Образование, чтобы с детства испортить ребенка, вселяя ему всевозможные предрассудки и набивая ему голову понятиями о первенстве, о повиновении сильному, о пора бощении слабого; Церковь, дающая свое благословение всем подлейшим проявлениям насилия; Закон, мешающий развитию взаимной поддержки и равенства; богатство, чтобы угнетать на род и, при случае, подкупать даже тех, кто хотел бы потрудиться для его освобождения; тюрьма и пули — тем, кого деньгами не подкупишь. Вот сущность государства!75
***
Но при всем том никогда, ни в какой период жизни человече ства войны не были нормальным условием жизни. В то время, как войны истребляли друг друга, а жрецы прославляли эти убийства, народные массы продолжали жить обыденной жизнью и отправ лять свою обычную повседневную работу. И проследить эту жизнь масс, изучить средства, при помощи которых они поддерживали свою общественную организацию, основанную на их понятиях о равенстве, взаимопомощи и взаимной поддержке, т. е. на их обычном праве,— даже тогда, когд^ они были подчинены самой свирепой теократии или автократии в государстве,— изучить эту сторону развития человечества — самое главное в настоящее время для истинной науки о жизни 76.
В сущности, человек, вопреки обычным предположениям, та кое невойнолюбивое существо, что, когда варвары наконец осели на своих местах, они быстро утратили навык к войне,— так быст
ро, что вскоре должны были завести особых военных вождей, сопровождаемых особыми Scholae, или дружинами, для защиты своих сел от возможных нападений. Они предпочитали мирный труд войне, и самое миролюбие человека было причиной специа лизации военного ремесла, причем в результате этой специализа ции получались впоследствии рабство и врйны «государственного периода» в истории человечества ".
***
Каждый должен работать для всех и все для каждого — та ково единственное условие водворения между народами того мира, которого все они громко требуют, но осуществлению которого мешают те, кто захватил в свои руки все общественное богатство78.
449
***
...Приписывать промышленный прогресс XIX века войне каж дого против всех — значит рассуждать подобно тому, кто, не зная истинных причин дождя, приписывает его жертве, прине сенной человеком глиняному идолу. Для промышленного прогрес са, как и для всякого иного завоевания в области природы, взаим ная помощь и тесные сношения несомненно всегда были более выгодными, чем взаимная борьба.
Великое значение начала взаимной помощи выясняется, одна ко, в особенности в области этики, или учения о нравственности. Что взаимная помощь лежит в основе всех наших этических понятий, достаточно очевидно. Но каких бы мнений ни держались мы относительно первоначального происхождения чувства или инстинкта взаимной помощи — будем ли мы приписывать его биологическим или же сверхъестественным причинам,— мы долж ны признать, что заметить его существование можно уже на низ ших ступенях животного мира. От этих начальных ступеней мы можем проследить непрерывное, постепенное его развитие через все классы животного мира и, несмотря на значительное количе ство противодействующих ему влияний, через все ступени челове ческого развития, вплоть до настоящего времени. Даже новые религии, рождающиеся от времени до времени — всегда в эпохи, когда принцип взаимопомощи приходил в упадок в теократиях и деспотических государствах Востока или при падении Римской империи,— даже новые религии всегда являлись только подтверж дением того же самого начала. Они находили своих первых по следователей среди смиренных, низших, попираемых слоев обще ства, где принцип взаимной помощи был необходимым основани ем повседневной жизни; и новые формы единения, которые были введены в древнейших буддистских и христианских общинах, в общинах моравских братьев и т. д., принимали характер возвра та к лучшим видам взаимной помощи, практиковавшимся в древ нем родовом периоде.
Каждый раз, однако, когда делались попытки возвратиться к этому старому почтенному принципу, его основная идея расши рялась. От рода она распространялась на племя, от федерации племен она расширялась до нации и, наконец,— по крайней мере в идеале — до всего человечества. В то же самое время она по степенно принимала более возвышенный характер. В первобыт ном христианстве, в произведениях некоторых мусульманских вероучителей, в ранних движениях реформационного периода и в особенности в этических и философских движениях XVIII века и нашего времени все более и более настойчиво отмечается идея мести, или «достодолжного воздаяния»,—добром за добро и злом за зло. Высшее понимание «Никакого мщения за обиду» и принцип «Давай ближнему, не считая! Давай больше, чем ожи даешь от него получить!» — эти начала провозглашаются как действительные начала нравственности, как принципы, стоящие
450
выше простой «равноценности», беспристрастия и холодной спра ведливости,— как принципы, скорее и вернее ведущие к счастью. Человека призывают поэтому руководиться в своих действиях не только любовью, которая всегда имеет личный или в лучших слу чаях родовой характер, но понятием о своем единстве со всяким человеческим существом, следовательно, о всеобщем равноправии и, кроме того, в своих отношениях к другим давать людям, не счи тая, деятельность своего разума и своего сочувствия и в этом находить свое высшее счастье.
В практике взаимной помощи, которую мы можем проследить до самых древнейших зачатков эволюции, мы таким образом находим положительное и несомненное происхождение наших нравственных, этических представлений, и мы можем утверждать, что главную роль в этическом развитии человечества играла вза имная помощь, а не взаимная борьба. В широком распростране нии начал взаимной помощи, даже и в настоящее время, мы также видим лучший задаток еще более возвышенного дальней шего развития человеческого рода 79.
***
...Ни один род не обязан делиться своей пищей с другими ро дами: он волен делиться или нет. Вследствие этого вся жизнь пер вобытного человека распадается на два рода отношений, и ее сле дует рассматривать с двух этических точек зрения: отношения в пределах рода и отношения вне его; причем (подобно нашему международному праву) «международное» право сильно отлича ется от обычного родового права. Вследствие этого, когда дело доходит до войны между двумя племенами, самые возмутитель ные жестокости по отношению к врагам могут рассматриваться как нечто заслуживающее высокой похвалы.
Такое свойственное понимание нравственности проходит, впрочем, через все развитие человечества, и оно сохранилось вплоть до настоящего времени. Мы, европейцы, кое-что сделали — не очень-то много, во всяком случае,— чтобы избавиться от этой двойной нравственности; но нужно также сказать, что, если мы до известной степени распространили наши идеи солидарности — по крайней мере в теории — на целую нацию и отчасти также на другие нации, мы в то же самое время ослабили узы солидарно сти в пределах наших наций и даже в пределах самой нашей семьи 80.
***
Поглощение всех общественных отправлений государством ро ковым образом благоприятствовало развитию необузданного, узкого индивидуализма. По мере того как обязанности граждан по отношению к государству умножались, граждане, очевидно,
451
освобождались от обязанностей по отношению друг к другу. В гильдии — а в средние века все принадлежали к какой-нибудь гильдии или братству — два «брата» обязаны были поочередно ухаживать за больным «братом»; теперь же достаточно дать боль ному товарищу по работе адрес ближайшего госпиталя для бед ных. В «варварском» обществе присутствовать при драке двух лю дей, возникшей из-за личной ссоры, и при этом не позаботиться, чтобы драка не имела рокового исхода, значило навлечь на себя обвинение в убийстве; но согласно теперешней теории всеохра- няющего государства, присутствующему при драке нет нужды вмешиваться — на то имеется полиция. И в то время как у дика рей — например, у готтентотов — считалось бы неприличным при няться за еду, не прокричав троекратно приглашения желающему присоединиться к трапезе, у нас почтенный гражданин ограничи вается уплатой налога для бедных, предоставляя голодающим распорядиться, как им угодно.
Результат получился тот, что везде,— в жизни, в законе, в нау ке, в религии — торжествует теперь утверждение, что каждый мо жет и должен добиваться собственного счастья, не обращая ника кого внимания на чужие нужды. Это стало религией нашего време ни, и люди, сомневающиеся в ней, считаются опасными утописта ми. Наука громко провозглашает, что борьба каждого против всех составляет руководящее начало природы вообще и человеческих обществ в частности. Именно этой борьбе теперешняя биология
(наука о жизни) приписывает прогрессивное развитие животного мира. История рассуждает таким же образом; а политикоэкономы в своем наивном невежестве рассматривают успехи современной промышленности и механики как «поразительные» результаты влияния того же начала. Самая религия церквей является религи ей индивидуализма, слегка смягчаемого более или менее мило сердными отношениями к своим ближним — преимущественно по воскресеньям. «Практические» люди и теоретики, люди науки и религиозные проповедники, законоведы и политические деяте ли — все согласны в одном: в том, что индивидуализм, т. е. ут верждение своей личности в его грубых проявлениях, м о ж н о , конечно, смягчать благотворительностью, но что он является единственным надежным основанием для поддержания общества и его дальнейшего развития 8l.
***
Экспроприация — вот, стало быть, лозунг, который должен быть признан обязательным для будущей революции. Без этого она не исполнит своей исторической миссии. Полная экспроприа ция всех тех, кто имеет возможность эксплуатировать человече ские существа: возврат в общее пользование нации всего того, что, оставаясь в руках отдельных лиц, может служить к порабо щению одних другими.
452
Нужно сделать так, чтобы каждый мог жить свободным тру дом, не продавая своей свободы и своей рабочей силы тем, кто накопляет богатства потом и кровью своих рабов. Вот что долж на будет сделать будущая революция.
***
В революции необходимо, чтобы все насущные интересы всего народа были соблюдены и чтобы ее потребности и ее стремления к справедливости были удовлетворены.
Провозгласить хороший принцип еще недостаточно: надо су- меть применить его к жизни Q О .
***
Недостаточно, чтобы люди понимали, что им выгодно жить без постоянных забот о будущем и без унизительного подчинения тем или другим власть имущим. Одного этого мало: нужно еще, чтобы изменились понятия о собственности и соответствующие им нравственные воззрения. Надо вполне усвоить мысль, что все продукты человеческого труда, все сбережения и все орудия про изводства — плод совместной работы всех и принадлежит одному только собственнику — человечеству. Надо ясно представить себе, что частная собственность есть продукт сознательного или бессознательного воровства в ущерб человечеству, чтобы с ра достным сердцем захватить ее всюду на общую пользу, когда на станет для этого возможность.
***
Каждому великому событию в истории соответствует извест ное изменение и развитие в нравственности человека. Само собой разумеется, что нравственные понятия поборников равенства сильно разнятся от понятия о милосердном богаче и благодарном ему бедняке. Новому миру нужна новая вера, а мы живем несом
ненно накануне появления нового мира. Наши противники сами повторяют неустанно: «Боги исчезают! Короли пропадают! Сила
власти бледнеет!» Они правы. Но кому же заменить богов, коро лей, священнослужителей, как не человеку свободному, верую щему в свою силу? Наивная вера покидает нас; давайте место науке! Самовластие и милосердие умирают; место справедли вости!83
***
Но я скоро заметил, что никакой революции — ни мирной, ни кровавой — не может совершиться без того, чтобы новые идеалы
453
глубоко не проникли в тот самый класс, экономические и полити ческие привилегии которого предстоит разрушить. Я видел осво бождение крестьян и понимал, что, если бы сознание несправедли вости крепостного права не было широко распространено среди самих помещиков (под влиянием эволюции, вызванной револю циями 1793 и 1848 годов), освобождение крестьян никогда не со вершилось бы так быстро, как в 1861 году. И я также видел, что идея освобождения работников от капиталистического ига начи нает распространяться среди самой буржуазии.
Кроме того, я постепенно начал понимать, что революции, то есть периоды ускоренной эволюции, ускоренного развития и быст рых перемен, так же сообразны с природой человеческого общест ва, как и медленная, постепенная эволюция, наблюдаемая теперь в культурных странах. И каждый раз, когда темп развития уско ряется и начинается эпоха широких преобразований, может вспыхнуть гражданская война в более или менее широких разме рах. Таким образом, вопрос не в том, как избежать революции,— ее не избегнуть,— а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наимень шим числом жертв и по возможности не увеличивая взаимной ненависти. Все это возможно лишь при одном условии: угнетен ные должны составить себе возможно более ясное представление о том, что им предстоит совершить, и проникнуться достаточно сильным энтузиазмом. В таком случае они могут быть уверены, что к ним присоединятся лучшие и наиболее передовые элемен ты из самих правящих классов 84.
***
Если в развитии человеческого общества, рассуждал я, суще ствуют периоды, когда борьба неизбежна и когда гражданская война возникает помимо желания отдельных личностей, то необ ходимо по крайней мере, чтобы она велась во имя точных и опре деленных требований, а не смутных желаний. Необходимо, чтобы борьба шла не за второстепенные вопросы, незначительность ко торых не уменьшит взаимного озлобления, но во имя широких идеалов, способных воодушевить людей величием открывающегося горизонта.
В последнем случае исход борьбы будет зависеть не столько от ружей и пушек, сколько от творческой силы, применен ной к переустройству общества на новых началах. Исход будет зависеть в особенности от созидательных общественных сил, пе ред которыми на время откроется широкий простор, и от нравст венного влияния преследуемых целей, ибо в таком случае преоб разователи найдут сочувствующих даже в тех классах, которые были против революции. Борьба, происходя на почве широких
454
идеалов, очистит социальную атмосферу. В таком случае число жертв как с той, так и с другой стороны будет гораздо меньше, чем если бы борьба велась за второстепенные вопросы, открывающие широкий простор всяким низменным стремлениям 85.
***
Наконец, здесь следует также упомянуть благотворительные общества, которые в свою очередь представляют целый своеоб разный мир, так как нет ни малейшего сомнения, что громадным большинством членов этих обществ двигают те же чувства вза имной помощи, которые присущи всему человечеству. К сожале-. нию, наши религиозные учителя предпочитают приписывать по добным чувствам сверхъестественное происхождение. Многие из них пытаются утверждать, что человек не может сознательно вдохновляться идеями взаимной помощи, пока он не будет прос вещен учениями той специальной религии, представителями кото рой они состоят, и вместе со св. Августином большинство из них не признает существования подобных чувств у «язычников-дика- рей». Кроме того, в то время как первобытное христианство, по добно всем другим зарождавшимся религиям, было призывом
к широко человечным чувствам взаимной помощи и симпатии, свойственным, как мы видели, всем племенам и народам, даже самым диким, христианская Церковь усердно помогала Государ ству разрушать все существовавшие до нее или развивавшиеся вне ее учреждения взаимной помощи и поддержки. Вместо взаим ной помощи, которую каждый дикарь рассматривает как выпол нение долга к своим сородичам, христианская Церковь стала про поведовать милосердие, составляющее, по ее учению, доброде тель, вдохновляемую свыше,— добродетель, которая в силу тако го толкования приписывает известного рода превосходство даю щему над получающим вместо сознания общечеловеческого равенства, в силу которого взаимная помощь обя з а т е л ь н а . С этим ограничением и без всякого намерения оскорблять тех, кто причисляет себя к избранным, в то время как выполняет требования простой человечности, мы, конечно, можем рассматривать громаднейшее количество религиозных благотво рительных обществ, разбросанных повсюду, как проявление того же глубокого стремления человека к взаимной помощи 86.
***
Сведя школьное образование на самое рутинное обучение, не дающее никакого приложения молодым и хорошим порывам, по являющимся у большинства детей в известном возрасте, наши правители сделали то, что всякий юноша, мало-мальски незави симый, поэтичный и гордый, начинает ненавидеть школу и либо
455
замыкается в самом себе, либо находит какой-нибудь жалкий ис ход своим молодым порывам. Одни ищут в чтении романов ту поэ зию, которой не дает им жизнь; они набивают себе голову той грязной литературой, которой переполнены газеты, издаваемые буржуазией, и кончают, как Лемэтр, перерезавший горло друго му ребенку и распоровший ему живот, чтобы стать «известным убийцей». Другие впадают во всевозможные пороки. И одни только дети «блаженной середины», т. е. такие, которые не знают ни порывов, ни страстей, доходят в школе без приключений до благополучного конца. Эти «умеренные и аккуратные» станут в свое время добродетельными буржуа. Они не будут прожигать жизнь, не будут таскать платков из кармана у прохожих, но станут «честно» обворовывать своих клиентов; страстей у них не окажет ся, но ими будет поддерживаться уличный торг; они будут сидеть в своем болоте и злобно кричать «казни его» на каждого, кто взду мает замутить их трясину.
Так воспитывают мальчиков. Девочку же буржуазия, особен но французская, развращает с самых ранних лет. Глупейшие книжки, куклы, одетые, как камелии, и поучительные примеры матери— все, вместе взятое, приготовит из девочки женщину, готовую продаться тому, кто больше за нее заплатит. И этот ребе нок уже сеет разврат вокруг себя: рабочие дети с завистью загля дываются на эту богато одетую, развязную куколку. Но если мать ее — добросовестная буржуазна, то дела будут еще хуже. Если девочка не глупа, она скоро оценит по достоинству двуличную нравственность своей матери, состоящую из таких советов: «Люби ближнего и грабь его, когда можешь. Будь добродетельна, но лишь до известной степени»,— и т. д., и задыхаясь в этой обста новке, не находя в жизни ничего прекрасного, высокого, увле кательного, она отдается первому попавшемуся, лишь бы он удов летворил ее жажду роскоши87.
***
Толстой возвратился в Россию тотчас после освобождения крестьян, принял место мирового посредника и, поселившись в Ясной Поляне, занялся вопросом школьного образования кре стьянских детей. К вопросу этому он подошел совершенно неза висимым путем, руководясь чисто анархическими принципами, вполне свободными от тех искусственных методов образования, которые были выработаны немецкими педагогами и вызывали тогда общее восхищение в России. В его школе вовсе не было так называемой дисциплины. Вместо выработки программ для обучения детей учитель, по мнению Толстого, должен узнать от самих детей, чему они хотят учиться, и должен сообразовать свое преподавание с индивидуальными вкусами и способностями каж дого ребенка. Такая метода прилагалась в школе Толстого и при несла замечательные результаты. Но на нее, к сожалению, до сих
456
пор обращали слишком мало внимания, и.лишь один великий пи сатель—другой поэт, Вилльям Моррис,—защищал в «Новости неизвестно откуда» («Hewstrom Nowhere») такую же свободу в образовании. Но мы уверены, что когда-нибудь статьи Толстого о Яснополянской школе, изученные каким-либо талантливым пе дагогом, так же, как «Эмиль» Руссо изучался Фребелем, послужат исходным пунктом для реформы в образовании, более глубокой, чем реформы Песталоцци и Фребеля 88.
***
Недаром слово «каторга» получило такое ужасное значение в русском языке и сделалось синонимом самых тяжелых физиче ских и нравственных страданий. «Я не могу больше переносить этой к а т о р ж н о й жизни», т. е. жизни, полной мук, невыноси мых оскорблений, безжалостных преследований, физических и нравственных мучений, превосходящих человеческие силы, гово рят люди, доведенные до полного отчаяния, перед тем как покон чить с собой. Такой смысл слово «каторга» получило недаром, и все, кому приходилось серьезно исследовать положение каторж ных в Сибири, пришли к заключению, что народное представление о каторге вполне соответствует действительности 89.
* *t *.
Я мало знаком с французскими исправительными заведения ми и колониями для малолетних преступников, и мне приходилось слышать о них самые противоречивые отзывы. Так, некоторые го ворили мне, что детей там обучают земледелию и в общем обращав ются с ними довольно сносно, особенно с тех пор, как были сделаны некоторые реформы; но с другой стороны, мне приходилось слы шать, что несколько лет тому назад в исправительной колонии в окрестностях Клэрво лицо, которому дети были сданы в аренду го сударством, заставляло их работать через силу и вообще обраща лось с ними очень плохо. Во всяком случае, мне пришлось видеть в Лионской тюрьме изрядное количество мальчиков, в большин стве случаев «неисправимых» и беглецов из исправительных колоний, и деморализация, развивавшаяся среди этих детей, бы ла поистине ужасна. Под игом грубых надзирателей, оставлен ные без всякого морализующего влияния, они становятся впослед ствии постоянными обитателями тюрем и, достигнув старости, неизменно кончают свои дни в какой-нибудь центральной тюрьме или же в Новой Каледонии. По единогласному свидетельству надзирателей и священника тюрьмы св. Павла, эти дети постоян но предаются известному пороку — в спальнях, в церкви, в двори ках. Видя поражающее количество преступлений против нравст венности, разбираемых ежегодно во французских судах, нужно помнить поэтому, что само государство содержит в Лионе, да
457
и в других тюрьмах, специальные рассадники этого рода преступ лений. Вследствие этого я серьезно советую тем, кто занимается выработкой планов для законного истребления рецидивистов в Новой Гвинее, прежде всего нанять на неделю-другую пистолю в Лионе и там пересмотреть заново свои нелепые планы *. Они убедятся тогда, что нельзя начинать реформу человеческого ха рактера, когда он уже сформировался, и что действительная при чина рецидивизма лежит в извращениях, рассадником которых являются тюрьмы вроде Лионской. С моей же личной точки зрения, запирать сотни мальчиков в такие очаги нравственной заразы — значит совершать преступление гораздо большее, чем какое бы то ни было из совершенных этими несчастными детьми.
Вообще тюрьмы не учат людей честности, и тюрьма св. Павла не представляет исключения из общего правила. Уроки честности, даваемые сверху, как увидят читатели, мало чем отличаются от тех понятий честности, которые господствуют внизу, в арестант ской массе 90.
***
После того как Бакунин переселился в Локарно, он создал по добное же движение в Италии и в Испании (при помощи симпа тичного, талантливого эмиссара Фанелли). Работу же, которую он начал в Юрских горах, продолжали сами юрцы. Они часто по минали Мишеля, но говорили о нем не как об отсутствующем вож де, слово которого закон, а как о дорогом друге и товарище. Пора зило меня больше всего то, что нравственное влияние Бакунина чувствовалось даже сильнее, чем влияние его как умственного авторитета.
В разговорах об анархизме или о текущих делах федерации я никогда не слыхал, чтобы спорный вопрос разрешался ссылкой на авторитет Бакунина. Рабочие никогда не говорили: «Бакунин сказал то-то» или: «Бакунин думает так-то». Его писания и изре чения не считались безапелляционным авторитетом, как, к сожа лению, это часто наблюдается в современных политических пар тиях. Во всех тех случаях, где разум является верховным судьею, каждый выставлял в спорах свои собственные доводы. Иногда их общий характер и содержание были, может быть, внушены Баку ниным, но иногда и он сам заимствовал их от своих юрских дру зей. Во всяком случае, аргументы каждого сохраняли свой личный характер. Только раз я слышал ссылку на Бакунина как на авто ритет, и это произвело на меня такое сильное впечатление, что я до
* Закон о рецидивистах, проведенный министерством Вальдека-Руссо, поисти не ужасен. Смертность же в Новой Гвинее, куда ссылают рецидивистов, такова, что каждый год умирает о д н а т р е т ь ссыльных. Так гласил один официальный отчет.
458
сих пор помню во всех подробностях, где и при каких обстоятель ствах это было сказано. Несколько молодых людей болтали в при сутствии женщин не особенно почтительно о женщинах вообще.
— Жаль, что нет здесь Мишеля! — воскликнула одна из при сутствовавших.— Он бы вам задал!
И все примолкли.
Они все находились под обаянием колоссальной личности борца, пожертвовавшего всем для революции, жившего только для нее и черпавшего из нее же высшие правила жизни91.
Александр И, конечно, не был заурядной личностью, но в нем жили два совершенно различных человека с резко выраженными индивидуальностями, постоянно боровшимися друг с другом. И эта борьба становилась тем сильнее, чем более старился Алек сандр II. Он мог быть обаятелен и немедленно же выказать себя грубым зверем. Перед лицом настоящей опасности Александр II проявлял полное самообладание и спокойное мужество, а между тем он постоянно жил в страхе опасностей, существовавших толь ко в его воображении. Без сомнения, он не был трусом и спокойно пошел бы на медведя лицом к лицу. Однажды медведь, которого он не убил первым выстрелом, смял охотника, бросившегося вперед с рогатиной. Тогда царь бросился на помощь своему подручному. Он подошел и убил зверя, выстрелив в упор (я слышал этот рас сказ от самого медвежатника). И тем не менее Александр II всю жизнь прожил под страхом ужасов, созданных его воображением и неспокойной совестью. Он был очень мягок с друзьями; между тем эта мягкость уживалась в нем рядом со страшной, равнодуш ной жестокостью, достойной XVII века, которую он проявил при подавлении польского мятежа и впоследствии, в 1880 году, когда такие же жестокие меры были приняты для усмирения восстания русской молодежи 92, причем никто не счел бы его способным на такую жестокость. Таким образом, Александр II жил двойной жизнью, и в тот период, о котором я говорю, он подписывал самые реакционные указы, а потом приходил в отчаяние по поводу их. К концу жизни эта внутренняя борьба... стала еще сильнее и при няла почти трагический характер 93.