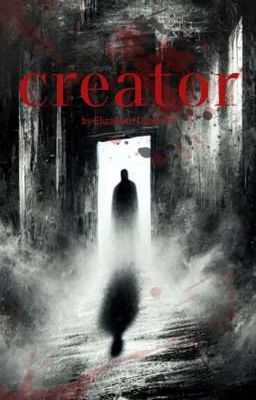Конец. Теперь мою партию, сыграешь ты.
Уже чуждый телу, слишком чистый воздух, Итан судорожно глотал ртом, словно тонущий. Каждое рваное, но вынужденное движение грудной клетки отзывалось болью, лёгкие сжимались и отказывались втягивать этот ледяной кислород, а ребра с каждой судорожной попыткой вдоха резали изнутри, но он продолжал идти. Нет, не просто идти – бежать: падал, хватался за мокрую землю, поднимался снова, пытаясь кричать и позвать на помощь, но слишком быстро сорвав голос до металлического привкуса крови во рту. В глазах плыло, голова кружилась, тело отказывалось повиноваться. Лес, страшный с детства, сейчас казался уже ничтожным и безобидным - все кошмары детских лет блекли перед тем, что осталось там, внизу, в пропитанном смертью и отчаянием многоэтажному нечто.
Когда впереди вдруг раздался встревоженный, отчётливо человеческий голос, Итан замер, отступая на шаг назад.
— Хэй! Кто там? - в следующую секунду тусклый, но яркий в его мутном сознании свет фонарей выхватил его из мрака.
— О, Господи... Итан? — воскликнула знакомая женщина, полицейская - Джессика. Когда-то она приходила в их школу, рассказывая детям о безопасности и о том, как вести себя на улице. Итан помнил её добрую улыбку, да и сейчас она смотрела на него почти с тем же лицом. - Ты... ты в порядке? – Женщина подбежала, осматривая Итана, и получив дрожащий кивок, крепко обняла парня.
Другой полицейский, который, вероятно, патрулировал с ней в этом секторе, тут же сообщил по рации обивками фраз о найденном ребёнке, кратко передав состояние, как «очень хреновое».
Минуты сливались в одно сплошное, вязкое месиво. И вот Итан, закутанный в одеяло, уже сидел на краю борта машины скорой помощи, дрожащими руками сжимая кружку с обжигающим чаем. Горячая жидкость не грела, а наоборот, её пар только усиливал озноб, поэтому парень поставил её на землю. «Шок, температура и несколько ушибов» - ничего ужасного, хоть и ощущалось иначе. Он не слышал ни гомона голосов вокруг, ни сирен машин, даже собственное дыхание отдавалось эхом где-то в висках. Единственное, что оставалось неизменимым - это зуд в руке, где, казалось, что-то шевелилось под кожей.
— Итан! — раздался резкий, почти пронзительный вскрик, заставив его вздрогнуть и едва не выронить чашку.
Машина только-только успела остановиться, а Мэнди уже кинулась наружу. Она была одета в привычную, лёгкую атласную ночнушку, с наспех накинутом пальто сверху, на ногах - домашние тапочки. Щёки впалые, лицо осунувшееся, глаза – тусклые и выцветшие, а во взъерошенных волосах проступала седина, что было несвойственно женщине, которую волнует мнение окружающих. Хотя в эту минуту Мэнди не замечала ни собственного внешнего вида, ни людей вокруг - только он, её внук, её мальчик, живой.
— Ты жив! Милый мой, ты жив... — Мэнди упала перед ним на колени, и прижала Итана к себе так крепко, будто хотела вырвать обратно из рук того ужаса, что пытался забрать его, навзрыд плача, зарываясь пальцами во влажные волосы мальчика, смотря в немигающие, но полные слёз зелёные и испуганные глаза.
— Бабушка... — губы предательски дрогнули, а голос оборвался в сдавленном всхлипе, когда Итан обхватил её трясущиеся руки своими ладонями. Всего лишь ребёнок, но судьба уже поспешила сделать его взрослым.
— Хороший мой... — сердце Мэнди разрывалось при одном его виде. Бабушка покрывала лоб и впавшие скулы поцелуями, прижимала к груди, рыдала в голос, шепча, что он молодец, что теперь всё будет хорошо, что он дома.
Из машины неуверенно и рассеяно выбежал Джон. Мужчина не закрыл дверь, не отвечал на чьи-то вопросы, словно всё было неважно. На нём была простая футболка и застиранные джинсы, волосы растрёпаны, лицо мертвенно бледное. Глаза бегают из стороны в сторону, в поиске, но стоило ему увидеть сына - Джон застыл.
Он смотрел на дрожащего и обессиленного мальчишку, который не кричал, не злился, а плакал - тихо, горько, вцепившись в бабушку. В этот миг Джону показалось, что время отмоталось назад: перед ним был не подросток, а то самое маленькое дитя, ради которого он тогда боролся, в которого пытался вложить хоть что-то хорошее, которого потом ненавидел и винил в смерти жены... и которого всё равно, глубоко, до боли любил.
Сломанный, а значит такой же, как Сара после его рождения. Воспоминания, которые Джон пытался загнать глубже, накрыли волной. Он приложил руку к груди, глухо застонал, колени подкосились, и мужчина, сделав пару шагов, медленно осел рядом, не в силах сдерживать дрожь. Рядом с собой он увидел только это крошечное, избитое временем существо – мальчика, сына, свою кровь. Джон протянул руку, нерешительно коснувшись плеча Итана, а затем притянул парня ближе.
— Прости меня. Прости... — дрожащим голосом шептал тот, прижимая его к себе.
Итан не сопротивлялся - не было сил, поэтому он лишь слабо вздрогнул, позволив отцу обнять себя. А Мэнди, всё ещё стоя на коленях у его ног, рыдала, всхлипывая так, что слова уже не разобрать.
— Я встретил её... — севшим голосом вдруг проронил парень.
— Кого?.. — тут же отозвалась Мэнди, мгновенно подняв голову. Она даже подалась вперёд, готовая ловить каждое его слово. Если он сейчас заговорил сам, значит нужно слушать, нужно слушать всё, что он захочет сказать, не перебивать, не спрашивать лишнего. Потому что Мэнди хорошо понимала - если этот хрупкий момент оборвётся, внук может замолкнуть надолго, может быть навсегда. Женщина была готова принять всё, что Итан скажет: любые признания, любые страхи, любые безумные слова, всё, лишь бы мальчик не замкнулся в себе окончательно, не стал холодной безвольной куклой, как это часто бывало с детьми, пережившими нечто невообразимое.
Итан отстранился от неё, одеяло соскользнуло с плеч и мягко сползло вниз. Мэнди непроизвольно ахнула, прикрыв рот дрожащими пальцами.
— Боже... ты ранен?
Он медленно повернул голову обратно, проследив за её взглядом. Там, на предплечье, через разорванную ткань, виднелась длинная, но неглубокая царапина: рана была неровной, алой полосой пересекала кожу. «Наверное, поцарапался в лесу, когда бежал... Логично» — с трудом сформулировал Итан в голове.
— Всё хорошо... — выдавливая из себя улыбку, ответил Итан, и, не теряя ни секунды, словно боясь, что сейчас его вновь накроет слабостью, принялся рыться в карманах. Взрослые тут же затаили дыхание, наблюдая за каждым его движением.
И вот он достал два слегка помятых, грязных конверта, держал их осторожно, двумя руками, словно это были не простые бумаги, а нечто живое, важное, и потом медленно, почти церемониально, протянул их бабушке. Мэнди осторожно посмотрела на Джона, и, переведя взгляд обратно, аккуратно взяла письма.
— Что эт... — начала она, но слова тут же застряли у неё в горле. Едва глаза заскользили по завиткам букв на конверте, по таким знакомым линиям, что складывались в родной почерк - сердце у Мэнди резко сжалось, дыхание сбилось. Эти линии... Она могла узнать их даже в темноте - ни с чем не спутать, не перепутать.
— Это мама.
Снова повисла тишина.
Джон медленно поднялся, подошёл ближе, осторожно, не спеша помог Мэнди подняться и усадил на своё место. Пальцы её всё ещё сжимали письма, плечи дрожали от сдерживаемых слёз. Она взглянула на Джона, а в глазах вопрос и немой страх. Женщина протянула ему одно из писем, на котором неровной, дрожащей рукой было выведено: «Джону».
Мужчина нахмурился, недоверие боролось с растущей, пугающей надеждой. Он медлил, не решаясь вскрыть его сразу, но наконец, разорвал край и достал бумагу. Пару секунд Джон не мог прочесть написанное, буквы плыли перед глазами, а когда разобрал - ноги стали ватными.
«Я тебя прощаю, и ты меня прости»
Простая фраза, но для него она звучала громче всех. Громче всех ссор, громче всех болезненных воспоминаний. Этого хватило, чтобы окончательно разрушить тот панцирь, который Джон годами носил в себе - он осел обратно на землю, не отрывая взгляда от бумаги, стирая слёзы тыльной стороной ладони. Мужчина даже не чувствовал, как вокруг суетились люди, ему сейчас казалось, что он снова видит её - Сару, той, какой помнил когда-то.
А Мэнди долго не могла решиться вскрыть свой конверт. Она смотрела на Джона, на Итана, который в этот момент уставился в землю, в одну точку, не смея поднять взгляд, ведь не хотел видеть слёзы родных, потому что боялся, что не выдержит, что снова расплачется. И вот, собравшись с силами, женщина вскрыла письмо, бумага шуршала, заглушая всё остальное. Она не знала, что там будет написано, но знала одно - это письмо дочери.
«Привет, неверное...
Если ты читаешь это, мам, значит, Итан жив, а значит, несмотря на всё, я справилась хотя бы с одним - я спасла его. Ну, или, может быть, он спас сам себя. Неважно. Главное - он там, рядом с тобой, и вы теперь вместе.
Я скучаю. Скучаю так, что иногда мне казалось, это чувство может задушить, будто тоска обвивает горло ледяными пальцами, и никакой вдох не спасёт. Прости, что не могу рассказать всё - нет времени, оно, знаешь, больше не ждёт, да и бумаги не хватит. Я волнуюсь за Итана: он слишком добрый и чувствительный, чтобы не порваться от того, что пережил, так что береги его, умоляю.
Спасибо тебе за всё. За каждый день, когда ты, сжав зубы, протирала мне лоб, если у меня была температура, за каждый завтрак, обед и ужин вместе, за каждый взгляд, полный усталости и любви. Прости, что была той малолетней психованной дурой, что тычет пальцем, обвиняя во всех бедах, не замечая, что ты просто пыталась защитить. Да, возможно, грубо, возможно, излишне строго, но теперь я знаю, мам, - ты просто была такой, как умела и могла, пытаясь защитить от зла в этом мире своего ребёнка знакомыми методами. А я оттолкнула тебя. Теперь ты воспитала моего сына так, как я и не мечтала... Вообще, ребёнок - хрупкое создание, требующее бесконечно много: здоровья, терпения, времени, душевных сил. Оно забирает всё, без остатка, перекраивая жизнь вокруг, но даже сквозь усталость, бессонные ночи и тревоги - спасибо тебе за этот бесценный дар. За то, что подарила мне жизнь, несмотря на все трудности.
Ты не обязана прощать меня. Я разорвала твою жизнь на части так, что её уже было не склеить. Я покинула вас, оставила в прошлом и бежала за своими иллюзиями, думая, что найду что-то великое. И знаешь, нашла - нашла ту самую бездну, из которой не вынырнуть. Я покорила мечту, но за мечтами оказалась пропасть.
Сейчас я пишу тебе это письмо, сидя здесь, в холодной подземной лаборатории, построенной когда-то правительством, как последняя надежда, как символ того, что человек может подчинить себе всё - даже неизвестное. Где живёт это чёрное нечто с интеллектом, которое я нашла, мама. Оно убивает всё, меня - в том числе. А я не хочу умирать, жизнь это всё, что я хотела...Прости.
Ты в праве ненавидеть меня. В праве разорвать это письмо в клочья, выбросить, забыть о нём, счесть всё ложью. Я пойму, потому что сама знаю - я не имею права просить у тебя прощения, не имею даже права держать в руках эту ручку и обращаться к тебе вот так, потому что не заслужила этого.
Я люблю вас. Я правда люблю, просто не научилась этому вовремя.
Если будут мои похороны - не надевай чёрное, прошу. Я видела слишком много темноты нашего бесцветного, пустого мира. Пусть хоть там будет немного тепла. И если можешь, пожалуйста, однажды принеси белые лилии на могилу отца. Я помню, как они стояли в хрустальной вазе на подоконнике в нашем доме. Белые лилии - символ чистоты и души, вернувшейся к Богу. Пусть это будет моя мольба о прощении и надежда, что жизнь по ту сторону есть, хоть и увиденное здесь разбивает её в клочья. И ещё – эустомы, как оберег от невзгод и веру в светлое будущее, которое есть у нашего комочка света - Итане.
Он - моё единственное правильное решение. Я сделала слишком много ошибок и неверных выборов, а поэ...»
Письмо оборвалось внезапно - ровно так же, как сжалось сердце Мэнди. Она машинально перевернула пожелтевший лист, ожидая увидеть продолжение, но вместо слов - стихотворение. Чернила выцвели, поблёкли от времени. Эти строки были написаны очень давно:
Что танцует на обоях, когда выключен ночник,
Что в углах, смешно играя, шевелится каждый миг?
Кто вздыхает у порога, повисая на петле,
И рисует чьи-то лица на заплаканном стекле?
Кто крадётся, шепчет басни нам про сказочный рассвет,
А потом скользит обратно, оставляя странный след?
Почему же тень качельки заскрипела в тишине,
Если ветер затаился, спит в тяжёлой глубине?
Где моя вторая ножка? Кто украл её вчера?
Кто шептал мне о дурдоме, пока спать я не легла?
Почему у куклы нашей повернулась голова?
Я же точно помню, мама не играла с ней сама.
Кто раззявил перед нами свою сотню гнилых ртов?
Кто за шкафом притаился, пряча тысячу голов?
Кто у зеркала коснулся моих пальцев ледяных,
Только... Только ведь в квартире я осталась без родных.
Кто мне шепчет с полуночным перезвоном тишины?
Почему мне в отраженье улыбаюсь я из тьмы?
Кто сидит в углу за дверью и всё ждёт, когда пойму:
Я не та, что здесь осталась... я же тлею там, в дыму.
Кто шаги мои подстроил, чтоб ступала я не так?
Кто часы весёлой жизни забирает здесь, тик-так?
Почему в углу, где пусто, снова шорохи в ночи,
Будто кто-то изнутри мне сердце рвёт — молчи, молчи...
Кто вздыхает за спиною, еле слышно, чуть дыша?
Почему же эта комната мне не кажется чужа?
Я иду, но кто-то рядом отражает каждый шаг,
И в стекле, где быть мне некем, снова смотрит чей-то взгляд.
Почему луна смеётся, оставляя тени след,
И шептать мне начинает — «Ты живёшь, но больше нет»?
Кто смеётся у порога, щёлкнув ржавою петлёй,
И зачем в пустом проёме кто-то машет мне рукой?
Итан сидел, подперев голову руками, взгляд был устремлён в серую потрескавшуюся землю под ногами. Где-то глубоко внутри скреблось тяжёлое, давящее чувство, с которым он не мог совладать - оно напоминало до боли знакомое ощущение из детства, почти такое же, как в те давние беззаботные времена, когда все после школы играли в прятки. Тогда был азарт: ты замираешь где-нибудь за старым сараем, затаив дыхание, прячешься в самом, казалось бы, банальном месте, прижимая ладошки ко рту, чтобы не выдать себя случайным смешком, а потом, когда приближаются шаги, сердце выскакивает из груди, а весь мир сужается до одного - не быть найденным. Но даже если находили - это было игрой, лёгким страхом, за которым всегда следовал смех, беготня, новая попытка.
Сейчас всё иначе: не было ни игры, ни шанса на победу. Никто не давал ему фору, не говорил: «Раз, два, три - я иду искать!» Здесь тебя не просто найдут, ведь здесь за тобой охотятся, и ты не знаешь, когда именно ощутишь, как сзади, почти незаметно, к тебе протянется нечто.
Рука снова зачесалась. Чёрт... Итан стиснул зубы, чтобы не застонать от неприятных ощущений. Отец плачет - это невообразимо. Не видел такого никогда. Сейчас и бабушка наверняка закричит.
Вдруг что-то холодное упало на макушку . Он медленно поднял голову - в тусклом, ещё сонном небе серые облака начинали расходиться, пропуская редкие лучи восходящего солнца. И... капля. Одна. За ней вторая. Неужели?..
Итан моргнул несколько раз, криво усмехнулся, слабо, почти неосознанно. Ну конечно. Дождь. Верный старый друг. Он всё смоет. Всё. Пусть хоть немного - пыль с лица, кровь с рук, липкую дрянь с души. Хотя бы на миг. Пусть идёт дождь.
Дождь.