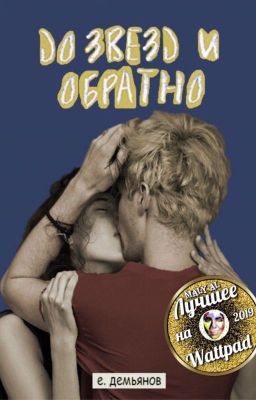Глава 4
Тридцатого декабря две тысячи семнадцатого меня, Аве ван Белля, и моего брата-кузена, Монно ван Белля, положили в гроб, и мы в этих гробах, как бы это странно не звучало, украшали дом напротив Цветочного рынка на Сингел в Амстердаме. На меня нацепили белый костюм, с которым я успел подружиться, на Монно - черный, и как девчонок нас окружили корзинами цветов. Но было красиво, мне понравилось. Моя mama, Стефана, заливалась слезами с Пимом, тетей Хендрикой и дядей Корнелисом. Они позвали каких-то дам, мужчин в черных рубашках, друзей, которых я видел пару раз за семнадцать лет и не знал, как звать. Они ходили вокруг нас с Монно, чавкали и ревели, что меня доставало. Я ждал, когда приедет катафалк и заберут гробы, цветочки, возможно, я выберусь на природу и смогу отдалиться от этих сопляков. Я их любил, но тогда, правда, мне наскучило пятые сутки душить всех смертью и слушать, как жалко им, что я и Монно умерли. То, что мы померли, на пятый день я воспринял уже ясно, не так, как на заснеженном газоне в Шеллингвуде.
Я сидел на низшей ступени лестницы и следил за mama. Ее лицо побелело, руки озябли и истощились. До меня доходило, как я отобрал у mama жизнь. Более, кроме затворника Пима, скучной работы и дома у mama не было. Все подходили к ней, кидали одобрения, сожаления, а она плакала, а я сидел на низшей ступени лестницы, посматривая то на mama, то на гробы.
Мне не хватало Джека Дэниэлса (да, настолько дерьмово). Но в Нидерландах виски на панихиде не закидывались, разве что лимонадом и кексиками (да, настолько весело).
Я еле дождался катафалка. Цветочки, меня и Монно выгрузили из дома ван Беллей и отправили в траурный зал. Mama выгнала гостей на улицу по машинам, я все прихрамывал за ней. Она нацепила поверх черного платья пальто, шарф и шапку, мы сели в серебристую «хонду» и поехали чертпоймикуда, какое место я ранее не посещал. (В траурный зал.) Корнелис вел, а Пим уселся правей от него, я же втиснулся меж mama и Хендрикой, чего они не заметили, но были бы счастливы заметить. Mama прислонила лоб к стеклу и смотрела чертпоймикуда, куда смотрел и я.
- Ты сказала его девчонке? - спросил дядя, когда мы уж отъехали. - Стефана?
- Что?
- Ты сказала его девчонке?
- Да, - ответила mama.
- Все хорошо с ней? - спросил Корнелис.
- Корнелис, как с ней может быть все хорошо, когда Аве не стало!? - по щеке mama скатилась слеза и перетекла на окно.
Дядя смолк.
Пим, сученыш, прижался к окну, вытащил из кармана фляжку, раскрутил и хлебнул.
- Пим... Только не это, - сказала mama. Она кусала ногти.
- Да, дорогая? Что-то не так?
- Отдай сюда.
- Что отдать? У меня ничего нет, - сказал Пим.
- Отдай сюда, иначе... - начала mama.
Пим посмотрел в зеркало, отхлебнул горючее, завинтил обратно, сглотнул и подал назад. Mama расстегнула сумку у ног и спрятала «это» в карман. А Пим обиделся и надул губу.
К траурному залу мы приехали в 12:55. Черные «мерседесы» с цветочками, мной и Монно выгрузили, и пять авто пристроились за серебристой «хондой» Корнелиса. Я выскочил за mama, пока она не захлопнула дверь. Внутрь мы вошли в 12:59, как друзья Пима пожали отчиму руку и выбили традиционные соболезнования. Пима еще пытался увести за угол и подпоить левый великан, но mama отобрала отчима. Затем мужчины подошли к Корнелису и Хендрике, выбили те же слова. В зале лучшим местом я счел комнату, где поставили гробы и цветочки (там не было кексиков, лимонада, чая и кофе, как в самом зале). Я прижался там, оббежав столики с едой и тех, которые «дружненько» подбадривали предков, ревели и заедали, заедали и ревели.
Я долго сидел там.
Монно ван Белль был невероятно редким, красивым гадом. Я ему завидовал даже лежащему в гробу. Монно гнил в бархатном черном костюме обгоревший, но красивый. Я стоял и свысока смотрел на кузена. Таким неподвижным я Монно еще не видел. Мне казалось, что Монно оживет и рассмеется вот-вот, но он не ожил и не рассмеялся. Мне было страшно.
Я посмотрел на себя, такого же обгоревшего, «красивого», только в белом костюме, и ужаснулся сильней. Семнадцать лет я наблюдал за собой в зеркале, на фото и видео, а теперь наблюдал за собой в гробу, окруженном цветочками.
Я выбежал в зал и спалил, как mama, Пима, тетю с дядей усадил по стене на стулья рыжеволосый толстяк в черном, и все «дружненько» подходили от кексиков к предкам, жали ручки и соболезновали утрате. Я стоял у колонны, опирался на нее и наблюдал за спектаклем. На последнем соболезнующем командор пригласил родных попрощаться, и mama, Пим, Корнелис и Хендрика «дружненько» встали и в слезах прошли в комнату, из которой я только выбежал.
Предки окружили гробы. Я скрючился на табурете в тех же рваных джинсах и свитере, запах табака и виски от меня выветрился, и я чувствовал, как пахну яблоками. Но Аве, который лежал в гробу, пах мертвечиной. Я смотрел на mama - она стояла напротив гроба с Аве ван Беллем, не отрывала глаз, тянулась к корзинам цветов и рыдала в плечо Пима. Mama дергалась, как котенок, которого топят. Она топила себя в собственных слезах, а я не выносил ее слез. Она могла наесться кексиков и выпить из кувшинов весь лимонад, но она не ела, не пила, она сутками плакала, а у гроба взвывала особенно.
Я смотрел на mama и Хендрику и болел. Я не жалел Корнелиса, Пима - они влили в себя алкоголь, пускай алкоголь и убил их детей. Я скрючился сильней, посмотрел на толстяка и не мог представить, как живется и тому мужику, как он работает в этой заднице.
- Позвольте, - сказал толстяк.
Он позвал двух парней в черных рубашках, те спохватились за корзины цветов вокруг гробов, унесли и вернулись с болтами и молотками. Юношам в черных рубашках, Корнелису и Пиму следовало заколотить гробы. Он пригласил отчима и дядю к гробу Аве ван Белля. Они взяли по болту, молотку из рук парней, встали у моих мертвых ног и захлопнули крышку. Mama с Хендрикой взвывали. Слезы Пима и Корнелиса капали на тело. Я уже не скрючивался на стуле. Я подошел сзади к mama и шептал ей:
- Да я здесь же, - я шептал, а она не слышала.
Ее волосы, я заметил, также свежо пахли. Mama часто обнимала меня, прижавшись сзади, положив руки на грудь, дыша в шею, как я обнял ее.
- Аве, Монно... - mama всхлипывала и вытирала слезы рукавом.
Отчим, дядя и парни в черных рубашках заколотили еще по болту и пошли заколачивать гроб Монно ван Белля. После того, как меня и Монно заколотили, парни, Пим, Корнелис подхватили гроб кузена и потащили в один из «мерседесов». Mama с Хендрикой, с гостями панихиды отправились по авто и я, как обычно, потащился за mama, мы сели в «хонду» Корнелиса, вытерли рукавом слезы и ждали, когда мой гроб тоже приютят в «мерседес», Корнелис с Пимом усядутся в тачку, и мы поедем в крематорий, то есть опять чертпоймикуда.
В крематорий мы подъехали в 14:39 (время я подсматривал в авто), и внутри здания меня пронзила серенада Моцарта. Я таскался за предками, точь живой, но все считали, что я там, лежу в гробу, по соседству с Монно. «Мерседес» гнал в крематорий быстрей «хонды», когда мы вошли, гробы уже стояли, окруженные цветами. Предки уселись в первом ряду, а я по привычке остановился у колонны. Священник, как все уселись, а серенада Моцарта закончилась, поднялся на помост и завел речь о том, как «сегодня мы провожаем в светлый путь Аве и Монно ван Беллей», как «Аве стремился к великому будущему, посвящая себя искусству (как и посвящал себя алкоголю и куреву)», а Монно «неутомимо стремился жить и цеплял каждый миг (как и цеплялся за алкоголь и курево), как «судьба распорядилась иначе» и как «жаль прощаться с молодыми, НИ В ЧЕМ НЕПОВИННЫМИ В СВОИХ СМЕРТЯХ, юношами».
- Аве был моим сыном, - говорила mama после священника, плача, стоя на помосте. - Он и сейчас остается моим сыном... Всем нам известно, что дети - они не должны умирать раньше родителей, - твердила mama, а я стоял у колонны и осознавал, какую боль я ей причинил. - Иначе, иначе жизнь родителей становится никчемной. Жизнь начинается лишь с улыбки... Моя улыбка рождалась с улыбкой моего сына, моего Милого А, как он просил себя называть, чтобы... Чтобы не выговаривать лишние буквы, - mama посмеялась в слезах. - В его имени было всего три буквы. Всего три обычных, но любимых мною буквы, - mama всхлипывала. - И как тяжело воспринимать, что жизнь моего сына превзошло время, и его жизнь состояла всего из трех этапов, как из тех трех букв. Она состояла из младенчества, взросления, когда он становился слишком упрямым, что я по правде не выносила. И его жизнь состояла из осознания, когда он делал свои первые шаги в жизни. Мой сын стал бы великим человеком, он бы повзрослел и... Не у кого не было и нет сомнений, что он бы стал великим человеком. Но время... Дерьмовая штука - это время. Время распорядилось иначе. И мой сын ушел раньше... Дети не должны умирать раньше родителей, - она вытерла слезы, вспомнила и добавила одну из первых своих фраз.
Mama сошла с помоста, подтирая слезы рукавом, она подсела к Пиму, который сжал ее руку, как она села, поправил воротник рубашки, достал листочек, встал и направился к помосту. На Пима смотрели дамы в черных платьях, мужчины в черных рубашках, они скорбели по Монно, по мне, Аве ван Беллю и никто, никто не замечал, что один мертвец стоит у колонны, и нашелся еще один мертвец, что стоял у входа.
Сначала я подумал, мне показалось. От заснеженного Амстердама нас всех в крематории отделяли двери, меж которыми мелькала щель. Сквозь нее я заметил белое полотно и мужчину лет двадцати пяти, в черных шмотках, с желто-черными полосами по груди и рукавам, расстегнутым воротом. Мужчина зашел в крематорий, расправил плечи, оперся на ближайшую ему колонну и стал пялился не на Пима, не на гробы, а на меня.
«Пожарный» - я понял.
Я подошел, и мы застыли у двери крематория. Пожарный не убегал, он также опирался на колонну, стискивал зубы и пялился на меня.
- П... Пожарный... - я остолбенел и не верил. - Мертвый...
- Я Харберт. Харберт Клаус, - протянул пожарный руку. - Я искал тебя.
- Клаус?
- Как Санту. Клаус.
- Аве. Ван Белль, - я пожал чернокожему руку.
Харберт ошарашил меня. Пим читал речь, а я уже не обращал внимания ни на кого, кроме Харберта Клауса. Пожарный дерьмово выглядел - он был в обшарпанной униформе, с обгорелой щекой, небритый. На его башке струились не волосы, а шар. Однако черные глаза Клауса рисовались добрыми и глубокими.
- Искал? - переспросил я.
- Да. Я третий день здесь. Мертвые обычно ходят на свои панихиды, ты не исключение.
Голос у Харберта звучал грубей моего.
- Черт... Выйдем отсюда? - я предложил.
- Отойди, - сказал чернокожий.
Он тронул дверь, как-то сосредоточился и как-то ОТТОЛКНУЛ ЕЕ!
- Окно гораздо сложнее было, - оттряхнул руки пожарный и выбил.
Мы вышли из крематория, и я босым ступил на снег. Клаус засмотрелся на мои ступни.
- Не повезло, - сказал Харберт. - От чего дом возгорелся?
- Монно, - сказал я.
Перед нами расстелилась заснеженная поляна.
- Он курил и заснул, - я добавил.
Мы отошли от крематория.
- Пошли прогуляемся, - предложил Харберт Клаус. Он напомнил мне чернокожего Санту, лишь невеселого и в униформе пожарного. - И где твой брат сейчас?
- Да кто знает!?
- Либо он заблудился, либо улетучился, что лучше всего.
Мы оказались у заснеженной скамьи и клена, Харберт присел, а я за ним.
- Улетучился?
- Я так понял, у тебя много вопросов? - Харберт посмотрел на меня и сильней стиснул зубы. - Когда я умер, у меня тоже было много вопросов.
- А ты догадливый, - я сказал. - Но придурок, - я вспомнил, как Харберт не хотел разбивать окно мне.
- Придурок?
- Ты не сразу разбил мне окно.
- Я разбил окно, как увидел живого пса. В твоем случае, мертвые не могут помереть дважды, - Харберт развел руки.
- Ладно. Где Монно?
- Улетучился, я же сказал.
- Что это, мать его, значит? - я разозлился.
- Ты улетучиваешься, когда тебя перестает что-то держать.
- А как ты наткнулся на меня?
- Я был у себя в Шеллингвуде, увидел, что сосед горит.
- Понятно... - я выдохнул.
Мы сидели на скамье у крематория, заснеженной Амстердамской поляны. «Наверное, - я думал. - Наверное, все прочитали речи и нужно возвращаться, ехать с Корнелисом, Пимом, Хендрикой и mama на канал Сингел, гнить в углу и ждать, когда я улетучусь, как выразился Харберт Клаус». Я замерз, но не хотел оставлять пожарного. Наверняка мы смешно выглядели со стороны - призрак чернокожего пожарного в униформе и босого, побелевшего подростка в бордовом свитере.
Я встал со скамьи, Харберт нехотя за мной, и мы потащились к крематорию. Харберт загляделся на «мерседесы», куда залезли мужчины в черных рубашках. Я спалил, как mama распахнула дверь «хонды» Корнелиса. Нужно было ехать, а я хотел еще поговорить с пожарным.
- Клаус! - я крикнул отстающему призраку, тот оглянулся. - Поехали со мной, а, - позвал я его в тачку. - Много вопросов.
Харберт развел руки, подбежал, и до mama мы успели запрыгнуть в авто.
В «хонде» mama уж не плакала. С пожарным я теснился меж ней и Хендрикой, босыми ногами пиная в сиденье Пима, кто врубил радио и отобрал у mama флягу. Mama прислонилась к окну и смотрела чертпоймикуда с Хендрикой, а я старался распознать за запашком горючего Пима, униформы Харберта настоящий запах Харберта. Мужик пах древесиной.
- Слушай, - меня прорвало. - Я не знаю, как такое возможно - умереть и ожить, но ты обязан помочь мне разобраться в этом и хотя бы научить меня открывать двери! - я выбил.
- Хочешь узнать, как двигать вещи?
Я кивнул.
- Хорошо, я научу, - сказал Харберт.
В дом напротив Цветочного рынка канала Сингел Корнелис завез mama, бухого Пима, Харберта и меня в 16:04. Пим выпил всю флягу и, как mama растворила дверь, повалился на софу ногами на подлокотник, свернулся калачом и захрапел. Mama пошатнулась, повесила пальто, шарф, сняла сапоги, поднялась в спальню и, как мы слышали, включила новости.
- Он всегда такой? - спросил Клаус.
- После смерти - да, - я ответил.
Мы поднялись по лестнице в мою комнату. Коробки с рукописями mama не убрала. Харберт присел на кровать в своей мешковатой одежде (она не оставляла следов), а я оперся на стеллаж.
- Как ты умер? - я спросил спустя пару минут.
- Мне было двадцать. Я задохнулся, когда спасал знакомую из пожара. Она тоже умерла. Мы были вместе. Ездили на место пожара каждый день. Потом она улетучилась.
- Как вы ездили туда?
- На автобусе, - он улыбнулся. - Призракам можно прокатиться и на поезде, и на самолете. Но я не пробовал.
- На самолете? Серьезно!?
- Да. Иногда мертвым дозволяется больше живых, - Харберт кивнул и пожал плечами. - У тебя красиво в комнате. Ты рисуешь? - он осматривал мольберт.
- Рисовал. Писал еще.
Харберт кивнул и посмотрел на коробки с рукописями, а потом на фотографию в рамке Эль Люци Сантаны.
- Это твоя девушка? - спросил Харберт.
Я постоянно думал об Эль. Вопрос Харберта смутил меня, я загрустил и кивнул.
- Ее не было в авто. Вообще, на панихиде я ее не заметил, - сказал Харберт.
Я промолчал и посмотрел на фотографию Эль Люци Сантаны. Мое тело съело. Мои руки, ступни мигом сожглись, как я сжегся в Рождество. Я не мог отвести глаз, Харберт заметил это, бубнил что-то, но я его не слышал. Я рассматривал черные волосы Эль, ее зелено-карие глаза, изучал каждый дюйм. А она жила в Нью-Йорке.
Я даже не подумал. Я знал, что так будет надо. У меня участилось дыхание. Я собрался, посмотрел на Харберта и спросил: «Ты что-то сказал про самолет?»