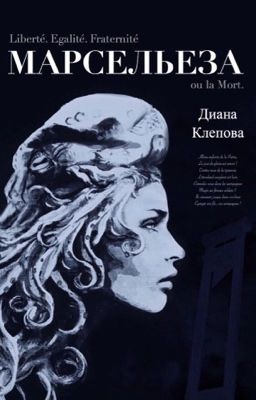Глава 17. «Ah! Ça ira»
Ей вспомнилось письмо Арно, в котором он рассказал о гильотине и о том, что Сансон казнил на ней двенадцать приговоренных всего за тринадцать минут и триста человек за три дня.
— Тебе нужно согреться, — голос Арно вернул ее из далёких странствий мыслей.
При одном только его звуке Марселетт почувствовала: что-то тёплое обволакивало ее. Стоило ему только посмотреть на неё этим любящим взглядом — теряли своё значение и вспарывающие небо ослепительные молнии, и гулкая небесная канонада, и ещё не остывшие трупы покусителей на ее жизнь, и свирепая гильотина.
— Поспешим домой, — сказал он. — Жардин разогреет камин и приготовит чай.
Как бы соблазнительно ни звучало его предложение, Марселетт знала, что теперь, когда она узнала правду, пришло время ей вернуться в Англию, пока семья не последовала за ней.
— Благодарю, я заночую в трактире, — мягко отказала она и пошарила в карманах, звеня монетами. — У меня есть деньги.
— Ну вот ещё! — досадливо возмутился Корде. — Я не пущу тебя туда одну. Сама видела, что здесь делают с такими, как ты. Париж уже не тот, что ты знала.
— Я могу постоять за себя, — упрямилась Марселетт.
С ней спорить, что с чертом. Это Арно уже знал.
— Даже если так, что дальше? — всплеснул он руками. — Ты ведь не собираешься прожить в трактире целую вечность.
— Утром я вернусь в Англию, — сообщила девушка, выпрямившись. — Возьму дилижанс, доберусь до Кале, найду какого-нибудь капитана и переплыву Ла-Манш. Попаду в Дувр. Там сторгуюсь с почтальоном, и оттуда...
— В Англию? — изумился Арно и посмотрел ей в глаза, ожидая, что она признается, что пошутила. — Ты только вернулась, неужели...
— Ты жив, Арно, — произнесла Марселетт тихо. — Это все, что мне было нужно знать.
Она вздохнула и отвернулась, с тяжёлым сердцем шагнула в сторону, намереваясь уйти, но он схватил ее, свою единственную любовь, за руку, и когда она посмотрела на него, он прочитал в ее горьком взгляде нечто очень свойственное девушкам, эту безмолвную женскую просьбу: «позволь мне уйти или уговори остаться».
Его взгляд тоже горел надеждой. Ещё не все потеряно, — нет, ничего не потеряно! — ведь он держит ее тонкое запястье в своей ладони.
— Я не отпущу тебя, — почти прошептал он, впервые за двадцать семь лет готовый упасть перед женщиной на колени. — Три года. Три года! Столько времени я верил, что моя жизнь потрачена. Столько времени я был безрассуден просто из-за того, что не знал, ради чего жить. Ты единственная, что я люблю в этом кровавом мире. Прошу, не обрекай меня на это снова. Не оставляй меня. Вспомни, чего мы хотели! Чего мы хотели три этих долгих года, которым не было конца! Мы клялись, что если бы у нас был самый маленький шанс быть вместе, то мы бы им воспользовались...
Ей всё ещё не верилось, что она видела этого человека перед собой, своими собственными глазами. Она наконец могла прикасаться к тому, к кому три года могла прикасаться только словами...
— Арно! Ну как же я могу?..
— Я обещал Богу, что никогда и ничего больше не попрошу, если Он позволит мне увидеть тебя снова. Хотя бы один раз!.. И вот увидел. Больше я не могу у Него ни о чем просить, поэтому буду просить тебя! Останься!
Ее нижняя губа дрожала. Марселетт покачала головой, ее влажные глаза снова покраснели, а брови выгнулись, и Арно обнял ее, когда она снова зарыдала в его грудь.
— Тш-ш, любовь моя... — Он снова стал убаюкивать ее. — Теперь все будет хорошо... Мы будем вместе... Дома...
Марселетт всхлипнула и плохо различимо закивала. Как ей хотелось ему верить! Но разве может революция позволить им осчастливить друг друга?
Она подняла на него глаза, опухшие от слез. Ей было больно смотреть на него, словно на солнце. То ли Арно действительно возмужал ещё сильнее, то ли, глядя три года на английских аристократов, Марселетт отвыкла от настоящих мужчин.
В ее памяти слишком свежи были воспоминая о некоторых лондонских джентельменах, из характера которых эпоха искоренила мужественные черты. Их манеры, одежда и поведение делались все более женоподобными с каждым годом. Они усердно следили за эстетикой внешнего вида и изысканностью речи, выделялись на фоне французских революционеров подчёркнутым позерством и стремлением понравиться, боялись грязи сильнее, чем женщины и брезговали тяжёлой работой. Во Франции закончилась эпоха сибаритов, а в Англии только начиналась эпоха денди.
Арно был им полной противоположностью. Он говорил мало, слушал и глядел внимательно, почти пристально, словно хотел во всем дать себе отчёт, обо всем знать, но не дать никому знать о себе. Марселетт восхищалась и трепетала перед ним. Это была настоящая непостижимая для неё мужская природа — она приводила ее в ужас и ей же внушала уважение.
Она отстранилась от него и сделала шаг назад, разведя руки в стороны:
— Но дома ли я?
Взгляд Арно ей о многом говорил. Он был и печальный, и беспокойный, и нежный, и жаждущий. Впервые Марселетт видела его, этого холодного мужчину, таким озабоченным. Взгляд — чудесное явление. Им можно выразить всё...
— Теперь я даже не знаю, где моё место, — призналась Гуффье и наступила в лужу крови около мертвого санкюлота во фригийском колпаке. — Францию у меня отняли, — Марселетт закрыла глаза мертвеца, на лице которого застыло посмертное выражение ужаса. С сомкнутыми веками он выглядел умиротворённым. — А Англию я никогда не полюблю, — Она подошла ко второму санкюлоту, вытащила шпагу из его груди и вручила Арно. — Готова была полюбить, но когда узнала о твоей гибели... Поняла, что всё в Лондоне мне чуждо, — И она закрыла глаза второму убитому санкюлоту. — И вот я здесь, в Париже, на моей родине... А меня хотят повесить. Так ли встречают дома?
Она выпрямилась и посмотрела на неподвижно стоящего мужчину.
— Зачем ты вернулась, Марселетт? — спросил Арно честно.
— Я не поверила, что ты умер, — ответила девушка с горячностью и шагнула к нему. — Но... — Она опустила глаза и переплела свои пальцы с его. — Ты прав. Я не отдам свою страну этим варварам. И свою любовь тоже не отдам.
Гуффье подняла взгляд, и столкнулась с замешательством на лице Арно, который смотрел на неё чуть нахмурившись. Их лица находились в нескольких дюймах друг от друга, и ей захотелось сократить это расстояние.
— Куда бы ты ни отправился, я буду с тобой. Потому что мой дом — это ты.
***
Арно жил на острове Сен-Луи, который во время революции был переименован в остров Братства, по соседству с отелем де Лозен на набережной д'Анжу, переименованной революцией в набережную Единства. Северным фасадом обращённый в сторону Сены и выполненный в стиле барокко, особняк ничуть не выделялся из ряда соседних домов ни архитектурой, ни интерьером. Почти единственными украшениями внутри дома были расписные фризы с изображениями орлов и отпечатками львиных лап, а снаружи — портал входа в виде глухой арки и ажурные кованные ограждения балкона и окон на третьем этаже с позолоченными элементами.
Когда дверь дома открылась, тишину помещения нарушил громкий шум дождя.
— Жардин! Разожги камин и приготовь горячую ванную! — распорядился Арно.
— Да, мсье, — тихо кивнула Жардин, его горничная, и сразу же принялась за работу.
Жардин была очень скромной девушкой из Нормандии, так что они с Арно сразу нашли общий язык. Когда ей было четырнадцать, ее родители умерли от тифа, и ближайшие родственники отправили сиротку в монастырь Святой Женевьевы. Монастырское воспитание сильно сказалось на и без того тихом характере Жардин — она никогда не высказывала вслух своих догадок. Так и сейчас, уже двадцатилетняя, она молча удивлялась тому, что ее хозяин пришёл трезвый, да ещё и с прилично одетой девушкой.
Едва оказавшись в доме, Марселетт трясущимися руками развернула конверт, который ей дал Арно. Она заправила за ухо мешающий локон, прочла письмо три раза, пытаясь поверить, и взволнованно посмотрела на Арно. Взгляд обоих горел негодованием.
В письме было написано:
Дорогой Арно де Корде д'Армон,
Мне известно о Вашей связи с моей дочерью. Не спешите отрицать ее — я не имею ничего против: если моя дочь Вас полюбила, значит, было за что. Хотелось бы мне верить, что Вы любите ее так же сильно, как она любила Вас... И хотелось бы мне, несчастной матери, разбитой горем, оставшейся ни с чем, присутствовать на Вашей свадьбе и качать на руках Ваших детей, как я качала когда-то на руках ее и ее брата.
Но что сказать, мой дорогой? Я научена жизнью: знаю, что мечты в этом мире сбываются редко. Вы ли тот, кто зовётся счастливцем? На сто дней едва ли найдётся один, полный неомрачённой радости и солнца. В этом мире, являющемся преддверием иного, по-видимому, нет счастливцев.
Последние два года мою несчастную дочь мучила чахотка — мы оказались не готовы к холодному климату Англии.
Сегодняшней ночью Марселетт упокоилась. Ее похоронят в Блумсбери, в садах Святого Георга. Так далеко от Франции, которой она грезила... Она хотела, чтобы ее похоронили в Париже. Как жаль, что мы не можем исполнить ее последнее желание. Выполняю, по крайней мере, ее последнюю просьбу.
Перед тем как умереть, она попросила меня сказать Вам, что любит Вас и что никогда так никого не любила.
Сразу после похорон мы уедем в Шотландию, — я не могу дышать в этом городе без неё — поэтому не пишите нам, если не хотите, чтобы Ваше письмо попало не в те руки.
С надеждой, что Вы разделяете нашу горечь,
Лидия де Гуффье
Лондон, 11 августа 1792
Почерк был Марселетт хорошо знаком. И он принадлежал не ее матери.
— Я узнаю этот почерк, — произнесла Марселетт тихо, не веря своим глазам. — Это писала не моя мама.
С этими словами она вытащила из внутреннего кармана камзола другое письмо и протянула ему. Письмо Лолы, написанное 10 августа 1792 года, где девушка сообщала о гибели Арно во время штурма Тюильри.
Корде прочитал его и сверил со своим — почерк действительно был идентичен.
— Неужели это... — У Арно язык не поворачивался закончить предложение, и это сделала Марселетт:
— Лола. Она обманула нас обоих.
Они секунду смотрели друг на друга.
— Зачем ей это? — насупил брови Арно.
— А ты догадайся.
Она вспомнила, как рассказала в одном из писем к Лоле о похоронах графа Стюарта, которого похоронили как раз-таки в Блумсбери, в садах Святого Георга, и ей захотелось кричать от ярости.
Лола использовала данную ей информацию против того, кто ей ее предоставил!
— Я отказывалась ей верить. Я писала тебе! Но ты не отвечал, — сказала Марселетт.
— Ни одно из твоих писем не дошло до моих рук, — ответил Арно. — По-видимому, Лола позаботилась и об этом.
Когда Жардин разожгла камин, — это был красивый камин из белого мрамора с фруктовым орнаментом — Арно заботливо усадил Марселетт на своё кресло с овальной спинкой — самое мягкое кресло в доме — и накрыл ее плечи лоскутным одеялом, простеганным льняными нитями по алому атласу, а сам уселся в кресло напротив.
На нем не было рубашки, что насквозь промокла под дождем, — он ее снял и повесил сушиться — поэтому Марселетт имела случай засвидетельствовать его мужественное и атлетическое телосложение.
Если бы Ветрувий, подумала Марселетт, измерил его тело и сопоставил со своими трактатами, он непременно назвал бы его идеальным. Арно был похож на статую Давида, выполненную золотыми руками Микеланджело.
Ее привлекало в нем всё — широкие плечи, прекрасный пропорциональный торс, мощный рельеф грудных мускулов, крепкие руки и дорожка волос, сбегающая от пупка вниз, к бугорку на штанах. Взгляд тёмных выразительных глаз в сочетании со всем этим пронизывал ее, невинную девушку, до самых костей. Полураздетое тело часто выглядит ещё более соблазительным, чем совершенно обнаженное.
В свете огня его кожа слегка золотилась, и пляшущие языки пламени шевелили на ней дрожащие тени.
— Ты попала в Париж без происшествий? — наконец спросил он после минуты напряжённого молчания.
За окном гремел гром, дрожал водосток от сотрясавшего его ветра, а здесь, в комнате, убаюкивал в тепле приятный треск дров в камине.
Марселетт, которая рассматривала каминные часы, бывшие, безусловно, настоящим произведением искусства, и не менее искусно изготовленные канделябры, стоявшие по обе стороны от скульптурной композиции часов, снова посмотрела на Арно не без робости.
— Как сказать? — она прикусила нижнюю губу и передернула бровями, опустив взгляд. — В Сен-Дени на мой дилижанс напали разбойники. Они ободрали меня как могли. Украли весь мой саквояж и, что хуже, попытались... Овладеть мною. Меня спасли проститутки. Одна из них, Кармен, показала мне безопасный путь в Париж — провела через катакомбы, поэтому мне не пришлось рисковать на заставах. Знаю, звучит, как плохая шутка, но...
Марселетт нервничала и говорила быстро, почти тараторила, ломая пальцы и щёлкая костями. Услышав о разбойниках, Арно подался вперёд, его глаза почернели, и он перебил девушку таким тоном, будто это было единственной значимой для него вещью:
— Они сделали что-то с тобой?
Гуффье растерянно обратила на него свой взор. Ей очень не хотелось отвечать. Пусть и знала, что это не было ее виной и не было ее выбором, Марселетт стыдилась происшествия, которое опорочило ее женскую честь. Она произнесла это тихо, спрятав очи:
— Только... коснулись.
Полные губы Арно сомкнулись в узкую полоску. Его кадык дёрнулся, и мужчина, шумно втянув воздух в легкие, откинулся на спинку кресла. Взгляд Корде сделался ещё более жестким, чем когда-либо. Мышцы на его торсе заметно напряглись. Вены на руках и внизу живота от этого напряжения сильно выступили. Его тело в тот момент было красноречивее лица.
— Я убью их. Я сейчас же отправлюсь в Сен-Дени и убью их, — произнёс Арно, глядя в потолок замершим взглядом.
Выглядел он так, будто стал свидетелем поистине ужасающей картины. Почти так и было: Корде рисовал в своём воображении жестокие сцены расправы над теми, кто посмел прикоснуться к его любимой.
— Они уже мертвы, — ответила Марселетт. Впервые за целый вечер ее голос в этом доме звучал жестко и уверенно, хотя и чувствовалось, чего ей стоила эта хладнокровность. — Мы их убили. Так что, не сомневайся, Арно, я уже хлебнула и знаю, что такое Франция теперь.
— Если они мертвы, где твой саквояж? — спросил он недоверчиво.
— Их было много. Мародеры, укравшие мои вещи, сбежали, едва получив добычу. Они не прикоснулись ко мне, — объяснилась Марселетт.
Тут же в комнату вошла Жардин:
— Ванная готова, мсье.
— Благодарю. Отведи туда Марселетт и одолжи ей сухое платье, а после уложи спать в комнате с красным ковром, — ответил Арно, не глядя на неё.
Он был слишком зол, чтобы смотреть на кого-то. Тот факт, что преступники наказаны и мертвы, не успокаивал его и лишь раззадоривал. Молчанием Арно пытался совладать с собой и своей тевтонской яростью.
Марселетт и Жардин удалились наверх, в ванную, а он так и остался сидеть возле камина в злой задумчивости, слушая грозу, которая словно была ведома его гневом. Не было сомнения: он дурно проведёт ночь.
***
Марселетт обхватила свои плечи руками, когда сняла всю одежду.
Пар от тёплой, почти горячей воды, исходил такой чарующий и манящий, что усиливал холод снаружи, и кожа девушки тут же покрылась мурашками. Она поспешила залезть в ванную и закрыла глаза от удовольствия, когда вода приняла ее в свои объятия.
— Несколько дней без горячих ванн было мучением! — проговорила она с наслаждением, обращаясь, по-видимому, к Жардин.
— Я боялась, что будет слишком горячо, мадемуазель, — поделилась горничная своими опасениями. — Хозяин любит холодные ванные, и я не знала, какую температуру предпочтёте Вы. Сделала на свой вкус.
— И снова угадала. Вода потрясающая, — улыбнулась Марселетт и открыла глаза, посмотрев на девушку, которая уже готовила для неё ночное платье.
Жардин бережно расправила его и повесила на золотисто-красную ширму, украшенную китайскими узорами.
Ванные, в особенности горячие, всегда расслабляли ее и ассоциировались с домом, поэтому, снова оказавшись в этой чарующей обстановке, девушка на время выбросила из головы все свои проблемы и просто наслаждалась этими сладкими мгновениями. Что-то ей подсказывало, что таких спокойных минут в ее жизни со временем будет становиться все меньше и меньше. Однажды настанет тот момент, когда, даже сидя в ванной, она не сможет выбросить из головы мысль о смерти, и когда малейшая тень на воде будет казаться ей расползающимся пятном крови.
— Простите мне мое любопытство, мадемуазель... откуда у Вас этот шрам? — ужаснулась Жардин, когда Марселетт вышла из воды.
— Бастилия, 14 июля, — Марселетт поджала губы, вспомнив тот страшный день. — Меня подстрелили.
— О, мне так жаль! — охнула горничная и положила ладошку на сердце.
— Я легко отделалась, — Гуффье передернула плечами. — Другие заплатили жизнями.
Час был поздний, и не имело смысла шнуровать корсет или напяливать кучу юбок — Марселетт лишь надела ночную сорочку, чтобы лечь спать.
— Чья это сорочка? — спросила Гуффье.
— А, моя. Я храню здесь чистые вещи на случай... вроде этого, — ответила горничная.
Марсельез нахмурилась и с недоумением посмотрела на неё:
— Такое часто случается?
— Вам грех с такой фигурой носить мужские камзолы! — заметила Жардин, сменив тему.
Однако, было это искренне. Она ей завидовала белой завистью — сама Жардин была тоненькой, словно спица, и имела только намёки на женские изгибы.
— Грех с таким очаровательным личиком работать горничной, — ответила Марселетт ей.
Это была чистая правда: лицо у Жардин было прелестное. По-детски милое и наивное, очарования которому придавала коса каштановых волос за спиной.
Таким же был и нрав.
Комната, куда горничная отвела Марселетт, была самой большой и роскошной — видно, предназначалась для гостей, так как сильно отличалась от той скромной, где стояла ванная. Та комната была комнатой Арно, а эта выглядела великолепно.
Она была отдекорирована фарфоровыми накладками, которые были сделаны, скорее всего, на мануфактуре в Севре, недалеко от Парижа.
На полу действительно лежал шикарный красный ковёр из шерсти — почти наверняка он был или самой дорогой вещью в доме, или самой старой. Рядом с кроватью, над которой висел балдахин нежного пастельного оттенка, стояло большое напольное зеркало — ещё один предмет роскоши, который порадовал глаз избалованной до невозможности аристократки.
Приставленное к стене бюро было украшено маркетри из кусочков тёмных и светлых пород деревьев. Композиция замыкалась в овал, за которым красовался рисунок в виде паркетного узора.
Мотивом обоев здесь были полевые цветы, сирень, белые ленты с тёмно-красной окантовкой и павлиньи перья. Рисунки, без сомнения, выполнила рука мастера.
Словом, комната ее не просто устроила, но и даже восхитила.
Марселетт быстро написала родителям письмо, в котором сообщала о том, что приключение для неё завершилось благополучно, тысячу раз перед ними извинилась за побег из Англии и конечно же умолчала о происшествии в Сен-Дени. Она попросила Жардин отправить послание по адресу завтрашним утром и вздохнула свободно. Вот теперь ее совесть была наконец чиста.
На этих мягких и воздушных простынях девушка заснула с большой радостью и даже улыбнулась от удовольствия, устроившись в одеяле. Едва ли она наслаждалась бы всем этим так же сильно, если бы знала, что на этой самой кровати не раз совокуплялись с большой страстью Арно и Изабелла.
***
Ее разбудил нежный голос девочки лет тринадцати, доносившийся с шумной набережной. Это был хорошо знакомый ей мотив — le Carillon national, который Марселетт не раз слышала в Версале, когда и сама была ещё девочкой, но слова песни ее поразили. Голос пел:
Ah! Ça ira! Ça ira! Ça ira!
Les aristocrates à la lanterne
Ah! Ça ira! Ça ira! Ça ira!
Les aristocrates, on les pendra!
В переводе на наш песня звучит так:
Ах, дело пойдёт! Дело пойдёт на лад,
Аристократов на фонари,
Ах, дело пойдёт! Дело пойдёт на лад,
Повесим аристократов!
Марселетт, подошедшая к окну, чтобы увидеть утренний живой Париж, с ужасом отшатнулась от стекла, когда увидела, что к девочке присоединились ещё люди. Теперь они вместе сидели на набережной и призывали повесить аристократов на фонари. Ей казалось, если они поднимут глаза на окно и заметят ее, то сразу поймут, что она аристократка, и тут же повесят.
В комнату вошла Жардин.
— О! Вы уже встали, — обрадовалась она. — Хозяин попросил Вас разбудить.
Слишком расстроенная и слишком напуганная тем, что услышала, Марселетт только лишь кивнула. Жардин тоже слышала пение, но ее слух настолько привык к этим жестоким словам, что она не сразу поняла, в чем дело.
— Эту песню теперь лепечет каждый малыш, если он уже умеет говорить, — с сожалением произнесла горничная, когда поняла, что Марселетт, должно быть, слышала это впервые. — Ее начали петь два года назад. Незадолго до праздника в честь годовщины взятия Бастилии.
— Это ужасно! — воскликнула Марселетт и задернула занавески. — Такой красивый голосочек и такая ужасная песня! Словно след слизняка на лепестке молодой розы!
Она отошла от окна и зажмурилась, схватившись за виски.
— Вам нехорошо, мадемуазель? — забеспокоилась Жардин и протянула к ней свою тонкую ручку.
— Я в порядке, — ответила Марселетт мрачно.
— В таком случае, я сообщу хозяину, что Вы скоро спуститесь завтраку? — спросила горничная на пути к выходу.
— Конечно, — Гуффье вздохнула и пожала плечами. — Но позже вернись и помоги мне нарядиться.
***
— Ты должен всерьёз задуматься над этим. Если вступишь в Национальный Конвент, твоя жизнь изменится.
Арно обречённо вздохнул и едва удержался от того, чтобы закатить глаза. Он ужасно устал от этих разговоров. Наполеон сильно надоедал ему тем, что пытался убедить его в правильности становления депутатом Конвента, выборы в который состоятся совсем скоро.
— Мы уже не первый год спорим об этом, — напомнил ему Арно. — Мое мнение не изменилось. И не изменится, хоть ты глаза выколи.
Они сидели на первом этаже дома за накрытым столом, ожидая Марселетт, которая вот-вот должна была спуститься к завтраку.
— В преддверии всего этого женщины снова начнут открывать рот, — проворчал Бонапарт. — Олимпия де Гуж опять будет требовать права.
Выращенный книгами Платона и вскормленный античными взглядами на feminam, то есть женский пол, Наполеон ратовал против допущения их к политической жизни и был жутко недоволен сильной эмансипацией женщин, которая началась с приходом революции в страну.
— Олимпия де Гуж права. Если женщина имеет право взойти на эшафот, она достойна подняться и на трибуну, — заметил Арно. — Именно женщина возвысила Англию, не забывай об этом.
— А ещё женщина разрушила Францию, — парировал Наполеон и скрестил руки на груди. — Женщина — это олицетворение разрушающего хаоса. Любая благая идея может быть омрачена женским влиянием. Мужчина создается своими деяниями, а женщина – своими свойствами. А вспомни слова Руссо! И Аристотель считал...
— Безусловно, я уважаю Аристотеля, — перебил его Корде. — Но некоторых высказываний ему простить не могу. Они оскорбительны для моей совести. Я всё-таки рождён женщиной, которая меня любила. И Аристотель, кстати, также.
— Закроем тему, — отмахнулся Бонапарт раздраженно. — Вернёмся к Национальному Собранию. Ты представляешь себе, какие возможности перед тобой откроются?
— Мне ничего не нужно.
— Ты говорил об этом с Дантоном? Робеспьером, Маратом или Сен-Жюстом? Они уж наверняка убедили бы тебя.
— Дантон пытался, но, в отличие от некоторых, уважает мое мнение, — заметил Арно равнодушно и отпил немного вина. — Марата я не особенно жалую, и это абсолютно взаимно. Робеспьер... Робеспьер слишком занят тем, что удивляется Марату, а Сен-Жюст... С ним у меня тоже не сложилось. С ним как раз хуже всего.
— Знаю, — усмехнулся Наполеон и тоже пригубил бокал. — Но знаешь что? Проповеди Марата может быть слишком кровавы, а Сен-Жюст может и не лучший твой друг, ведь он не я... Но тот, кто не я, иногда тоже бывает прав.
— Да, тоже бывает прав, но когда? Когда его мнение похоже на твоё?
На лестнице послышались робкие шаги.
Это спускалась Марселетт. Арно так и замер, увидев ее.
Впервые на ней было такое скромное платье. Цельноскроенное белое, подпоясанное высоким тёмно-синим поясом из широкой шёлковой ленты, со скруглёнными вырезом, украшенным оборками и кружевами, рукавами по локоть без рюшей и маленькими подкладными подушечками под юбкой по бокам. Девушка приподнимала подол, спускаясь, и ее стройная ножка открывалась до середины икры. Она ступала мягко и легко в прелестных атласных туфельках на плоской подошве.
Марселетт нервничала. Левой рукой она сжимала висевший на ее юбке золотой шатлен, богато украшенный орнаментами, драгоценными камнями и эмалью, на котором висел миниатюрный несессер с пасторальными изображениями, — единственное, что у неё не украли в Сен-Дени, — а правая ее ладонь изящно скользила по перилам.
Ее предупредили, что будут гости, но она не ожидала увидеть спор.
— Милая, ты выглядишь ангельски, — сказал Арно, встав и проведя ее до стола.
— Марселетт, — Наполеон поцеловал ей руку, как следовало по этикету. — Я о тебе наслышан.
— И что же ты слышал обо мне? — осведомилась девушка, усевшись на стул фисташкового цвета.
— О том, что ты — одна из тех безумных женщин, кто стрелял в Бастилии в мужской одежде, — сказал Бонапарт, усмехаясь. — И о том, что ты Арно дорога.
Последняя его реплика смутила Марселетт.
— По правде говоря, я не убила ни одного швейцарца 14 июля, — призналась она с улыбкой. — Меня подстрелили раньше, чем я успела помочь Революции. Если бы не Арно, я уже была бы мертва.
— Жаль, что твоей семье пришлось бежать заграницу после событий 5 октября, — Наполеон налил Марселетт вина и протянул ей бокал. — Поверь мне, я понимаю твои чувства. Знаю, какими бывают французы, выступая против определённой группы людей, которых они считают недостойными, — Он откинулся на спинку стула. — Я корсиканец. Меня зовут Наполеоне Буонапарте.
Так на корсиканский манер представлялся будущий император. Он говорил с сильным итальянским акцентом, поэтому Марселетт сразу поняла, что он не был французом.
— Оу! — сочувственно кивнула она. — Представляю себе это.
Во Франции не любили корсиканцев, а на Корсике — французов.
— Забавно, что в школе меня дразнили из-за происхождения и безденежности моей семьи, — Бонапарт налил себе ещё вина. — А теперь из-за мундира принимают за дворянина и требуют доказать верность нации, — Он усмехнулся. — Видимо, мы никогда не будем нравиться людям. Да и нет смысла к этому стремиться. Взять хотя бы розы. Не все люди любят розы, многие их просто ненавидят, а розам все равно. Они прекрасны, они цветут, что бы о них ни говорили.
— Тогда по какому поводу вы спорили? — спросила Марселетт.
— Наполеон уговаривал меня выставить свою кандидатуру на выборы в Законодательное собрание, — ответил Арно, накладывая в тарелку огуречный суп. — Я отказался. Теперь уговаривает пойти в Конвент.
— Почему ты противишься этому? — Марселетт переменилась в лице. — Если бы ты стал депутатом, ты бы...
— Господи Иисусе, не начинай!
Наполеон пожал плечами и развёл руками в стороны, когда Марселетт посмотрела на него.
— Но ты даже не объяснил! — настаивала она, обращаясь к Арно.
— Смогу ли я сохранить себя, если стану распоряжаться чем-то большим, чем собственная жизнь? — резко ответил он и посмотрел на неё. — А смогу ли себя простить в случае провала?
— Ты должен наконец взять себя в руки и заняться делом! — вспылил Бонапарт. — Если бы я мог, я бы...
— Мне нужно не больше, чем я имею, — отрезал Арно. — Мне не нужно, как тебе, отправлять деньги бедной матери. Моя давно умерла.
Он печально пожал плечами и сжал губы в полоску.
— Мой отец работает на грядках... И не примет ни франка, им не заработанного. Он купил мне этот дом, когда я вышел из школы. Я пытался вернуть долг, но он всё до последнего су отправил назад. Мои сестры воспитываются при монастырях, им дела нет до денег, а я сам... У меня нет Луи, которому я должен оплачивать учебу из своего скудного жалованья, Наполеон. У меня нет ничего, что стоило бы этой жертвы.
Он безумно скучал по дому. Нормандию Арно любил куда больше Парижа. Ему непривычна была даже местная кухня: в Ронсере он каждый день ел свежую морскую рыбу, а в Париже ее было не найти, так как незасоленная рыба выдерживает лишь очень небольшой переезд, — не более тридцати-сорока лье — а если она и находилась, то стоила слишком дорого и была по карману одним только бенедиктинцам.
Тема семьи заставила спор прекратиться.
— Я думала, такие дебаты устраиваются только в кафе Пале-Рояля, — выдохнула Марселетт, переводя тему в другое русло, потому что в такой тяжёлой атмосфере даже кусок в горло не лез.
— Не говори больше это слово, — предупредил ее Арно. — Только не при других людях. Особенно людях в колпаке. Теперь это не Королевский дворец, а Пале-Эгалите.* Филипп отказался от дворянского титула. Как, кстати говоря, и я.
— Ты отказался от дворянского титула? — в ужасе переспросила Марселетт, не веря собственным ушам.
— Он тешил только фамильную гордость, — сказал Корде таким тоном, будто принадлежность к аристократии значила для него не больше, чем простая условность.
— Ты не говорил мне об этом... — тихо произнесла девушка.
— А если бы я не отказался, моя голова сейчас была бы там же, где головы многих других аристократов, — Арно посмотрел на неё: — И тебе тоже придётся стать гражданкой. Чем раньше, тем лучше.
Марселетт сглотнула.
— Что ещё здесь изменилось? — спросила она.
— Здесь изменилось всё, — вырвалось у Наполеона. — Революция в корне изменила жизнь каждого француза. И каждого гражданина.
И это была истинная правда. Даже повседневность более не походила на дореволюционные времена. Изменился и сам внешний вид Парижа.
Бастилия. Это пугало, наводившее на французов ужас с самого XIV века, наконец было побеждено и снесено: в 1791 крепость полностью разрушили, а на ее месте подрядчик работ по сносу, человек по имени Пьер-Франсуа Паллуа, установил табличку с надписью «Ici l'on danse, ah ça ira, ah ça ira» (рус. «Здесь танцуют, и все будет хорошо»).
Улицы, где раньше бурлила жизнь и на которых резвились дети, потускнели. Оставшиеся дворяне, опасаясь за свои жизни, теперь носили куртки бедноты.
Арно пришлось выбросить кюлоты и шелковые камзолы ради собственной безопасности, но фригийский колпак он так и не надел, потому что общие настроения никогда не влияли на его собственное мнение. Он предпочитал действовать по своему разумению.
— Сегодня 19 августа? Лола планировала зайти, — признался Корде, осторожно поглядывая на свою возлюбленную.
— Ah! Ça ira! — воскликнула Марселетт. — Я бы хотела задать ей пару вопросов.
___________________
Egalité — (рус. равенство)