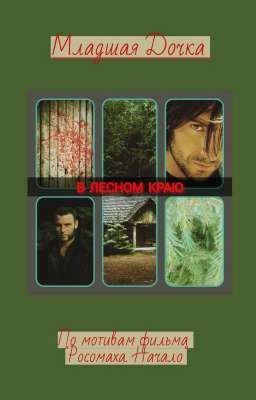8. Нужен
Ей бы сжаться в комок и притвориться несчастной жертвой, как и советовал младший из оборотней — незлой совсем мальчишка, хоть и смотрится букой. Дожидаться бы ей спасения и придумывать, пока время есть, сказ о своих страшных и жестоких похитителях...
Но Ивон отчего-то бежала, не застегнув даже — лишь запахнув на себе мужскую рубаху. И не туда бежала, где могла бы найти свободу, а туда, откуда слышала лай собак, брань и выстрелы, куда не следовало соваться, коль нет охоты расстаться с жизнью, куда никто в здравом уме не пошёл бы. Но она почему-то шла. Нет, бежала. Со всех ног. Мертвела со страху, но неслась сквозь густой и колючий подлесок, как через все доводы разума.
Ивон в ужасе отпрянула, когда наткнулась на труп собаки: с разорванным горлом и боком, но с куском плоти в зубах. Чьей плоти? О, Всемогущий Боже!
Ноги слабели уже от волнения, заплетались, но шли. Страшно думать о том, что увидишь, но всё спешишь и спешишь к ужасному, на что-то изо всех сил надеясь, но, верно, напрасно.
Ивон вскрикнула — перед нею было два тела: одно валялось в кустах, другое висело на сучьях наполовину упавшего дерева. Но оба в крови, будто задраны зверем.
Ещё трое в стороне. Один шевелится, но Ивон на него не смотрит — бежит дальше.
Лай собаки, истошный визг. Рык и... выстрел! Снова! Ещё, ещё!
Сердце рвётся, но уже не поймёшь, от чего. Хотя нет, всё от того же: от страха. Убьют ведь, убьют! Убьют его!..
Пять человек. Глаза ошалелые, но у всех по ружью. На медведя с такими ходить — не иначе. Окружили и на прицеле держат.
А он на четвереньках стоит, в крови. Весь — весь, ВЕСЬ! — в алом. Он хрипит и рычит, но не может уже сражаться. Отчаянно скалит порванное лицо, рукой пытается замахнуться. Но разве победить в столь неравном бою?
А ведь он не зверь лесной, чтоб за ним охотились! Чтоб травили злющими гончими! И за что? За расправу над выродком!
— Не стреляйте! Не стреляйте, пожалуйста!
Она крикнула так оглушительно, что на миг всё кругом замерло, перестало даже дышать. Она крикнула? Да, она крикнула...
— Что за шлюха? — тот, что ближе был, нахмурился и поморщился.
— Ведьма демона пришла защищать! — гаркнул другой и выстрелил.
***
Было больно. Было так больно! И так далеко был он — весь в крови, такой же застреленный. Он ведь жив ещё, и Ивон пока дышит. Как же хочется к нему! Тогда б не было так страшно и сердце б не разрывалось.
«Не стреляйте, уберите собаку... Умоляю! Да будьте ж людьми!»
Слёзы душат, мешают видеть. Переполох там какой-то, кажется. Вроде сверху что-то упало, и люди кричат, и скулит охотничья псина.
Вроде это... Неужто Джейми? Поздно, мальчик. И тебя ведь они убьют!
Грохот, вопли и пахнет порохом. Резко так. Как же резко!
***
Виктор к боли давно привык. Она всю жизнь отравляла его дни, сколько он себя помнил. Раньше он боялся её, но теперь всё было иначе. Страха Виктор не знал — он охотник, а не добыча. Да к тому же бессмертен. Вся боязливость ушла из него в тот момент, когда в первый раз был застрелен в упор, но от этого не сдох, а тут же почти исцелился.
Нечего было ему опасаться, ни ему, ни Джейми. Вон как дерётся бесёнок лохматый! Прямо с дерева и в глотку одному — рраз! Не успел из первого когти вынуть, как второму — чирк по брюшине. Пса ногой — правильно! Не шавке тут права качать среди леса.
«Эй, ты! Хрен тебе, а не выстрел. — Порвать Вик ещё сумеет. — «Что орёшь, мать твою?! Страшно? Потому и убит — ничтожество. Аааххх! Благовония, а не кровь! Да, да, бойся, бойся, трепещи! Не вздумай только обделаться. Не порть Вику пиршество... А вон те, что драпают, Джейми, — это твои. Прикончи быстро, эти точно со страху осрамятся, если помедлишь с расправой. А ты ведь знаешь, братец, как обидно бывает вонь вдохнуть, а не сладость победы. Ммм...»
Уже и не больно, вроде. Да что боль! Так — пройдёт и забудется, а что не уймётся, то Вик утопит в крови и в дурманящем запахе, который она источает.
***
Виктор встал. Ничего уже не болело — только корки крови стягивали голую кожу да пить хотелось, как и после каждого возрождения.
Джейми понуро сидел над трупами. Вечно он мучился чем-то. Глупостью! Не понимал Вик всех этих бредней о человечности. Человеку трудно всегда и больно, а зверю — во всём легко. И чего тут ещё выдумывать? И не лучше ль жить в согласии с природой? Со своей природой, Джейми. И без этого лицемерия. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? Брат, очнись! «Хорошо» — это когда тебе хорошо, а «плохо» — когда плохо.
Славно развлеклись сегодня — хорошо. Только вот продолжаться банкет не будет — это как раз-таки плохо.
Сейчас попить бы, пожрать, да с девкой в постель. Как её там? Ивон, что ли? Но девка лежит вся в крови, на него глядит. Ждёт, только не на ложе.
Виктор Крид не умел сожалеть о чьей-то оборвавшейся жизни — слишком часто обрывал её сам. Да и о чём там жалеть-то? Не стоит того ни одна людская душонка.
Однако к девчонке он всё же подошёл. Захотел. Он ведь не привык отказывать себе в своих желаниях. Сам о себе не позаботишься, так никто и не подумает даже.
Сердце девки стучало редко, но гулко, и чем ближе был Вик, тем чаще оно вопреки всему вдруг срывалось в неровный прерывистый трепет. Губы бледные, совсем некрасивые, что-то пытались выговорить. Только голая грудь под его рубахой, вся в крови, всё так же манила зверя.
Зверь присел и коснулся груди рукой. Кровь не пахла привычным страхом. Просто кровь.
«Да что ж она, совсем не боится?! Дурочка. Кто ж тебя научил, что можно кому-то верить? Вот возьму сейчас да уйду, одну подыхать оставлю. А ты знаешь, как это страшно — в одиночестве умирать, никому не нужной? А я знаю, я умирал. Вот уйду, и ты снова запахнешь страхом, страстью и страхом, так, как мне нравится. И я долго буду чувствовать этот запах...».
Так мыслил Вик, но отчего-то не двигался с места. Не хотел. Он ведь не привык делать то, к чему не лежит душа. И вместо того, чтоб исполнить свою угрозу, просто ждал, когда угаснут наконец голубые глаза девчонки, и меж делом мял в руке то, что было приятно, то, по чему, наверное, всё-таки будет скучать.
Не оставит он эту девку, нет. Плохо быть никому не нужным. В брате, так похожем на него и связанным с ним судьбой и клятвой, Виктор нуждался гораздо больше, нежели тот в нём. Пока мал ещё, может, и надобен ему старший. А как вырастет... На кой чёрт тогда Вик ему сдался? Вот единственный страх у Виктора, вот о чём думы всякий раз, как не спится!
Вредный Джейми и своевольный. Вечно всем недоволен. И Виком тоже. Не нужен Вик. Просто не нужен.
А девчонка... как-то так смотрит, будто ей он, Виктор, на что-то сдался. Чего не спряталась? Чего прибежала сюда, на дуло кинулась?
Любовь понравилась?
Да какая уж разница? Не бьётся сердце. Вот и ему уже Вик без надобности.
***
Всё — тишина. А Вик сидит, уходить не хочет. Жаль почему-то Вику, и больно. Убежать бы от этой боли — такая она невыносимая, зараза. Когда тело рвут — это можно стерпеть, хоть сколько угодно. А внутри когда...
Бросить, скрыться, уйти бы, а он и с места никак не сдвинется.
Он был нужен ей. Нужен...
— Похоронить её надо, Вик, — это Джейми подошёл и руку положил на плечо.
Не знал Виктор, любит он или не любит все эти телячьи нежности, но брат был рядом, и в такие моменты казалось, что не оставит. Вик ведь нужен ему. Может, всё-таки нужен?
«Ты ведь мой брат, Джейми. Ты ведь меня понимаешь. Понимаешь ведь?.. Вряд ли. Вечно всё тебе не так. И ничего тебе не скажи, чёрт патлатый».
— Похоронить?
— Ну, не оставлять же. Девчонка была хорошая...
«Хорошая. Девчонка была хорошая...» — нет в этом ничего определённого, но где-то щемит до кома в горле. Кого бы задрать ещё?! Вот дьявол: некого!
— Не трудитесь, — Вик вздрогнул и Джейми тоже; перед ними стояла индейская бабка, с виду ведьма или знахарка, быть может; принесли ведь откуда-то черти. — Идите своей дорогой. Я сама о ней позабочусь.
Что за?..
Виктор напрягся, набычился, как всегда примерился: а не умерить ли кому наглости? Не терпел он тех, кто не считался с ним, не боялся его. Только брату это было позволено. А всех прочих — рвать на куски, особенно сейчас, когда до смерти хочется, когда внутри как будто оборвалось что-то.
— Не надо, Вик. Уйдём лучше.
«Вечно, братец, ты со своею придурью. А что делать? Уйдёшь — я сдохну!»
***
Когтистые братья сидели у чахлого костерка, были голодны и даже для самих себя молчаливы: молодой человек и отрок, очень похожие друг на друга и разные одновременно.
Один самоуверенный напоказ и смелый до наглости, когда нужно взять что-то желанное — ведь ничто и никогда не доставалось ему само собой, и он давно уяснил для себя простую, продиктованную нелёгкой жизнью истину: нужно что-то — так бери, выдирай когтями.
Другой — колючий, едкий, прямолинейный, который коль выдавит из себя слово, то хлестнёт им побольнее плети. Потому, наверное, больше помалкивает — не видит в том чести для себя, чтоб без нужды ранить кого-то. Но и тех редких слов-ударов довольно бывает, чтоб навсегда отбить желание вызывать его на беседу.
Вот и в этот раз брат его не был дураком — не лез на рожон, хотя внутри всё кипело болью. Наверное, Виктор мог бы завидовать Джеймсу, винить его в том, что так несправедливо всё складывалось в их жизни: у одного вполне себе счастливо и с любовью, а у второго горько и безрадостно — однако, нет, Вик не завидовал. Он просто вёл за собой мальчишку, ибо иначе не видел для себя никакой жизни, много чего прощал, старательно не замечал очевидного, и всё оттого, что не мыслил себя без брата.
Но в тот распроклятый день как ни старался старший уйти от любых разговоров, а младший всё же высказался, как всегда пронзив болью, точно на когти свои насадив:
— Жалко Ивон. Хорошая была девчонка.
Вик задохнулся. А то он не знал, чёрт подери! Не успел понять, какой она была хорошей! Такой хорошей, что под пули полезла... Дура! Не выкинь она этого, то и лежала бы теперь у него на колене или на плече, а не в мусоре лесном, куда бабка индейская, поди, закопала. Подумаешь, не узнал бы он, как может быть дорог кому-то! Подумаешь...
Знает ли кто хоть что-то о том, как не хватает в жизни такого вот бреда: внимания, заботы, верности? Когда они безусловны и даются просто так, лишь за то, что ты есть такой хороший на белом свете. Вик одни пинки всегда получал, обиды и безразличие. Безусловно. И алчущими, несчастными глазами смотрел на то, как мать и отчим любят младшего брата.
А вот теперь кто-то полюбил и Вика, кому-то он оказался надобен, так надобен, что и жизни, смотри ж ты, не жалко...
Вот только где теперь этот кто-то? Нету. Нету, нету! Виктор знал теперь, каково это, когда тебя любят, да что толку-то, когда любить уже больше некому.
Вот поэтому он, чтоб забыть навсегда и у брата отбить желание вспоминать больное, стиснул зубы и проговорил как можно бесцветней и даже с презрением, с философской отстранённостью и цинизмом:
— Знаешь, Джейми, для чего на свете бабы?
— Ну? — Джеймс не ждал от брата ничего хорошего, да и правильно делал — в Викторе не было ничего такого, что походило бы на честь и совесть.
— Для того, чтоб мы их имели! — с важным видом резюмировал Виктор Крид и, как мог, постарался скрыть от брата желание выть от горя. Грубость и беззаботное наплевательство на всё и вся — вот лучшие маски, за которыми никто и никогда не увидит правды.
Не нужна она никому. А раз так, то и Вику тоже.