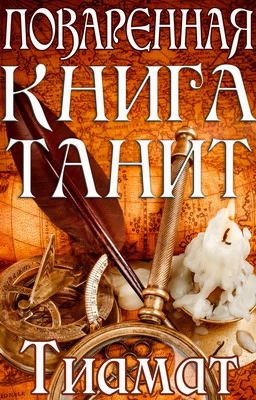9. Отрава
Из грибов я знаю одни шампиньоны. Ну ладно, вешенки еще. Собирают их не в лесах, а в собственных подвалах. Или в лавке зеленщика. Лесов-то у меня на родине нет. В сырых низинах встречаются мухоморы. Только их, ясен перец, не едят, а употребляют согласно названию. Мух морят, то есть.
А прочие грибы для нас привозные деликатесы. Продают их солеными, сушеными, маринованными, в кадушках, берестяных туесках, а те, что подороже, поблагороднее, в стеклянных баночках. В большом городе чего только ни попробуешь. Вот и я грибов налопалась. Особенно понравились опята. Крошечные, славные, словно игрушечки. На маринад специально мелкие отбирают, как огурчики-корнишоны. А если им дать вырасти – вполне себе здоровые. Живых я не видела никогда, свежих то есть. Но по сушеным, когда в кипятке разбухнут, можно судить.
Связку сушеных опят мне притащил Брие, погонщик. Сам собирал, а жена сушила. Он родом из Илмаэра. Крепко скучает по дому; хотя бы по тому видно, что любит посидеть у меня под навесом, пока я готовлю, «погуторить», как он выражается. А поскольку дело не обходится без какого-нибудь подношения, вроде этой связки грибов или домашних солений, я не возражаю.
Сидит, смолит «козью ножку», рассказывает, упирая на «о», по-илмаэрски. Он совсем деревенский житель, старина Брие, прямо от сохи.
– Что ж, отец, тебя так далеко от дома занесло?
– Дак окромя меня кто ж работать-от будет? Некому окромя меня работать, – степенно отвечает словоохотливый старичок. – Ваши, штоль, торговые люди с мулами станут трястись, али с верблюдами там? Али нешто фарри станут убиваться, за скотиной ходить? У нас ить страна бедная, все на заработки ездют, кто куда, кто в Криду, кто лес рубить – далече, ажно до самого Храма добираются. Ишшо со степняками торгуют, да только косо у нас на таких смотрют, зазорное это дело, стыдное, нешто степняки не убивцы, не греховодники. Лучче уж как я, в чужой стороне по полгода. К осени-от завсегда ехаю охолонуться, а то жара в печенках сидит. Страсть как я осень люблю. У вас-от круглый год лето, и не знаете такой красоты. Желтенькое все такое, красивенькое, а видать далеко-о, до самых синих гор. Встанешь посередь лесочка на горушке, цигарку закуришь – хорошо. Душа как есть отдыхает. Грибочков опять же насоберешь – рази ж плохо. Хозяйка моя их и нажарит, и насолит, и насушит. Нынче грибы богато уродились. Даже тебе-от привез. У нас ить как – если к обеду два ведра не насоберешь, говорят: плохой год, мало грибочков.
Чудно даже думать – вот у нас в Кеннесоу на рыбную ловлю выходят. А кто-то в лес по грибы.
Я поделилась своей мыслью с Брие.
– Ить правда, похоже, – протянул он. Видно было, что сравнение его поразило. – Только рыбу проще. Ее ить приманить можно, наживкой. Или сетями брать.
– Да и волшбой глушат, если совести нет, – поддакнула я.
Старик очень увлекся сопоставлением сбора грибов и рыбной ловли.
– Снасти зато никакой не надоть. Корзинка да ножик.
– Ну и нам случалось на нитку с булавкой ловить. В море зато акулы.
– Чай, у нас в лесу опасностев не меньше. Мишку, бывает, встретишь. Только об эту пору они сытые, незлые. Не весна, чай. А то ишшо и жмию можно увидать. Ты к пеньку руку тянешь, а она тебя из-под пенька цоп!
– Очень ей это надо, – засмеялась я. – Змеи нас еще больше боятся, чем мы их. Если не наступил, не растревожил, в угол не загнал – не тронет.
Брие спорить не стал – видно, про змею загнул ради красного словца, как же без этого. Дальше давай «гуторить»:
– Первая-от опасность какая – поганки, которые добрым грибом прикинутся. Возьми ложные опята – как их от настоящих отличить? Разницы-от с мышиный хвост. Цветом немножко, да ишшо местом. Настоящие под березой растут, а ложные сосны любят. У нас ить как – ежли сомневаешься, не бери, выкинь. Хужее не будет. Сосед мой Гондла так-от над городскими пошутковал, над криданскими. Они по лесу шасть-шасть, набрали полные корзины, довольные! А Гондла им говорит, между делом будто: пошто, дескать, поганок набрали? Крыс травить? Так мышьяком крыс надоть, мышьяком оно лучче. Те заполошились: как поганки? Взгрустнели сразу. Давай корзины выворачивать наземь. А Гондла еще покрикивает: пошто у обочины раскидали, а ежели к примеру свинота моя мимо пойдет да сожрет? Околеет ить, как есть. Нате дерюжку, на дерюжку сыпьте, я вынесу потом и закопаю. Так те ему ишшо и спасибо сказали. Сели да уехали. А он грибочки хвать и домой. Только не пофартило ему с того обману. Видать, и правда поганки попались. Потравились все.
– Насмерть? – испугалась я.
– Да где, животом помаялись, и вся недолга. Больше Гондла так не шутил. Только, бывалоча, сам грибов насоберет и городским втридорога впарит. А те и рады, что по горкам не валандаться.
Старик затушил окурок и сказал задумчиво:
– Люди – они ить тоже, как грибы. Бывалоча, всякая поганка человеком прикинется. А бывалоча, с виду хорош, а внутри червями источен, аж в руках рассыпается. Пока не срежешь, не узнаешь.
Я невольно задумалась. Да, есть в этом какая-то сермяжная правда. Вот как у нас говорят – пока с человеком в море не выйдешь, не узнаешь его. А если ты с ним просто так видишься – как узнать, что у него внутри творится? Совсем гнилых-то мне не попадалось. Но с мужиками моими все было так, как Брие говорит. С виду хорош, а внутри какая-то червоточина. Один импотент, другой пьяница, третий на работе повернут. У четвертого вдруг обнаружились две любовницы. Пятый... э, да что говорить.
Степняк вот мой – вроде всем взял молодец, ну разве что безъязыкий, так это даже в плюс можно засчитать. Но только в один совсем не прекрасный день махнет хвостом да испарится. И что я делать буду?
Нет, мысли такие – чистая отрава. Что делать, что делать – да то же самое, что сейчас. Суп варить. Конечно, уже не грибной, а лагман или солянку. Грибной суп не бог весть что, жареные грибы лучше, но как еще связку грибов растянуть на сорок человек? Не лопать же втихушку? Лопать втихушку я себе позволяла только сметану. Такие у меня были строгие моральные правила.
За сметаной я отправилась, поставив кастрюлю с супом на слабый огонь. Сметана и все такое прочее хранится у нас в погребке, а погребок выкопан сажени три в глубину в том шатре, который служит кладовой. Отодвигаешь крышку и спускаешься по приставной лестнице. Мне бы отложить сметанки, частью в плошку, частью в рот, да уйти, а я присела на нижнюю ступеньку. Хорошо! Тихо, темно, прохладно. И вдруг слышу – в кладовой кто-то есть.
Я затаилась, как мышка. Не знаю почему, но по спине прошел холодок. Кто еще в кладовую ходит, кроме меня? Только когда продукты привозят. Неужто вор у нас завелся?
Поправочка: двое. Они говорили на всеобщем, тихо-тихо, но кое-что я разобрала. Вроде бы: «Он здесь. Ты уверен? Точно». Промелькнуло имя Райно. Один голос незнакомый, а второй будто бы знакомый смутно, будто слышала его когда... Красивый такой, глубокий, от таких голосов у девушек идет дрожь по телу, между ног начинаясь. Но я не от возбуждения дрожала. Страшно мне стало до жути. Я как-то сразу поняла, о ком речь. О том парне, что с караваном прибыл. Пол-лица тряпкой замотано, будто бы от пыли, как у банухида. Но глаза нехорошие. Очень нехорошие. Сразу у Райно в шатре засел и не выходил больше. Видно, ждал оказии, чтобы махнуть в Арислан.
Голоса уж затихли давно, а я все не могла с духом собраться, чтобы вылезти. И только вылезла – поняла, что зря. Один из них не ушел. Видно, заметил, что крышка погреба отодвинута, и решил меня дождаться. В кладовой полутемно; тенью мелькнул, одной рукой схватил меня поперек груди, другой рот зажал.
Ну все, думаю. Сейчас он мне шею свернет, как куренку. И в погреб спустит, будто так и было, будто я сама упала.
Дура я.
Он мне в ухо шепчет:
– Слово скажешь – погубишь и себя, и меня.
Мне щеку обдает его дыхание горячее, и тело у него большое, горячее, и голос этот... Тут я его и узнала.
Он, конечно, всегда молчал. Но, бывало, крикнет молодецки, вскакивая в седло. И меня, случалось, по имени окликал.
Не знаю, что бы я сделала. Вряд ли заорала, если бы даже он ладонь убрал. Но тут послышался голос Надии:
– Танит, ты тут?
Кенджиро повернул меня к себе и так смачно к губам присосался, будто за этим мы тут и заныкались. Надия тоже так подумала. Сказала осуждающе:
– Нашли где обжиматься. Танит, я суп твой с огня сняла, он чуть весь не выкипел.
Я вышла из кладовой на подгибающихся ногах, с колотящимся сердцем, будто и впрямь обжималась там с Кенджиро. Подонок-то каков! Строил из себя бессловесного, а сам каждое слово понимал. Шпионил, подслушивал. Может, у него был резон, да наверняка был, мы тут не в бирюльки играем, но боже мой, как за себя обидно! Врал ведь. Врал в лицо. А за спиной, небось, глумился.
Тварь. Ненавижу.
Я закрыла лицо передником и расплакалась. Горько, навзрыд. Надия аж испугалась.
– Ты чего, Танит, из-за супа, что ли?
– Сколько лет живу, ни разу у меня суп не выкипал! – реву я.
– Да перестань ты. Водой разбавишь.
Если б все можно было решить так просто!
Злосчастный суп в глотку мне не полез. А остальные ничего, ели, никто не морщился. Ануш даже за добавкой подошла. Тогда-то все и случилось.
Про криданскую Тайную службу всякие слухи ходят. На то она и тайная. Доподлинно только одно известно: что у агентов и лазутчиков на левой ладони магический знак – золотой криданский лев. Видно его не всегда, а только когда владелец захочет предъявить. Вот когда он вытащил парня этого из райнова шатра, руки ему связал, в седло посадил, тут наши его и засекли. А он им льва в морду тычет. Дескать, королевская служба, опасный преступник, сбежал с каторги.
– Мочи его! – орет Райно. – Здесь тебе не Крида, плевать мы хотели на королевскую службу!
А подстава была в том, что половина охранников – кридане, да еще военные в отставке. Они, понятное дело, заколебались. Золотого льва на ладони не подделаешь. Если кто лазутчика убьет «при исполнении», когда он уже знак показал, то ему тоже смерть суждена, и быстро, месяца не пройдет. С этим тайная служба не медлит и не скупится. Иначе кто ее будет бояться?
Лазутчика еще поди убей. Они все сплошь мастера меча и боевые маги. Наш народ перед дикими кочевниками не пасовал, а тут сдрейфили. Пока спохватились, пока за оружие взялись, лазутчик дунул, плюнул, и всех накрыло заклятием камня. Он тем временем сам на коня взлетел, пленнику удавку на шею накинул, чтоб тот с седла не пытался соскочить, и деру.
Стреляли вслед, да где там. Райно рыдал, как ребенок, все повторял: "Андзо, Андзо!" Ругался страшно, кучеряво. Потом в седло и в город рванул. Наши все разбрелись по палаткам, даже суп не доели. Да и все равно он уже остыл.
Стыдно было в глаза друг другу смотреть. И сказать нечего. Будто траур в лагере. И я к себе ушла, бросив невымытую посуду.
А этот, сын змеи, не постеснялся влезть ко мне в палатку, как ни в чем не бывало. Не дал мне слова сказать, облапал, стиснул, как клещами.
Я горела, как в лихорадке. Шептала между поцелуями:
– Падла, скотина, предатель!
Целовались так, что губы немели. Вцепились друг в друга, как в последний раз. Он и был последний, это уж потом стало ясно.
– У тебя тоже лев на ладони? Или еще где-нибудь? Шпион, сволочь, дрянь, ненавижу! Глаза бы твои бесстыжие выцарапать, шлюха, проститутка, подонок!
Несла я всякую чушь, как шальная. Хотелось допечь его, чтобы выдал себя, чтобы ответил, не сдержался. Но он молчал, ни слова не проронил, только скалился.
– Ты меня как, сразу удавишь или потом? Или затрахаешь до смерти?
Сам молчал и мне рот затыкал губами и языком. Я уж и говорить не могла, только мявкала, как кошка на случке. А он, как котяра, ухо мне зубами прикусил. Я и не знала, что могу такой буквой «зю» под мужиком свернуться. Никогда у меня не было такого звериного, жаркого секса. Я хотела бы его разорвать на сотню маленьких степнячков. Но могла только трахнуть.
– За ухо цапнул. Не стыдно? – сказала я потом жалобно. – Вдруг ты ядовитый?
Кенджиро изогнул бровь, и я не удержалась – погладила ее пальцем. Мне нравилось, когда он так делал. Взгляд сразу становился ехидным.
Мне другое хотелось сказать. «Неужели это все? Последний раз? Больше я тебя не увижу?» Дураку ясно, что он свалит из лагеря как можно быстрее. Ищи ветра в поле.
– По имени назови, – попросила я. Голос у меня дрожал.
– Танит, – сказал он мне в ухо своим сочным голосом. Его ложкой можно было есть, как сметану; пить, как вино. И еще раз: – Танит. Солнышко.
По щекам у меня бежали слезы. Я легла ему на руку нарочно, если за ножом потянется, я почувствую и проснусь.
Но он ночью ушел, а я даже не проснулась.
Больше я его не видела. Смылся из лагеря без лишнего шума, не привлекая внимания. Две недели прошло, прежде чем его заподозрили. Ясно было, что у лазутчика был в лагере сообщник. А Кенджиро позже всех в лагере появился и почти сразу же исчез. Райно пробовал к Тадзиме подъехать, чего только ему ни сулил, но толку не добился. Тогда Райно за меня взялся. Не заметила ли чего подозрительного, не проговорился ли во сне, нет ли у него на гениталиях татуировки «шпион», и все такое.
– Иди ты к черту, Райно, – говорю. – Нету мне дела до ваших казаков-разбойников. Я любовника потеряла, а ты кого? Дружка воровского?
Хамло, как есть хамло. Но мне было не до вежливости. Я себя выдать боялась. То есть не себя, а Кенджиро.
Райно побелел весь.
– Ты как разговариваешь? Мигом с работы вылетишь! С предателем путалась. Может, это ты ему помогала, откуда мне знать?
Вот это плюха.
– Спасибо, – говорю, – на добром слове. Раз так, мне тут нечего делать. Вы своей дорогой, а я своей.
– Андзо мне брат, родной брат, – Райно говорит зло. – А тебе кто этот степняк?
– Твой Андзо с каторги сбежал. А Кенджиро никому ничего плохого не сделал. Ваши же шкуры от энкинов защищал.
Он кинул на стол мешок, отсчитал двадцать золотых.
– Полный расчет. Месяц еще не кончился, и бес с ним. Чтоб завтра духу твоего здесь не было.
Я молча деньги взяла и ушла. Ни разу больше не заплакала. Ни когда вещи собирала, ни когда в седле тряслась, по дороге в Исфахан. Бернардо хотел со мной уйти, но я его отговорила. «Тебе-то зачем работу терять. Или ты тоже с Кенджиро трахался?»
Ночуя на постоялых дворах, полночи не могла заснуть. Смотрела сухими глазами в стену. Обманута, предана, выставлена вон. «Пища твоя обратится в яд, в труху, рассыплется все, к чему прикоснешься, и расступится земля, под твоими ногами, и не на что будет опереться».
От укуса гадюки не умирают. И я не умру. Мне срочно нужно противоядие. Положу деньги в банк и отправлюсь в Криду, к Умаллат и ее зазнобе. Если окажется, что я отравляю им жизнь, подамся куда-нибудь еще. Что угодно, только бы забыть этот голос, говорящий: «Танит. Солнышко».
Шрам останется навсегда.