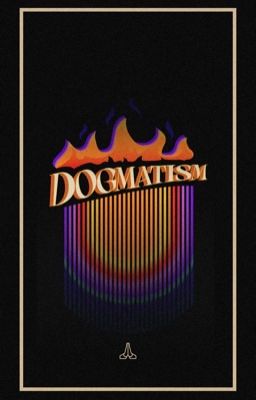15: Всевидящее око Божие
Пс 91:12 «И око мое смотрит на врагов моих,
и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях»
Юнги не особо помнит, как и когда услышал Лакримозу Моцарта впервые — вообще-то, тогда, еще в глубоком детстве, он не просто не знал, что это произведение Моцарта — он не особо знал, кто такой этот Моцарт.
Скучные церковные мессы в храме были безликими бесчувственными произведениями неизвестных авторов и григорианских монахов: у этой музыки не было особого смысла, ее единственной задачей было выгнать мирские мысли из головы и приблизить к Всевышнему — мыслей в голове тогда, действительно, не оставалось, но вряд ли он хотя бы на сантиметр приближался к небесам.
...Или... он просто этого не замечал?
Парадокс: музыка, которая не должна была ничего поджигать внутри, вдруг стала для Мина щелкающим ориентиром, дрожащей стрелочкой на компасе — там, где звучали голоса хористов, было лучше, чем в месте, где их не было; там, где звучали унылые нотки черно-белых клавиш, было светлее, чем в стенах, внутри которых фортепиано не было.
Он не помнит, чтобы в детстве его кто-нибудь держал за руку так же мягко, бережно и нежно, как... музыка. Почти осязаемо, она едва заметно прикасалась к его руке и вела невидимой тропой к местам неизученным, почти что таинственным, но все же безликими: едва окрашенные в розово-голубые краски, закатной тенью опадающие на молодой лес — таким это было место: безмятежным и безобидным.
Но когда он впервые услышал Лакримозу, то музыка уже не просто держала его, она вдруг... схватила его.
Он не помнит, при каких обстоятельствах это случилось: в городе или в школе? Когда кого-то хоронили в городской церкви или когда Пак Ванхо привел его на какой-то концерт? Незначимые детали того дня затопило найденной значимостью звуков.
Он был слишком мал, чтобы понимать мир взрослых и соединять события логической цепочкой, но оказался в подходящем возрасте, чтобы впервые влюбиться.
Двигающаяся точно скромной поступью, как-будто бы потерянная в редком ветвистом лесу струнная партия вдруг приводила к выходящей из тени, но опасно и неминуемо поджидающей хоровой партии «Дня слез»Lacrimosa — дословно «День слез». Это было не легкое дуновение ветра, как у других хоралов, это был мощный бурлящий поток воды, накрывающий с головой, подтапливающий, почти сразу же затекающий в глотку. Голоса нагнетали, не просили разрешения, возвышались выше, пробивая потолок, подталкивая туда, где слышались строгие хлопки духовых инструментов, а на фоне почти незаметно отсчитывала барабанная дробь, будто отмеряя остаток пути: музыка эта почти насильно выталкивала из страшного леса, где все это началось.
И тогда Юнги увидел, что там... что там, сверху есть не просто свет, но есть чувства, есть гнетущая мольба, но не немая — отчаянная, кричащая; там есть то, что раньше спало внутри маленького Мина: голоса хористов разрывали тоненькую оболочку и проникали внутрь; человеческое тело не терпит пустот — места, в которых зияют дыры от вырезанных органов, заполняются плевральной жидкостью; места, в которых зияют дыры от выжженных чувств, вдруг заполнила музыка.
Апофеоз Лакримозы.
Будто бы выше уже не забраться, будто некуда больше карабкаться, кажется, стоит сделать еще шаг и можно катиться вниз с обрыва, но...
Лакримоза тогда толкнула в спину — Юнги, повинуясь, не сопротивляясь, полетел. Но не вниз, а к самому потолку облаков, к самой вершинке, за которой, кажется, действительно прятался Он, прикрываясь, как ребенок, белоснежным пухом, из-за которого можно было только разглядеть желтые хищные, как у змеи, огромные глаза.
На долю секунды, но это запечатляется в памяти как сильное сверкающее вспышками потрясение — такое же мощное и громкое, как финальная фраза, как самый сильный слог, как самая сильная нота в реквиеме, отражающаяся внутри черепушки звоном, откровением, переворотом, даже маленькой кровавой революцией, где в качестве пострадавшего — его прежний, маленький, скупой мирок, тонущий в беззвучии.
Наверное, он тогда оказался в невесомости: среди облаков прямо напротив огромных желтых глаз само понятие его тела вдруг исчезло, а монотонные речи о бессмертии души вдруг как будто бы стали правдивыми.Как и Хосок в своем детстве, Юнги тоже пережил мистический религиозный опыт Если это правда был Он, то Юнги он не понравился — он был жутким, молчаливым, страшным...
Но после самой сильной ноты следует провал — как после самого темного часа следует рассвет — так и теперь его ждала засасывающая бездна: если не за что держаться, то можно больно упасть. Мин Юнги почему-то не падает: только чуть позже понимает, что его все еще держат — уже не за руку. За сердце.
Он не запоминает где и как это произошло, но запоминает слова...
Которые вдруг начинают преследовать и быть для него не то оберегом, не то... проклятьем.
Ведь почему-то эти слова всегда наиболее четко и отлаженно вспоминались в кабинете пастора Хён Дондука.
Этот слёзный день настанет,
Как из праха вновь восстанет
Человек виновный тоже,
Пощади его, О, Боже.
Иисус, Господь благой,
Ты пошли Им упокой. Аминь.перевод Lacrimosa
Иногда они звучат отчетливо, вычеркивают собственные мысли и занимают место появляющейся боли; иногда прячутся за стеной самоненависти и убивающей изнутри злобы, звучат лишь на фоне — музыка наиболее легко помогает ему достать самого себя из ненавидимого порой тела.
Он знает, что реквием — это заупокойная месса. Не знает только, кому она посвящается и для кого звучит в его голове каждый раз. Боится, что ему самому. Как будто бы каждый раз, вставая на колени перед Дондуком, он хоронит себя. И не кабинет это — его могила.
Может, так оно и есть.
Он пытается забыть день, когда все это началось — это почти получается; тот день для него уже полутемный, как мутный, разведенный в грязном ведерке строительный клей: он все еще склизкий, прилипающий, от него плохо пахнет, но если приглядеться, то дна уже не увидеть, не увидеть его структуры и отдельных, замешанных друг с другом смесей; большой чан с массой, в которой уже все смешалось друг с другом — если в том дне не за что зацепиться воспоминаниями, значит, нет мыслей, которыми можно бить самого себя.
И по ночам он плохо спит не из-за того самого первого дня, а из-за дней, следующих после него — это как точка невозврата, после которой закончилась одна жизнь и началась другая: она, раскручиваясь спиралью со ржавыми железными шипами, вонзалась в кожу, и был это не терновый венок на голове, но стальные прутья на теле.
Он плохо спит, потому что вспоминает прикосновения к себе. Потому что запах церковных свечей, ладана, одеколона и пота преследует даже за завесой сновидений, запах рвет полотна кулис, отделяющих сознание от подвального подсознания. Потому что он слышит звуки: стиснутые, будто застрявшие в горле. Потому что он ощущает фантомное несуществующее тяжелое дыхание на себе. Он всегда помнит неудобную боль в коленях. Свои пересушенные губы. Как потом болит челюсть и горло.
Обычно он отключается, выходит из тела, прикрываясь звучащей в голове Лакримозой, как щитом, или пытаясь услышать прячущиеся звуки чуть громче, чтобы увести страшные мысли о происходящем: хватается за руку похоронного реквиема, как за спасательный круг. Это помогает.
Но когда Лакримоза начинает внезапно звучать в любой другой момент без приглашения, то играющие звуки в голове почти доводят до изнеможения, пота, трясучки, бледности — тело уже заучило простое правило: если играет Лакримоза, значит, нужно держаться поближе к туалету — может вырвать.
Сейчас Лакримоза тоже играет в его голове, но не слишком громко: Мин Юнги не дает этому случиться, пытается... пока что оставаться в теле. Пока это возможно.
Пастор смотрит почти снисходительно, бровь его изгибается черной дугой. Волосы зализаны лосьоном так идеально, что Мину без шуток хочется вцепиться в них и с силой выдрать, но... даже если бы хотел — не может.
Он... мало на что способен рядом с тем, кто всю сознательную жизнь... ставит его на колени.
Он мало на что способен рядом с тем, кто иногда так цепляется за его горло, что почти не продохнуть, кто одним только взглядом заставляет проглотить язык; рядом с тем, кто размазывает его слезы по лицу, явно наслаждаясь беспомощным видом ученика.
Он мало на что способен рядом с тем, кто толкает свой вонючий член ему в рот и пихается внутри, кряхтит до тех пор, пока не кончит, а потом в экстазных судорогах недолго дергается брошенной рыбой на землю, пока пальцы все еще больно давят в плечи, в горло, за волосы...
Ноги Юнги дрожат, потому что тело помнит: здесь не бывает ничего хорошего и приятного; сердце тоже колотится — так отчаянно хочется вырвать его и не существовать больше; хочется уйти в вечное забвение, в место, являющееся полной противоположностью жизни, и не смерть это, а скорее не-существование: ведь даже смерть несет за собой определенный смысл, составляет часть сакрального бытия. Обессмысленное не-существование — это даже не дыра, которая может появиться после смерти, это... отсутствие лишней пустоты, которая может появиться после его ухода.
Особенно остро Юнги нуждается в не-существовании, когда чувствует тяжелую руку пастора, тянущую вниз, пытаясь насильно усадить ниже... к рабочей позиции.
Юнги дрожит, но не сгибает колени, сглатывает:
— Вы... — глотка сухая, поэтому голос звучит тихо, почти беззвучно... так слабо, что Юнги сомневается в том, что сможет сказать еще хоть слово, — Вы... обещали, что... — опускает глаза вниз, выдыхая, — что... устроите... — мямлит, отчего мужчина едва склоняет голову прислушиваясь.
— Обещал, что устрою тебя в хорошую школу? — Дондук кладет вторую руку на плечо, Юнги передергивает: уже сейчас... уже сейчас капельки обиды подступают к уголкам глаз, — конечно, я помню об этом обещании. Я выполняю обещания: Хосок же здесь? И не думаешь же ты, что это так легко устроить? — голос становится до жути мягким, сахарным, слащавым, таким, что тошнота подступает мгновенно.
Юнги хочет сделать шаг назад — не может: пальцы пастора цепляются за его костлявые плечи... массируют, как-будто расслабляют: Лакримоза начинает звучать громче.
— Хоть у меня и много связей, — продолжает мужчина, облизывая губы, делая едва заметный шаг вперед, — но это не вопрос нескольких дней, даже недель. Деловая переписка занимает время... а ты за это время... как раз, — улыбается, — поймешь... научишься... быть кротким, послушным, — Юнги жмурится, больно кусая губу изнутри, когда пастор проводит пальцами по его щеке... — научишься быть хорошим... мальчиком.
Этот слёзный день настанет,
Как из праха вновь восстанет...
Это все не с ним, не с ним... Не с его телом... Нет, его тут нет...
Выдыхает, открывая глаза, чуть заглушая музыку в голове.
— Юнги... я ведь не желаю тебе зла, — перехватывает руку парня, вдавливая большой палец ему в ладонь, — я хочу для тебя только хорошего...! И, поверь, делаю все для этого... — начинает говорить тише, — я ищу для тебя лучший вариант... Ты мне веришь?
Мин Юнги кивает беззвучно, пока грудная клетка рвется на части: он не хочет слышать его голос, не хочет видеть его, не хочет чувствовать его — и если для этого нужно потерять слух и зрение, если нужно лишиться органов чувств, то он почти согласен.
— Может... — жует дрожащие губы пианист, быстро моргая, — я... я недостаточно стараюсь?
— Мой мальчик, мой бедный мальчик... — Дондук почти задыхается от экстаза, порывается вперед, хватая того в свои объятия, прижимая голову к груди, почти вдавливая, перехватывая его руку...
...Быстро и судорожно кладя ее на свой член.
— Ты хорошо... хорошо стараешься, — прижимает руку Юнги к себе, чуть отдаляя его голову за макушку, — очень хорошо... Юнги...
— Вы любите... любите, когда я делаю... это вам? — едва отстраняется, но руки не убирает, потому что знает, что... бессмысленно сопротивляться — Дондук все равно поставит на колени.
Но руки он не только не убирает, но... делает так, чтобы пастору было приятно там: он знает, как нужно пошевелить пальцами, знает, как лучше провести рукой и знает, с какой силой и где нужно прикоснуться, чтобы... чтобы член этого извращенца встал колом через какие-то считанные минуты.
Он уже чувствует рукой, как плоть его возбуждается, как напрягается бугорок в штанах, воспаляется и пухнет: руку обжигает кипятком, но он ее не убирает — сделать это не дают пальцы Дондука на запястье, которые почти... приковывают Юнги к тому месту, направляют.
— Я... я... я очень люблю, когда ты это делаешь, Юнги, — голос Хёна звучит совсем незнакомым хрипом, от которого внутри пианиста лопаются струны, будто бы на фортепиано, — ты... ты очень хороший... Юнги...
Вторая рука пастора оказывается на голове Мина, а потом... с силой, с напряжением начинает давить вниз: вот, где его место — на коленях.
На коленях меж ног этого извращенца. С открытым ртом, с вытягивающимися губами. С членом во рту. Вот, где его место.
Он — никчемный, никому не нужный, отвратительный слабак, отсасывающий пастору. Он сосет его член и не сопротивляется — вот, почему он мерзкий. Вот, почему он гнилой. Пастор его испортил, пастор сделал его ужасным. Отвратительным. Вот, почему он хочет изрезать свои руки в кровь и вылить на себя горячий расплавленный воск, вот, почему он хочет, чтобы его больно придавило камнем — потому что он ублажает Хён Дондука, облизывает и заглатывает его член из раза в раз.
Мерзкий. Мерзкий. Мерзкий.
Колени уже в привычном для него положении, голова приподнята: парень смотрит на покрасневшее лицо пастора, на его судорожные движения, на то, как натянутая на скулах кожа подрагивает, а почти дрожащие руки расстегивают ширинку брюк, приподнимают кофту.
Розовая головка виднеется почти сразу, пастор даже высовывает свой язычок, доставая член, придерживая его рукой и притягивая таз ближе к ученику: Лакримоза будто бы в одночасье перестает звучать, и Юнги ощущает себя в своем теле всецело, в ужасе понимая, что происходит.
Кривясь от отвращения, он будто передумывает, чуть отворачивает голову, почти отдаляется, но Дондук хватает его за волосы, жестко удерживая в одном положении, поджимает шипящие губы:
— Что ты удумал? — цедит сквозь зубы, слюна блестит на губах, — мы ведь так хорошо подружились...
— Я не хочу... — сглатывает, пытаясь убрать голову от руки, но пальцы только сильнее хватаются за волосы, почти тянут за них, — пастор... не... нужно...
— Решил противиться, гаденыш? — Юнги быстро смотрит на его лицо, понимает — тот безумен: в глазах ни грама осознанности, ни крупицы... здравомыслия, только необузданное бешенство. Дондук одержим, и дело тут не в сидящих внутри него бесах или Сатане: он сам и есть этот бес или Сатана в человеческом обличии, — ты же знаешь, что будет только хуже, если не пойдешь мне навстречу, если будешь сопротивляться, — ухмыляется Дондук, вожделенно облизываясь, — ты же знаешь, что я могу превратить твою жизнь в ад, — хватает свой член, приближая к губам, — открывай свою грязную пасть, паскуда, давай, — дышит быстро, — быстро, блять, соси его, — ругается, — я не только твою жизнь могу уничтожить, но и жизнь твоего дружочка, я ведь его запросто могу растоптать...
— Хватит...! — Юнги тянется назад, вырываясь, — хватит! Пожалуйста...!
— ...А потом его прибьет собственный папаша! — усмехается, уже совсем серьезно дергая парня за волосы, — открывай, блять, свой гнилой рот, говорю! Тварь!
Будто во мраке он — единственный выживший, будто все пожрала ненасытная тьма, накрыла облаком саранчи и плотоядно впилась: холодный беспомощный страх звучит так же, как звон хрустального бокала, по краю которого проводят мокрым пальцем. Звук резонирует, отчего поднимаются вибрации тревоги и испуга, которые сковывают мышцы и суставы в оцепенении. Тяжелый, деревянный Юнги почти не может пошевелиться — Дондук хватает его сильнее, и он почти чувствует на своих губах пасторский член...
Это не хлопок и не удар звука, это не внезапно пришедший и заливающий все вокруг свет, но и не пожирающая тьма тоже. Это что-то меньше, что-то больше, что-то, что не уложить в объяснение, но достаточно... одного слова.
Хосок.
Он выскакивает из шкафа, кажется, ругается — Лакримоза снова заполняет все мысли Юнги, он не особо слышит... и покорно, медленно бросает свое тело назад, на пол, когда хорист, рывками приближается ближе, держа руку с камерой перед собой, другую поднимая вверх.
Ту, что с ножом.
Юнги полностью садится на колени, потом быстро отдаляется, прочищая Чону путь, Дондук подается назад, к креслу перед столом, даже не сразу соображает спрятать свой хрен: падает на сидение в оцепенении оглядывая хориста.
Наверное, это не совсем Чон Хосок: Юнги видит, как настоящим черным пожаром, будто чумой, горят его глаза, как рука с камерой наставляется на испуганную морду мерзавца, но совсем недолго. Парень заканчивает видеозапись, прячет камеру за спину, но вот другая его рука... не дрожит.
Нож опасно направляется в замершего Хён Дондука с высунутым членом из брюк.
— Гнида ты мерзкая, — цедит сквозь губы, Юнги пугается: он совсем... не узнает голос Хосока.
Хосок дурной, когда злой — он знает это. Чон Хосок возвышается над пастором, крепко держит нож в руке. Юнги страшно, правда... страшно.
— Убить тебя мало, — шикает Хосок, почти замахиваясь ножом, — тварь, если ты еще хоть раз хотя бы посмотришь на Юнги! Я сам лично отрежу твой член! — красный от злости, он опасно приближает нож к лицу Дондука, вжимающего ладони в подлокотники кресла: он еще, кажется, не понял... не понял, что произошло.
Не понял, что Чон Хосок заснял все — от и до.
— Ты проклянешь тот день, когда меня приняли в вашу вшивую школу, — Хосок бахает словами, прожигая в Дондуке дыру: если бы он мог... он бы сжег его прямо сейчас — людям плохо желать смерти, но человек ли Дондук? — Ты знаешь, что с тобой сделают в тюрьме...?
Юнги подрывается с места, почти больно хватая Хосока за плечо, чуть отдаляя: угроза ножом... не входила в их планы.
— Да вы...! Мелкие крысы... — Пастор, наконец, начинает понимать происходящее, — да я вас...!
— Это мы тебя! — рыпается Чон вперед, но Юнги продолжает удерживать его за плечо, — одно неверное движение, Дондук, мы сдадим тебя полиции...! Твои яйца в наших руках... теперь будешь делать то, что мы тебе скажем, а иначе...!
— Уходим, Хосок, — бледный Юнги становится спиной к пастору: не может его видеть; проговаривает быстро, вполголоса, пытается перехватить чёрный, пожирающий все взгляд гневного Хосока — едва ли это удается, — идем, говорю же!
— Ты меня понял, — покорно отступает за Юнги — к земле его обратно привязывают... чужие прикосновения — прикосновения Юнги, его голос: он хватается за пианиста, пришвартовывается, чтобы ветер злости не затащил его в настоящую бурю, — это мы превратим твою жизнь в ад.
— Уходим, Хосок! — бросает Юнги, хватая за локоть, уводя из кабинета.
Находиться там Мин Юнги больше не может: сойдет с ума.
Пастор почти не шевелится, только быстро дышит, ошарашено бегая глазами по комнате, будто не веря... не веря, что все это произошло, что Чон все это время прятался в шкафу, что Чон... все заснял.
Дверь пастора Хён Дондука закрывается, в коридоре слышится быстрый удаляющийся бег.
Горячая рука, которая только что держала нож, тянет за собой руку холодную — ту, что почти держала пасторский член.
***
Руки немного потрясывает — теперь, спустя некоторое время, когда Хосок начинает осознавать, что сделал...
...Угрожал пастору Хён Дондуку расправой.
Заснял... всё. Заснял все, что в миг должно уничтожить это животное, заснял то, что засадит его за решетку надолго, заснял то, что сделает из него гниющее отвратительное тело где-нибудь в тюремной камере. Он надеется, что там будут над ним издеваться. Он надеется, что там будут... что там ему будут делать плохо. Так плохо, что он взмолится о собственной смерти. Он надеется, что он проживет остаток жизни в страданиях как можно дольше.
Плохо ли так думать? Плохо ли желать такого человеку? Плохо ли... обращаться к настолько темным мыслям?
Руки немного потрясывает, но он продолжает судорожно держать камеру в руках, прижимать ее к груди, быстро дышать, по-немногу возвращаясь в школу: они в комнате Юнги — здесь горит приглушенный свет от лампы на тумбе, тут наспех застеленная кровать пианиста и идеально заправленная кровать отсутствующего Сокджина.
Тут Мин Юнги.
Стоит прямо напротив него, и на бледном его лице тенями танцуют отблески света за его спиной: глаза мокрые, чуть красные, внутри них будто посеянное зернышко страха — он и сам не верит, что они сделали... не верит, что только что произошло, не верит... что они решились на это.
— Юнги, — тяжело выдыхает Хосок, начиная соображать, — эта ночь... думаю, будет трудной, — чуть опускает голову, тяжело размышляя, — он может... может ворваться в комнаты и отобрать пленку, когда все поймет, когда все осознает, — аккуратно он достает нож из заднего кармана, протягивая пианисту, — сегодня я заберу камеру с собой, не буду спать, — поднимает глаза, — тебе нож получше, поострее, а ты мне дай... свой, тот, что потупее... Если что, я... справлюсь и с ним.
Хосок учтиво сжимает губки, не осознавая, что в этот момент вдруг... и пастор, и отец его слились в одну фигуру абсолютного зла: он знает, что отец любит врываться посреди ночи, обыскивать, ругать, быть импульсивным — отчего-то кажется, что Чонгу переселился в пастора.
— Хосок... — он медленно качает головой, опуская взгляд на острое лезвие, — это же... нож Чимина? Откуда он у тебя?
— Это неважно сейчас, — он с силой передает его в руки парня, выдыхая, — эта мразь сейчас, наверное... в шоке, не понимает, что произошло, не верит... но когда поймет... Нам нужно только пережить эту ночь, а потом...
Юнги перекладывает нож в свой задний карман, но не говорит Чону, что если вдруг Дондук придет... он все равно ничего не сможет сделать против него, не сможет поднять нож и замахнуться, не сможет защитить себя, не сможет... Ведь пастор сломал его. Сделал слабым.
А еще... губы его дрожат, когда он аккуратно берет видеокамеру из рук Хосока:
— А что если... — судорожно выдыхает Мин, боится смотреть в глаза Чону, — если и правда... шантажировать его? Заставлять делать то, что... нужно нам?
— Что? — хмурится, — шантаж был нашим блефом, чтобы он все-таки не думал прибить нас ночью голыми руками... Что ты... Юнги... Мы ведь так не договаривались?
— Мы не договаривались, что ты будешь угрожать ему ножом, — взгляд поднимает уже более уверенно, — ты не подумай, я был бы рад, если бы он оказался мертвым, случайно напоровшись на лезвие, но... он больше и сильнее нас... — кусает губу больно, почти до крови, — что... если бы он выхватил нож... и ты... и он бы... тебя...
Грудная клетка внутри скрипит, как деревянный пол, когда по нему, вместо тяжелых ботинок, шагают чувства, которые вдруг выбегают из убежища, окна и двери которого Юнги заколотил собственными руками. Давит так, что и впрямь хочется согнуться пополам, поэтому Юнги аккуратно держится за правое ребро, чуть вдавливая его...
— И если бы и правда... — переводит дыхание, глубоко вздыхая затем, — если бы он пошел на тебя, а ты бы ударил... ведь... вдруг...
Хосок прикрывает глаза, чувствует, как кровь набегает на лицо, как розовеют его щеки, как место страха занимает уже второстепенное осознание происходящего, в которой красной нитью вклинивается другое чувство. Чувство, на которое нанизывалось все остальное, на которое, будто на бельевую веревку, вешались безумные идеи, отчаянный гнев и дикая решимость.
Ведь вместо прищепок там был страх — не за себя: за Юнги.
И вот, когда прищепки начинают отпадывать, Хосок ощущает, как вибрация волнами проходится по этой первостепенной нити, ведь она ни что иное, как... его чувства к Юнги. Только из-за них он... и смог сделать это все. И будет делать, если вновь понадобится.
— Но ведь все в порядке? — улыбается нервно, пытаясь успокоить пианиста, — я бы справился. Отец меня хорошо подготовил к ублюдкам, которых я могу встретить в жизни... — опускает взгляд, — но, Юнги... о чем ты говоришь? Шантаж? Я думал, мы сдадим его полиции...
— Хосок, мы в этой школе никому не нужны, разве ты не понимаешь? — слабо проговаривает Юнги, — Доебука посадят, а дальше что? Это через него и его договоренности леди Мун помогала, будет ли она дальше это делать? Кто придет после Доебука? Директор школы Кхван та еще мразь, ему на нас настолько похуй... — качает головой, — я не верю, что станет лучше...
— Юнги, я не понимаю... — щурится, — ты хочешь... оставить... этого мерзавца? Этого извращенца?
— Я хочу, чтобы он сдох в яме от голода и холода, хочу, чтобы последние его дни он провел в агонии, хочу, чтобы все его кости были переломаны, — шипит через зубы, — и я очень надеюсь, что это обязательно произойдет, но еще я хочу, чтобы эта сволочь выполнила свое обещание.
— Ты все еще веришь, что он хотел устроить тебя в хорошую школу? — качает головой.
— Я, блять, уже ни во что не верю, блять, никому и ни во что, но мы заставим эту сволочь достать нас отсюда, — плюется не слюной — почти ядом, вороша волосы на голове, — мы заставим его найти нам места получше, заставим его устроить туда, где у нас есть будущее, — сглатывает, — я в этой школе умру, а ты... — усмехается с грустью, — вероятно не оставишь от нее и камня.
Чон Хосок застывает в нерешимости, размышляет.
Сердце стучит так громко, что звуки и впрямь мешают думать — он с силой прижимает руку к груди, будто заглушая неровные удары. Голову кружит.
— Ты сомневаешься? — Юнги чуть склоняет голову.
— Да, — отвечает честно, поднимая голову, — он — опасный человек.
— Он во что бы то ни стало захочет сохранить свое положение и репутацию, — дрожит, — он склизкая крыса, гадюка, ищущая себе место под солнцем. Поэтому он сделает все, что мы попросим.
— Вот именно он сделает... все, — Чон опускает брови, вспоминая, как Дондук превратился в зверя за сущую секунду, стоило Юнги воспротивиться... что он еще может сделать? — но... знаешь... Помнишь, когда мы... возвращались с той вечеринки домой и разговаривали, — чуть затихает, припоминая, — о... своем месте? Ты был прав тогда — у меня есть место. Может быть, оно не мое, но оно у меня есть... я всегда могу вернуться к родителям. Могу перестать перечить отцу, прикусить язык и стать невидимкой, стать самым прилежным, найти другую школу. Мне есть, куда возвращаться и от чего отталкиваться, а ты... — прикусывает губу, поднимает глазки; Юнги видит, что черноты в них вдруг как-будто бы стало меньше, — ты не можешь здесь оставаться. Мне на себя все равно, но ты... — чуть поворачивает голову, жмурясь, — ...если будет хотя бы один шанс, что у нас получится тебя отсюда вытащить... я буду биться за него.
— Хосок... — во рту горько, внутри прорастают ветки плюща, обвивают глотку так, что почти невозможно говорить: листья распускаются в горле, отчего так трудно говорить, будто бы кто-то заставляет его молчать, будто кто-то заставляет его... не соваться дальше.
Может, это он сам?
— Я пойду за тобой, куда скажешь, — наконец, выдает, — но мы должны все продумать: все варианты, все, на что он может пойти, что может сделать, что применить... должны перестраховаться. Нужно... все взвесить.
— Хосок.
Голос Юнги звучит уже почти четко и громко, Хосок поднимает взгляд — глаза парня напротив уже блестят, но не от страха, не от волнения, испуга... тут другое. Чон не понимает, что это, пока не присматривается в глубину зрачков, пока не видит, как Юнги беззвучно глядит на него, поджимая губы, будто хочет расплакаться...
...Но еще и... как-будто бы...
Юнги хочет приблизиться.
Но не может.
Хосока насквозь простреливает, его красная нить трезвонит дрожью, и там, внутри, как на палубе корабля, попавшего в шторм: и шагу не сделать, хоть влево, хоть вправо... все равно занесет, выбросит за борт и утянет на дно.
Смотреть на Юнги в ответ вот так опасно: он знает, поэтому... глаза он опускает, делая робкий шаг назад, разрывая эту зрительную связь... Он не сможет ничего, если... если он продолжит так смотреть, он не сможет... держаться от самого себя подальше — от того Чон Хосока, что хочет и желает странные вещи. От того Чон Хосока, которому нравится Мин Юнги.
Иначе нравится Мин Юнги.
— Я помню, что я сказал, — переводит дыхание, отстраняясь еще, — я... я сделаю вид, что забыл о том, что было тогда в часовне, чтобы... потому что... — теряется, не знает, как правильно сказать, не знает... как выразить это все, — но... я...
«Я на самом деле никогда этого не забуду. И буду делать все для тебя и ради тебя, потому что я помню то, что было.»
Глотку Хосока жжет, потому что произнести это вслух не представляется возможным: это как слова-табу, не терпящие того, чтобы быть озвученными — нельзя.
— Я... я... — теряется хорист, делая еще один неуверенный шаг, — я пойду... я...
Юнги уверенно отходит от него, направляясь к двери, попутно кладя камеру на свою кровать: движения его даже слишком твердые, чёткие — оба не понимают, откуда в нем вдруг столько решимости.
Хосоку страшно лишний раз шевельнуться, страшно глянуть за плечо и увидеть, как Юнги снова открывает двери и выпроваживает его: он до сих пор помнит тот его взгляд, белое лицо, помнит, как он выгнал его и громко закрыл дверь, как потом игнорировал, не замечал... пережить такое снова... возможно ли это? Наверное... наверное, теперь он переживет даже это, если так нужно будет Юнги.
В этом вся плачевная ирония: пойти на пастора Дондука и угрожать ему расправой — не так страшно, как обернуться и увидеть сейчас, как Юнги открывает двери, чтобы он побыстрее ушел.
Но этого не происходит.
Когда Хосок слышит вялый скрип, почти невольно оборачивается, видит, как пианист... подпирает дверь стулом, запирая ее: ножки деревянного сидения укромно устраиваются в небольших выбоинах в полу, так что... снаружи дверь теперь не открыть.
Чон Хосок почти трясется, когда Юнги возвращается назад, вновь вставая прямо напротив него: между ними расстояние одной вытянутой руки и... взгляд. Пока что безмолвный, но говорящий о многом.
Юнги дышит тяжело, сдавленно, тело его покалывает изнутри маленькими бурлящими пузырьками кипящей лавы; почти с ужасом он понимает, что где-то далеко в его черепушке, где-то в перемешку с парящими эфемерными мыслями, он снова слышит... проклятую, но спасающую Лакримозу.
Зачем и для чего она тут он не знает, как не знает и то, что происходит.
Возможно... возможно, не все нужно понимать и не все нужно знать, чтобы давать этому происходить: ему кажется неправильным говорить «если происходит — значит, так и надо», будто это снимает любую ответственность за совершаемые поступки и происходящие события, но... но когда он смотрит на уже почти невинное продолговатое лицо Чон Хосока, на котором танцует свет тусклой лампы, когда глядит в его очищенные глаза, то ему хочется, чтобы то, что запланировано кем-то свыше, произошло.
Пусть он и не понимает природы вещей.
Пусть это и, возможно, неправильно.
Пусть это делает его мерзким. Пусть...
Мин Юнги едва наклоняется вперед, но руки незримо приколачивает к телу, их не поднять... только наклониться еще ближе и слышать, как напряженно звучат они уже вдвоем; Хосок тоже не шевелится, будто в страхе ожидая того, что может произойти, будто выпрямляясь напряженной струной, которая все равно отчаянно трясется и резонирует, дергаясь.
Пианист прикрывает глаза, застывая перед подбородком: они не двигаются, только слушают друг друга, совсем незаметно притягиваясь ближе. Губы Юнги приоткрывает, облизывает, и вздохи его становятся громкими, глубокими, затяжными. Хосок чувствует его дыхание, чувствует его тепло, чувствует, что еще немного и...
— Ты сказал... — шепчет Юнги, застывая, — что... что сделал бы это еще раз... если бы... я хотел.
— Юнги... — сжимает кулаки, кусает губу.
— Я... — поднимает голову, с трудом открывая глаза, — я... я хочу...
Юнги опять закрывает глаза. Чувствует, как грудь распирает от бушующей бури внутри, а потом будто накрывает сверху... теплой ладонью. Небольшой, но очень теплой ладонью Чон Хосока.
Он прикасается едва ощутимо, почти неосязаемо — поднять руку выше, до шеи... Хосоку хочется. Но он не может.
Пианист чувствует на своем носу мягкое прикосновение чужого кончика носа и напряженное дыхание хориста. От Хосока пахнет... совсем по-другому, от него пахнет приятно: выстиранная одежда, мыло... Юнги хочет приблизиться, хочет коснуться, дотронуться, хочет почувствовать, хочет...
— Я... — тоже шепчет Хосок, — я... я не могу.
Это вдруг опаляет, поджигает сомнением, как фитилек восковой свечи, и парень хочет отпрянуть в тот же момент, но Хосок, мягко придерживая его за одежду, приостанавливает:
— Я хочу этого больше всего на свете сейчас, — судорожно втягивает носом, неловко усмехается, — но я не могу... пока я еще с Йонг. Понимаешь...? Я не могу за ее спиной, я не могу так с ней поступать...
— Ты либо самый грешный святой или самый святой грешник, — Юнги горько усмехается, — ты только что грозился отрезать член Доебуку...
— Ну должен же я соблюдать хоть какие-нибудь нормы приличия? — смеется вместе с Юнги, — как ты думаешь... Юнги... — смотрит в его глазки, снова становясь серьезным, — то, что я хочу... прикасаться к тебе и... то, что я чувствую... это... — сглатывает, — противоестественно? Это ненормально...? Болезнь?
— Я не знаю, — качает головой, — я не знаю, Хосок. Я в последнее время... вообще перестал что-либо понимать. Противоестественно, ненормально... мерзость ли это? Я не знаю, но я... хочу... того же, — с усилием он поднимает руку перед собой — она замирает в сантиметре от щеки Хосока: ему страшно прикоснуться, — Это неправильно? Это запрещено? Это болезнь? Я таким был всегда или это пастор... меня испортил...?
— Хочешь сказать, мы испорченные? — лицо становится горьким, и он с трудом сопротивляется тому, чтобы не нырнуть в ладошку пианиста, — но кто сказал... почему так решили... почему? — грудь его вздымается, и он... сдается...
Щека его льнет к ладони, и он закрывает глаза, аккуратно прикасаясь к руке Юнги своими двумя: сколько он смотрел, как его изящные пальцы танцуют на клавишах, сколько смотрел, как эти руки держат учебник или ручку, сколько думал о них потом даже ненароком, почти случайно... Прижимаясь, Чон почти вжимает пальчики в щечку, осторожно проходясь по ним своими.
— Я не знаю, почему так, не знаю, — Мин делает шаг вперед, становясь почти вплотную, — но мне все равно. Пусть я буду испорченным, противоестественным, ненормальным, больным... Хосок... ведь...
«То, что я к тебе чувствую, не может быть чем-то плохим. Потому что я хочу это чувствовать, ведь эти чувства заставляют меня забыть о не-существовании.»
Говорить и правда трудно, но с прикосновениями всегда было еще хуже. Юнги не терпит, когда к нему прикасаются, не любит, когда к нему приближаются слишком близко, он не любит, когда его тело кто-то трогает. Так было и с Хосоком. Он не был исключением.
До сих пор.
Если весь мир рушится и сходит с ума, нужно соответствовать: пусть он будет разбитым осколком, падающим в ураганном вихре сломанной картинки бытия, пусть он будет покореженной деталью, пусть он будет неисправным механизмом — ведь если ты свихнулся в сумасшедшем мире, значит, ты соответствуешь установленным рамкам нормальности?
Он льнет к Хосоку в объятия: не помнит, чтобы хоть когда-либо делал это вот так... прижимается всем телом, обхватывая его торс, сковывает свои руки на его спине, укладывая подбородок на его плечо; хорист тоже обнимает его, и это ощущается... приятно. Очень приятно.
Тепло. Будто бы он в полной безопасности и спокойствии, будто бы в этих объятиях можно спрятаться и поселиться, будто вот прямо тут они вдвоем отыскали маленький тихий уголок, в который не пробраться тьме.
— Хосок, — сглатывает с трудом, чувствует, как по горлу скребут кошки, — спасибо... за все... я...
— Юнги, — Чон снова закрывает глаза и медленно переносит свои руки к голове парня — пальчики аккуратно поглаживают его по волосам, будто успокаивая, — все будет... хорошо, — произносит с трудом, сам почти начинает верить в это, — мы сможем... Ты... ты не один.
Юнги поднимает голову с плеча, заглядывает в глаза: его губы слишком опасно хотят сорваться на поцелуй — ему кажется, что так он сможет передать хористу все, что чувствует, будто поцелуй сможет заменить все слова, и сейчас это, правда, самое большое его желание: просто поцеловать Чон Хосока.
Но он этого не делает, потому что не может забрать у него принятое им решение.
Только прислоняется щекой к чужой щеке, следуя за едва слышимой Лакримозой в голове, но слов, которые были высечены в памяти, как надпись на камне, почти не разобрать, что даже страшно: неужели память растеряла все строчки, которые звучали из раза в раз?
Слышит что-то невнятное, но... приближающееся к нему:
«Я не один. Наконец-то я не один.»