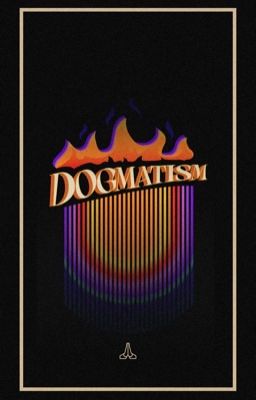14: Мерзость
«Вспомни, милосердный Иисусе,
что я — причина Твоего пути:
не губи меня в тот день.»
Ее волосы разлетаются по ветру, когда она ускоряется чуть вперед, оборачиваясь затем. Щечки ее подрумянились от слегка колючего вечера и промозглой погоды, но в глазах теплые огоньки — яркие, забавные, смеющиеся.
Хосок наводит камеру на девушку, поспевая за ней; Йонг прыскает к витрине магазина, позируя, смешно красуясь, почти по-детски кривляясь, подражая манекену за стеклом: тянет губы трубочкой, ручку кладет на затылок, чуть выгибаясь в пояснице:
— Я красивая? — смеется она, задерживаясь в этой позе.
— Самая! — хохочет Чон в ответ, глядя на нее через видоискатель камеры, чуть подходя ближе, — тебе нужно сниматься в рекламе модной одежды!
— Да кто ж меня возьмет? — закатывает глазки, отходя, — чего ты прилип к этой камере, я совсем не вижу твоего лица из-за нее! — прыскает, — вот закончится вся пленка на кассетах, что делать будешь?
— Буду пересматривать, что наснимал! — убирает аппарат от лица, — вспоминать буду!
— Так ты сейчас крадешь воспоминания у самого себя! — берет парня за холодную ладонь, — что ты вспоминать будешь? Как снимал меня или как гулял со мной?
— Ты ревнуешь меня к камере? — Хосок подначивает, опуская руку с видеокамерой, — ну-у-у ты!
— Ничего не ревную! — вытягивается, улыбаясь самой себе, — я, наоборот, рада, что тебе нравится... хочешь... хочешь, подарю ее?
— Чего? — почти останавливается, округляет глазки, — нее-е-т! Это же... это же жутко дорогая вещь! — теряется, — Да и... нет!
Он, смущенно выдыхая, чуть ведет глазами по улице, быстро хватается им за редкие машины на дороге, за прохожих на оживленном тротуаре, утыкается взглядом в магазинчики по правую руку, из которых льется теплый свет на дорожку. Становится почти неловко: это он должен был сделать какой-нибудь подарок Йонг... так же это делается?
— Да мой отец даже не помнит, что у нас такая есть, — утыкается своим плечиком в плечо парня, — а у меня она все равно лежит, пылится...
— Йонг... — парень сглатывает, замедляясь, — ну... нет, ну я же... ну не могу так, это как-то...
— Хорошо! — быстро исправляется, хитро поджимает губки, — я не буду ее тебе дарить, я просто, ну...? Дам тебе ей попользоваться, — встает напротив Чона, обхватывая его руку крепче, — никаких подарков, забудь! Не заслужил! — шутливо дует губки, приближаясь, — И обязательно вернешь мне ее потом! И чтобы ни царапинки!
— Йонг... — Чон и сам едва приближается к ней, хотя немного дрожит изнутри — это всегда так волнительно, так трепетно, все еще едва неловко, но ему... ему хочется снова ощутить поцелуй чужих губ на своих, — почему ты такая хорошая?
— Я такая хорошая только с хорошими людьми, — застывает, глядит не в глаза — в самую душу.
— Я ведь совсем не хороший... — не соглашается, качая головой.
Как он может быть хорошим? Он, как минимум, плохой сын...
— Если ты не хороший, то кто вообще хорош?
«Юнги».
Почти закашливается от собственных мыслей и от того, что едва произнес это в слух, от того, что губы вытянулись в первую «Ю»...
Чего это он его вспомнил...? Чего... При чем тут вообще Юнги? Откуда он взялся в мыслях сейчас?
Губы младшей Мун наконец ложатся на неозвученную букву «Ю» на его губках — он сам притягивает ее, только чтобы поскорее эта буква перестала жечься, зарывается в темноту собственных глаз, жмурясь — мелкие вспышки в голове быстро мелькают звездочками, искорками, но в гуще собственных мыслей Чон видит отнюдь не образ той, что целует сейчас.
Хосок прикасается к девушке мягко-мягко, но быстро, почти неощутимо... Очень скоро он отдаляется.
Целоваться на улице — что за невежество! На людях! Мать честная!
Хосок почти игнорирует ее разочарованное выражение лица, ныряет за ее плечико к очередной витрине магазинчика; он вообще очень любит эту часть города — может хоть часами так гулять сам с собой и подолгу разглядывать всякую дребедень на прилавках: от начищенного серебра в ювелирном до крохотных аккуратных пирожных в кондитерской на углу улицы, но там он бывает нечасто: живот скручивает от одного только запаха — отец всегда запрещал таким баловаться, а теперь, когда он живет в школе, о таком остается только мечтать, денег-то на такие удовольствия нет...
Но крохотный комиссионный магазинчик он любит больше всего — горы одежды и безделушек, старая посуда, уродливые картины, ветхие, выцветшие книги и... нотные партитуры.
Сердечко почти загорается, когда он застывает у витрины, вглядываясь в выставленные там ноты — вот бы... вот бы «Полет шмеля»...? «Ла Кампанелла»...?
— Дурацкий дождь, — недовольно буркает Йонг, устраиваясь под крышей магазинчика, — скорее бы уже снег пошел...
— Холода... бр-р-р, — ежится Чон, чуть наклоняясь ближе, но почти пропуская мимо ушей слова девушки, — не люблю холод...
Не набор хороших нот — какая-то свалка! Ему еще повезло, что в прошлый раз тут были и Шуберт, и Шопен... а сейчас что? И правда партитурки для яслей — и смех, и грех!
— ...Но зато Рождество! — переплетает Мун пальчики с энтузиазмом, — а там... торжественный прием, который маменька всегда устраивает... ну... с музыкой, — хитро ведет, вглядываясь в лицо парня, который почти и не замечает ее, — ну и...
— К чему ты клонишь, Йонг? — переводит взгляд.
— Ну, она же часто помогает устраивать учеников вашей школы куда-то... ну... получше? Она сейчас, например, этого вашего... — задумывается, начиная вспоминать имя, — ...забыла, как зовут...! В очках такой?
— Сокджин?
— Ага! — согласно кивает, — она сейчас занимается тем, чтобы устроить его в хороший институт — он понравился ей... и ты ей тоже... ну... понравился, — чуть снижает тон голоса, пожимая плечом, — Хосок, она правда сможет помочь тебе, — чуть обхватывает мизинчик хориста, — ты ведь сам понимаешь, что тебе не место в такой школе.
Чон чуть поджимает губы: знал бы он еще, где его место — половину проблем в жизни можно было бы отбросить! Да как вообще отыскать это свое место, как понять, что оно — твое?
Ведь пока что все, чего он хочет — это просто... просто петь.
Не особо важно где.
— В-общем, я тебя официально приглашаю в дом Мун ближе к Рождеству, — улыбается, — она послушает тебя еще раз и, будь уверен, сделает все, чтобы ты в той школе больше не появлялся, — приподнимает бровь, — она у меня такая... боевая!
Хосок приподнимает взгляд к быстро темнеющему небу, глядит на уже почти черные тучи, с которых начинают накрапывать не капельки даже — едва заметные штришки ни то из отяжелевшего пара, ни то из невесомой воды: нет, он хочет не просто петь...
В любом своем воспоминании из этой школы Хосок видит не только себя — пианист тоже рядом; иногда он стоит за плечом, молча наблюдая, иногда... он идет рядом.
Не просто петь.
А петь вместе с Мин Юнги.
— Знаешь... это может оказаться хорошей идеей, — размышляет, — но... кто мне будет аккомпанировать? — улыбается, возвращается к девушке, — Юнги...
— А вот на его счет я не уверена, — совсем быстро прерывает Йонг, щелкая словами, — в том смысле, что... — качает головой, закатывает глаза, — нет... нет. Не думаю, что он сможет...
— Почему?
Он видит, что Йонг собирает слова по буковкам, путается, хмурится; все кажется легким недопониманием, он отчего-то сразу верит в то, что сможет договориться насчет Юнги, ведь он... ведь он... Юнги ведь хороший...!
— Чон! — окликают его вдруг из-за плеча — он нехотя поворачивается почти сразу, потому что прозвучавший голос... вдруг удивляет его.
Пастора Хён Дондука почти не узнать в его мирском одеянии: высокий мужчина с зализанными волосами в черном длинном пальто подходит ближе, и запах его мгновенно напоминает о той, другой жизни за каменным забором церковной школы; резкий запах одеколона и почти улетучившийся запах ладана мгновенно окунает Чона в холодные стены приюта и неприветливые классные помещения.
Хосок слышит скрип деревянных полов и стук ложек о тарелки в трапезной, сухие голоса настоятелей и учителей, скучающие зевки одноклассников; в голове возникает вдруг иллюзорное легкое эхо проповедей в темной часовне — так странно... он еще с утра был в школе, но за эти несколько часов напрочь забыл о том, каково там. Как там по-другому, как там иначе, как там...
Он не может подобрать противоположное по смыслу слово к «свободе», но там именно так.
— Мисс Мун, — мягко улыбается пастор, чуть кивая головой.
— Здравствуйте, пастор, — кротко здоровается Хосок, чуть заслоняя спиной девушку.
Все в груди сжимается щитом машинально, и прыткие мысли, перенятые от одноклассников за это время, вдруг невольно окликают его Доебуком, который вдруг решил доебаться.
— Кино снимаете? — добродушно смеется мужчина, взглядом указывая на видеокамеру — напрочь забывший про нее Чон прячет ее за спину.
— Просто гуляем, — сухо отвечает, сжимая губы, — а вы...
— Как удачно, что я встретил вас, Йонг, — он переключается быстро, не обращает внимания на парня, как-будто сразу забывая о его существовании.
— Что-то важное? — хмурится девушка, раздумывая.
— Нет, просто хотел передать благодарность леди Мун за все, что она делает для школы... и для меня. Я зайду к вам на днях, есть, что обсудить, — переводит взгляд на Хосока, но тот отчего-то совсем не робеет, взгляд встречает твердо, — Чон. Не опоздай обратно в школу, иначе придется ночевать на улице, — высокомерно оглядывает, — я сейчас поеду туда... может, подвезти?
Идея хорошая, ведь до школы путь неблизкий, да и дождь вновь накрапывает, но...
Он не хочет придумывать причины для того, чтобы недолюбливать пастора, потому что недолюбливать его получается без причины. Не хочет придумывать основания его чувств.
Он не хочет верить в его показную добродетель. Он чувствует, что он ненастоящий, что он... склизкий, как змея, но совершенно не может объяснить эти ощущения. Мама всегда говорила ему, что он хорошо чувствует людей...
— Я, пожалуй, останусь со своей девушкой еще ненадолго, — отвечает твердо, не понимает, почему вдруг мужчина начинает посмеиваться, оглядывая их... они с Йонг выглядят глупо? Наивно? По-детски? Возможно...
Дондук отступает на шаг назад, продолжая улыбаться, продолжая оценивать их стальным, темным взглядом; уверенно, он бросается им прямо в Хосока, цепляется своей чернотой под хмурыми бровями и отчего-то не отпускает, впивается и там, в темноте, неслышно хихикает — так мерзко, как будто бы... как будто не взрослый мужчина перед ним.
Такой же школьник...
Возможно Чон совсем сошел с ума, но улыбка мужчины вдруг... становится, на самое мгновение... чем-то большим, чем обычной улыбкой — от нее веет холодом и...
Хосок первым разрывает их взгляд, отворачивает лицо, хмурится, тоже делает шаг назад; дождь начинает лить больше, накрапывая уже по-крупному, но Хосок все равно не согласится ехать с ним в одной машине — не теперь, нет.
— Ты знаешь, во сколько двери запираются, — без тени улыбки проговаривает он, отступая назад, — я лично прослежу, чтобы они закрылись минута в минуту, — ухмыляется, глядя на часы, — лучше бы тебе начать свой путь прямо сейчас. Теперь, после того кощунственного, позорного события с твоим отцом, мы тщательно следим за тем, кто заходит в нашу школу.
Хосок багровеет: Йонг же ничего не знает... и он надеялся, что не узнает. Это не сильно злит, просто покалывает — парень надеется, что эти иголочки нелюбви, запущенные в спину уходящего пастора, обязательно его настигнут...
— Мерзкий тип, — шикает он под нос, вставая под крышу комиссионного магазина, — хотя и притворяется, что святой... — фыркает, чувствуя, как Йонг бережно обвивает его руку, — не могу поверить, что такой... склизкий слизняк помогает Юнги с поступлением по доброй воле, — качает головой, — что-то тут нечисто...
— Что? — девушка хмурится, приближаясь ближе — может, просто не расслышала?
— Не знаю, он просто мне не нравится, как и я ему, — шикает нервно, продолжая глядеть в бок, — он ненавидит меня!
— Нет, нет, я не про это, — Мун заставляет Хосока перевести взгляд с фигуры удаляющегося мужчины на себя, — он... он помогает Юнги с поступлением?
— Ну да? Мы узнали об этом недели полторы назад... — морщит нос, — долбит Юнги с этой учебой, жизни ему не дает... хотел бы надеяться, что это к лучшему...
— Ничего не понимаю... — Йонг легко покачивает головой, крепче сжимая руку, — Хосок, ведь... он не просто так к моей маме приходит! Это он порекомендовал Сокджина к поступлению! — поднимает голову, — и он... продвигает тебя!
Чон Хосок от удивления сжимает губы, почти давится воздухом: Рекомендует его леди Мун? Его? Дондук же ненавидит его? Зачем ему это?
— И... поэтому... — выдыхает, отводя лицо, — какой-то бред... чушь собачья!
— Ты о чем? — вглядывается в ее задумчивое выражение лица, хмурится... непонятный ком волнения закрывает каналы дыхания в горле.
— Я подслушала... — жмет плечом, — когда он приходил к нам не так давно... Пастор... он... Из-за пастора Юнги закрыт путь к нам домой теперь, — девушка смотрит в глаза, — пастор сказал, что Юнги... что он... ну? — тяжело глотает воздух, — что нет в вашей школе ученика хуже, чем Мин Юнги и такой, как он, вечно просидит в этой школе, потому что он нахал, наглец, бездельник, хулиган... И нет ему спасения, ибо неисправим. Пастор сказал, что Юнги — очень плохой мальчик.
В душе Хосока бьет гром.
Его уже не просто покалывает, он... он почти становится дурным.
***
— Это самое крепкое, что ты мог раздобыть? — Чимин фыркает почти с усмешкой, хватает из рук Чонгука стеклянную бутылку без этикеток, присматривается к бесцветной жидкости.
— Нихуя себе! И это спасибо? — хмурится, стоя у двери комнаты Пака, — алкашка, между прочим, не дешевая, еще надо знать, кто может толкнуть так, чтобы не паль была, — подтирает нос, метаясь взглядом круглых глазок, — сказали, должно вынести. Но чего-то я не догоняю, — чешет затылок, — нахуя тебе...? Выжрешь это в одного, откинешься, точно...
Пак крепче хватает бутылку за горлышко, конечности бьет дрожью, когда он раскручивает крышечку... Он... он уже все решил.
Блондин едва отводит взгляд в сторону, к зашторенному оконцу комнатки, сглатывает, чувствует, как теперь дрожат не только руки, но и все внутри, кроме... кроме мыслей.
Он решил это уже давно... почти сразу, как узнал.
Он решил это, когда ноги не могли удерживать вес, когда уши горели огнем, когда он не мог заставить себя даже вздохнуть.
Он решил это у входа в туалет, где-то там, сидя задницей на холодном полу, прикрывая рот, чтобы не соскользнул ни один случайный звук, пытаясь удержать блядские слезы в глазах.
Решил это, пока слушал, как Юнги в очередной раз выворачивает после... после... после того, что с ним снова произошло в кабинете пастора.
Пак Чимин решил это, когда он слышал, как друг его выблевывает все свои внутренности, хныча, пряча в себе скулеж, потом начиная тихо плакать, спуская воду в унитазе. Он осознал свое предназначение, когда Юнги после всего этого тихо вытирал слезы и запирал все оставшиеся звуки в себе. Становился после всего этого... самим собой. Самым обычным Мин Юнги.
Все было решено в тот момент, когда Чимин не смог подойти к нему, так и оставшись за стенкой туалета, не смог даже слова сказать от ужаса и испуга.
Чимин... он все еще... он все еще может услышать каждый... звук... в туалете... и в кабинете пастора тоже.
— Не твое дело, малой, понял? Все, что тебя здесь может касаться, это деньги, которые я тебе уже заплатил, — шикает Пак, прикладываясь к горлышку, — а теперь выйди и закрой дверь с той стороны, — он поворачивает голову, вдруг пугая Чонгука своим видом. Целиком и полностью.
Вдруг пугая тем, что... что что-то вот-вот произойдет.
Пак Чимин улыбается самому себе: таково его предназначение — он решает сделаться ведомым Богом. Если не он, то кто? Если рука Бога направляет не его, то кого? Он не зря оказался тогда в ту самую минуту перед дверью пастора — того желал сам Бог... он уверен.
Он решил, он уже все давно, только вот... страшно все равно. Вот и решает напиться — так, уж чтобы не передумать в последний момент.
Так, чтобы нож в кармане точно сыграл свою роль.
***
У него как-будто бельмо в глазу, которое мешает увидеть картинку полностью — Чон чувствует, что он видит и знает не все. Как чувствует и то, что ответ на поверхности, что он скрыт лишь легкой вуалью, которая спадет от легкого движения рукой — осталось притянуться, но куда, к чему?
Не дождь, но обжигающе-холодный ливень бьет ему в лицо, когда он почти бежит по размытым дорогам в школу, не разбирая пути в темноте, хлюпая по лужам, пачкая брюки, вымачивая ноги; он уже видит свет из крохотных окон школы, он почти видит главные ворота, и кажется ему, что он не успевает.
Нет, не к закрытию дверей — он опаздывает к чему-то другому, к чему-то непоправимому.
Все неправильно, все так неправильно! Все... все это...
Он почти кипит от появившегося внутри гнева — когда он злой, он дурной, он такой дурной...! Но не он разжег этот пожар внутри — виной тому пастор. Его слова. Слова Йонг.
У него в глазу не просто бельмо, а целое бревно, которое не дает прозреть, которое он все это время старательно не замечал, игнорировал, жил с ним, потому что оно, вроде как, не мешалось.
Но теперь он чувствует себя самым слепым человеком в мире: поведение Юнги, его странные разговоры о пасторе, поведение Доебука, его лживые слова...
Он забегает за двери школы, прислоняясь к ним затем, пытаясь отдышаться, пытаясь понять собственные намерения: что он собирается сделать? Что вообще происходит? Должен ли он вмешиваться? Может, ему все кажется? Может...оставить катаракту лжи на зрачке, может, дать себе ослепнуть окончательно, может...?
Проще поверить, что потом будет все хорошо, чем смириться с тем, что сейчас все плохо?
Парень отталкивается от тяжелых деревянных дверей, устремляется внутрь школы: черта с два! Хрупкий соломенный шалаш шаткого мира уже поджегся, а сам он вспыхнул вспышкой на взрывоопасном фительке, ведь речь идет... речь идет о Юнги.
Почему он всплыл в мыслях тогда, в разговоре с Йонг? Да потому что он уже никуда и не уходит из мыслей, потому что Мин Юнги уже всегда в мыслях, потому что... потому что...
Он пересекает темный покинутый коридор первого этажа, проходит мимо закрытых дверей учебных классов, почти взмывает по лестнице наверх: он должен найти Юнги, он не знает, что он скажет, он не знает, что будет... по крайней мере, он попытается избавиться от заносы в глазу и мыслях. Все это — чертова ложь, а лжи он не терпит. Все это так несправедливо, а на несправедливость у него жгучая аллергия.
На втором этаже в жилом крыле тоже тихо и темно, но громкие мысли хориста трещат почти ощутимо слышно, почти что отскакивают от стен длинного коридора и бьют в ответ. Мокрый, он резво порывается вперед к комнате Мина, но вдруг...
...Но Пак Чимин вдруг показывается перед ним преградой, возникая из-за дверей своей комнаты и, покачиваясь, застывает, вытирая нижнюю губу. Свет из комнаты теплой тенью опадает на правую щеку блондина, и Чон видит, что глаза его пьяны, а взгляд спутан, что он едва ли может передвигаться. Чимин сутулится, нетвердо держится на ногах, а в руках его...
...Нож...
— Чимин? — Хосок вдруг замирает на месте почти в ужасе, делая едва ощутимый шаг назад, поворачиваясь боком... ну чтобы...
Защитить себя, если что. С отцом он этому научился — уж лучше в бок, чем прямой удар в живот...
— Ты...! — срывается с губ Чимина, — вечная затычка! — ругается, тыча пальцем, делая шаг вперед, — всем только кровь портишь!
— Что за бред ты несешь?! — ругается в ответ, воспаляясь, закипая.
Все это уже ему надоело. Быть пустым местом тоже. Он решил быть сильным — он будет.
— Делаешь вид, что святоша! — Чимин стремительно приближается, — как пиздец происходит — ты всегда рядом! Может, внутри тебя Сатана сидит, а? И сам весь из себя такой... хорошенький! — кривит губу, — А ну! С дороги! — Пак больно утыкает парня в плечо, пытаясь пройти к лестнице, но Хосок вдруг цепляется за его плечи, напирая, не давая ходу:
— Куда ты собрался?! — шикает, делая шаг вперед, — что ты удумал, Пак?!
— Не твое собачье дело! — сопротивляется пьяный парень, но Хосок резво наступает, заставляя его повиноваться; он цепко хватается за его кофту, уводит дальше от лестницы: не знает он, что вдруг сбрендило ему в голову, но... ничем хорошим это не закончится.
Чимин слишком напился — Хосок знает эту стадию: отец в таких состояниях бывал редко, но когда это происходило, он обычно уже не бил, только долго ворчал и клацал заплетающимися словами, обливая ядом и желчью, бесконечно долго угрожал и унижал, но стоило ему положить голову на подушку, как он крепко засыпал...
Чон Хосок буквально запихивает его обратно в комнату, с силой выбивает нож из руки — тот клацает на пол у шкафа.
— Какого хуя ты творишь?! — Чимин замахивается, пытаясь устоять на ногах, одновременно с этим порываясь притянуться к ножу, — я тебе щас пасть разобью, мудак! Раскрою!
— Заткнись, заткнись, заткнись! — шипит Чон, толкая одноклассника — тот неумолимо подается назад, почти запинаясь о порожек задравшегося коврижки на полу, — Чимин! — губы горят, — что... происходит?!
— Не твое дело, обсосок! — снова ругается, мешкаясь, — это ведь... ведь... из-за тебя...!
— Что ты там мямлишь?! — рыпается вперед, щурясь, сутулясь, чуть разводя руки по сторонам.
Хосок делает шаг вперед, но резко останавливается на мгновение... он тормозит сам себя, потому что понимает, что удерживаться становится все труднее и труднее, понимает, что еще немного, и он... по-настоящему станет дурным.
— Блять, да не селят к нам в школу учеников из города! — он смеется всем телом, — сука, когда полная семья...! Думаешь... это чудо произошло? Снизошло до тебя? Блять, нужно было тебе нож к горлу приставить, а не Доебуку...! Юнги...! Из-за тебя!
Чон набрасывается на Чимина резко, дерзко, больно. Совсем не думая, прыгает на него дикой кошкой, хватается за торс; они громко валятся на пол — Чимин сопротивляется, хватая хориста за руки, тихо рыча и ругаясь, отбиваясь ногами, но Хосок на нем сидит непробивной скалой, обхватывает запястья, пытается прижать их к полу; Паку на мгновение удается вырвать руку и колко запустить кулак Чону в подбородок: это сбивает с толку лишь на мгновение... Боль не отрезвляет, только раззадоривает.
Чон тихо шипит и вдруг давит ему на шею рукой, совсем как-будто не замечая, как Чимин колотит его по корпусу, а вот вторая рука хориста... трясется в воздухе от того, как сильно ему хочется ударить по лицу парня. Как ему хочется услышать хруст хрящей в носу. Как сильно ему хочется увидеть чужую кровь, доказать, что он не слабак, показать, что он сильный... Как же ему хочется, как хочется...
Но рука трясется еще и потому что... не может этого допустить.
Он не может ударить человека, он не... он не как его отец.
— Что ты знаешь?! — цедит через зубы, краснея, продолжая сопротивляться прытким попыткам Пака перевернуться, — что...! Ты! Знаешь! — трясет Чимина руками, — отвечай!
— Ты правда веришь, что они там учебой занимаются?! — Чимин хохочет почти истерически, крутя головой, обсыпая того ударами по рукам, — я... слышал... я...
— Что ты слышал?! — не унимается Хосок — воспаляется лишь больше.
— Я хотел... хотел припугнуть этого извращенца...! — Чимин бьет все слабее и слабее, будто бы уже растратил он свои силы и весь свой запал — язык начинает заплетаться поэтому Хосоку приходится навострить уши, впиваться взглядом в совсем опьяневшего блондина, — пастор... Юнги...
— Что он делает с ним? — хлещет сухими словами, точно горячими пощечинами, сжимает его футболку уже обеими руками, почти приподнимая с пола за нее, — что...
— Ты уже сам понял... — Чимин пытается перевернуться на живот, но слабеет все стремительнее, он теряет хоть что-нибудь, что держало его на плаву до этого, — ты... ты здесь только... из-за того, что Юнги делает пастору почти каждый вечер... — выпускает воздух, — я следил...
Это... не может быть правдой, это... это не...
Хосок прерывает свои мысли, потому что это, наоборот, и есть то бельмо в глазу, которое он не хотел видеть, это и лежало на поверхности, с этого и нужно было смахнуть полупрозрачную вуаль...
Его бьет разрядами тока изнутри, это напрягает тело стальными прутьями, его кружит, его почти что тошнит, когда он расслабляет свои пальцы, глядит потом на Чимина, у которого вместо лица теперь горечь и отчаянные попытки сдержать слезы.
На Чона выливается ведро холодной воды, в которую намешали осознание происходящего и отходы правды... Парень не чувствует тела, не чувствует себя, не понимает теперь, как жить с этим знанием, что теперь...
Юнги... из-за него...
Пастор его...
Ноги почти дрожат, когда он поднимается наверх, давая Чимину возможность, наконец, перевернуться на бок и медленно подползти к своей кровати: опустошенная бутылка на столе и вялость движений подсказывают Хосоку, что тот очень скоро просто отключится...
А вот сам он... медленно разворачивается.
— Я должен был... — Чимин скручивается клубочком, поджимая ноги, и Хосок впервые видит его настолько уязвимым, глядит на него из-за плеча почти с жалостью... — я должен был это остановить. Я ведь там не просто так оказался... может... это рука Бога меня туда привела...
— Успокойся, Пак, — отрезает, — никакая это не рука Бога, ты не избранник... ничего ты не должен был... — сглатывает, — ты просто пьян.
Чон Хосок находит в углу меж шкафом и стеной брошенный острый нож — не знает он, откуда Чимин взял его, но он точно не кухонный. Такой, каким режут дичь на охоте...
Он берет его, крепко обхватывая потертую рукоять, перевязанную уже грязной изолентой. Глядит на него с секунду...
И выходит из комнаты.
Если кто-то и должен что-то сделать, то... только он.
***
Хосок почти не может разлепить глаз от падающих на его лицо капель дождя сверху; все это... просто один бесконечный дождливый день. И как будто солнце уже никогда-никогда не явит себя, будто и нет его там, за тучами.
Покинутый людьми клуатр с небольшой покореженной скульптуркой посередине почти затоплен от ливня — ноги ученика стоят уже почти в луже, пока сам он, почти раскинув руки, поднимает лицо к небу, едва опираясь на то, что раньше было фонтанчиком.
Если Бог его испытывает так, то не нужен ему такой Бог.
Если Бог таким образом делает его сильнее, то он справится без него.
Он отказывается от него. Он больше не хочет, чтобы Бог его, наконец, услышал, повернул к нему свое лицо. Бог раньше не верил в него... теперь Хосок не верит в Бога.
Отрекается.
Он хочет остыть, хочет охладиться, выдохнуть, успокоиться и спокойно все обдумать, но он...
Ливень не успевает затушить горючее пламя внутри, где вместо топлива щелкающие мысли, а вместо дров горящие воспоминания, которые воспламеняющейся горючей соломой напоминают о Юнги — о том, как он смотрел и вел себя, о том, как молчал, о том, как...
...Тогда, после того как его положили с сотрясением... он уверен, что Юнги в тот вечер плакал... в тот вечер, когда он промолчал о многом, тогда, когда... Юнги притянулся к его пальцам... тогда...
Хосок горит. Пламенем злости.
Горит от гнева, горит от того, что Юнги... сделал ради него.
Его голову будто невидимой рукой сверху насильно поворачивают в сторону часовни — в небольшом оконце над двустворчатой деревяной дверью он видит свет... он готов поклясться, что сквозь шум ливня и через расстояние сквозных коридоров он... слышит музыку — он слышит Юнги.
И если его сейчас направляет рука того, в кого он больше не верит — пусть. Сейчас он пойдет по ее велению.
Он срывается с места почти мгновенно, почти выбивая мягкую землю из-под пяток ботинок; глаза жжет, но не от горьких слез — никто и никогда больше не увидит его слез; глаза жжет, будто от открытой раны в них — туда засыпали перец и соль и, теперь, ведомый правдой, он поджигает все на своем пути.
Да расступится пред ним сам страх и трусость,
И да откроются его небесные врата...!
Он громко хлопает дверьми часовни, громким эхом внутри давая знать о себе, почти уже бежит, видя призрачный силуэт за пианино... ближе к распятию во главе помещения, ближе к переставшему звучать инструменту, ближе... ближе к нему.
Конечно, Мин Юнги здесь.
Где ему еще быть?
Пианист оборачивается почти в страхе, сразу опуская руки на напрягшиеся колени, пугаясь — Хосок... он еще никогда не видел Хосока таким.
Продрогший и вымокший до самой последней нитки, он вдруг настигает Юнги, моментально и больно хватает за плечи, тут же поднимая на ноги, почти начиная трясти его:
— Юнги! — буквы трещинами горечи клацают губы, бомбами злобы и печали разрывают уединенную тишину, — Юнги!
— Ты чего...? — Мин пытается отстраниться, вырваться — Чон... пугает его, действительно пугает его. Голос Мина звучит слабо, испугано, едва слышно...
Сопротивляться выходит слабо, Хосок слишком сильно обхватывает его, почти куклой отводя от инструмента... Из-под выбившихся мокрых черных прядей Юнги видит... его глаза. Черные, что сама ночь; внутри них першит бешенство, да кажут себя танцующие черти — они отнюдь не озорные проказники, они... кровожадные ящеры, показывающие свои наточенные клыки.
Хорист зарывается своим взглядом в его глаза, напирает еще больше, и Юнги совсем не может сопротивляться, врезаясь затем спиной в стену за собой... Он даже не подозревал, что Хосок настолько силен, не подозревал, что он может быть таким... он не подозревал, что внутри него так много от Дьявола.
Ему хочется, чтобы Хосок его отпустил, ему хочется, чтобы все это прекратилось, ему страшно, ему правда очень страшно, ведь Хосок...
Знает. Он понимает это сразу же, без слов. По одному лишь взгляду.
— Юнги! — прижимает парень Юнги к стене, почти обездвиживая, не давая возможности пошевелиться, не давая вырваться, — зачем... зачем ты это сделал?!
Хосок почти воет.
Сердце пианиста выпадает из грудной клетки на пол часовни.
Он правда знает.
— О чем ты?! — сопротивляется, пихая Чона в плечи, но тому хоть бы что, — отпусти меня!
— Юнги! Ты не должен был! — почти кричит, сглатывая, не понимая, что всего его трясет, — ты!!!
Он задыхается, правда задыхается.
— Отстань от меня! — закрывает глаза, быстро качая головой, несильно хлопая вышедшего из себя хориста по плечам.
Если худший кошмар мог произойти, то он произошел только что.
Тот, кто не должен был знать... узнал первым.
Только не Хосок, только не Хосок... почему он, почему он?!
— Отпусти! — почти кричит, выдыхая, приподнимая бровки, пытается упираться ногами в его торс, — я не понимаю, о чем ты! Ты с ума сошел?
— Я все знаю, Юнги! Знаю! — он хнычет, крепче обхватывая его плечи, приближаясь, — ты и пастор...!
Грудину вскрывает мгновенной вспышкой молнии, красной нитью тянет за все тело. Оглушает. Глаза в глаза. Хосок невидимыми колкими ногтями держит Юнги за веки, не давая тому отвести взгляд. Чон горит. Юнги трясется.
— Нет! Нет! — Юнги качает головой уперто, вторит сам себе так, будто если он никогда не признается, значит, все это никогда не происходило с ним, будто если он скажет, то он сделает все происходящее реальностью.
Это происходит не с ним, это происходит не с ним...
— Вы не учебой занимаетесь! — жжет словами, слюна случайно вылетает с его губ, — Юнги, просто... скажи...!
— Хосок, это просто... просто слухи, это...! — Юнги мякнет в руках парня, почти не стоит уже на ногах, только безвольно поднимает глаза к потолку: пусть это закончится, прямо сейчас закончится, путь в купол ударит молния, и это место сгорит к чертям! — это все бред! — прыскает из последних сил, поднимая голос.
— Я его убью! Клянусь, убью! — шипит, — ты... ты...
— Просто оставь меня! — снова начинает сопротивляться, толкаться, упираться в крепкие плечи Хосока, подаваясь телом вперед, — я уже... безнадежен, Хосок, меня уже не спасти, просто оставь меня, просто... Я хуже, чем ты думаешь, я ужасен, я грязен... Я...!
— Нет! Нет! — мотает головой, — Неправда!
— Правда! Он меня... испортил...! — наконец соскользает с губ — это неполноценное признание звенит громче оглушающего грома, — Я ужасен...! Я...
«Ты не ужасен! Ты не ужасен! Ты не ужасен!»
Но он не может сказать этого вслух... потому что вдруг притягивается.
К Юнги.
Потому что вдруг почти врезается в застывшие в горечи губы пианиста, потому что начинает впиваться в них, соскребая с них прогорклую печаль, потому что начинает разделять свой пожар с Юнги.
Хосок перестает его удерживать, но начинает пылко обнимать, обхватывая руками за плечи, за шею, притягиваясь пальцами к его щекам, волосам, голове — во всем этом ничего уж не разобрать, что, как и где...
Он прекращает пытаться остановить его, но тянется к нему, дает себя, бросает себя к нему... он вьется, льнет, он... он целует так полно, чтобы океан ненависти, принадлежащий Мин Юнги, иссушило его жаром, он целует так, чтобы насильно украсть у пианиста всю его боль, целует так, потому что он... давно этого хотел.
Но понял только что.
Чон льнет к губам парня, быстро исцеловывает их, оставляя поцелуи теперь мелкими, быстрыми, чтобы у пианиста не было даже возможности слово вставить, но когда... когда чувствует, что Юнги начинает отвечать на поцелуй...
...Когда чувствует, что Юнги задерживает его на своих губах, продлевает прикосновение, ощущает как его изящные пальцы кладутся на мокрую шею, как грудь его притягивается ближе, когда чувствует его соленые от слез прикосновения к собственным губам... то почти успокаивается.
Почти отпускает злость и гнев, почти остывает, расчищая место новым чувствам, расчищая дорогу... тому, что несет с собой Мин Юнги.
Господи, что же они творят, что же они творят!
Мин Юнги притягивается, крепко обхватывая Хосока, цепко обнимая его. Впивается в губы хориста крепко, мокро, отчаянно, так, как хватается выброшенная на берег рыба за свою жизнь. Он выпрямляется, чуть напирая вперед, перемещая ладони теперь на продолговатое лицо, жадно сжимая его. Юнги отдает все то, что у него на душе, отдает ему все свои чувства, отдает ему всего себя — сердце жмет в груди, и он желает вырвать его и возложить к ногам Хосока еще горящим, окутанным языками пламени.
Пусть забирает, пусть всего его сейчас забирает, он отдаст себя, он уже отдал...!
Он слышит, как воспаляется дыхание парня, он слышит, что Чон начинает дышать чаще и... горячее... он чувствует, как пальцы хориста сжимаются на его теле крепче, притягивают к себе.
Хосок хочет впитать каждый новый аккорд его прикосновения так же сильно, как жаждет этого Юнги. Мин стремится запомнить все тональности вкуса поцелуя так же, как хочет этого Чон.
Все это... нет, это и правда, не только одна нота, это аккорд, в котором звучит и горючее отчаяние, и сладкое желание, в которым различимым полутоном звенит осознание полной невозможности всего этого и жгучей неотвратимой реальности...
Это... это... Мин выдыхает, вдруг нехотя останавливается, не давая Хосоку разогнаться еще больше. Еще на мгновение задерживаясь на губах хориста, Юнги кладет свою холодную руку ему на щеку, проходится по ней легко... почти ласково.
Это движение мурашками проносится по всему Хосоку.
Оба еще долго тяжело дышат... Юнги почти застывает, отдаляясь, но прислоняясь лбом к щеке Хосока, продолжая ощущать его горячие руки на себе, почти слыша учащенное сердцебиение хориста под мокрой одеждой — да у него грудь ходуном ходит...
Это все... все это так...
Что же они натворили, что же они наделали...
— Ю...н... Юнги... — голос Хосока теперь дрожит, руки недвижимо замирают на теле.
Теперь, когда он понимает, чем он только что занимался. С парнем.
Когда понимает, что готов теперь положить свою жизнь к ногам Юнги.
Понимает, что... он...
— Не... — переводит дыхание, сглатывая, чуть отстраняясь, — не... не здесь, — он почти выпрямляется, стремясь взглядом в глаза Хосока, — Джина нет сейчас в моей комнате, — опускает руку на руку Чона, — идем.
***
Он видит, но не верит в то, что видит...
Исполосанное будто шрамами изголовье кровати безмолвным свидетелем повествует о боли, которая здесь происходила... и происходит.
Хосок проходится пальцем по надрезам тупым ножом, уже перестает считать их количество — да ему и не хочется знать, сколько их тут.
Много.
Осознание этого заставляет его охладиться, почти забыть о том, что только что было в часовне. Осознание этого заставляет вспомнить о том, что ему никогда не хотелось бы знать — не хотелось бы, чтобы это вообще когда-либо происходило, в принципе.
— Это... помогает, — будто оправдывается пианист, стоящий рядом, не смеющий приблизиться к парню ближе, — по... могает... отвлечься. От разных мыслей. Плохих мыслей.
Хосок поднимает взгляд — на Юнги лица нет: только белая простынь с едва открывающимся ртом и заледеневшими обескровленными губами. В полутьме маленькой комнаты парень выглядит выбеленным пятном, у которого вместо глаз лишь черные прорези...
— Но... но.не...всегда.
Юнги и сам вдруг не понимает, откуда в нем силы сказать об этом всём хотя бы слово, отчего вдруг делать это не так тяжело, как ему казалось всегда.
Возможно, потому что это Хосок.
Конечно, потому что это Хосок.
Он закатывает рукава кофты, подставляет руку под слабый теплый свет настольной лампы у кровати... Юнги страшно взглянуть на Хосока и увидеть его реакцию, тревожно узнать, как он к этому отнесется — он смотрит вбок, почти жмурится, как всегда это делает, когда ставят уколы. Чувствует почти пощипывание от взгляда-иглы.
Насечки на теле Юнги гораздо тоньше, чем полосы на кровати, но едва ли их меньше. Тонкие белые царапинки-шрамы сидят на его левой руке выше запястья на внешней стороны руки, так, где более грубая кожа, почти у сгиба локтя: поэтому он никогда и не видел этого — Юнги никогда не ходит в одежде с коротким рукавом...
Сердце пропускает удар в двух грудных клетках сразу: у Хосока когда он прикасается к шрамам, у Юнги, когда он... чувствует прикосновение к себе... прикосновение, которое колит не иглой шприца, а мягко поглаживает.
Это обжигает... Руку хочется вырвать.
— Боль помогает... — объясняет слабым голосом, мягко отводя руку ближе к себе и дальше от Чона.
— Юнги... — хнычет он почти бессильно.
Эти царапины... вдруг ковыряют прямо в солнечном сплетении его собственные шрамы — новые шрамы; слова аккуратным скальпелем режут кожу острой четкой линией, проникают внутрь и спиртовым раствором выжигают то, что раньше цвело в том месте. Канистры с ядовитыми словами выливаются внутри с излишком, оставляя после себя химические ноющие ожоги.
Тяжело, тяжело, тяжело...
Внутри все окаменевает, тянет вниз, что Хосок и впрямь кладет свою руку на грудь, растирает уже физическую боль... За Юнги. Из-за Юнги.
Юнги, который... из-за него... для него... пошел на... такое.
Наверное, впервые за слишком долгое время ему хочется расплакаться навзрыд, по-настоящему, так, чтобы слышали все. Хочется плакать так, чтобы вся подушка пропиталась его слезами, чтобы не было сил встать и умыться. Впервые за долгое время он хочет расплакаться не из-за себя, не из-за несправедливого отношения к себе, он хочет посвятить все слезы Юнги, он хочет смыть своей горькой болью боль чужую, он хочет забрать ее, он хочет...
Да хоть сейчас бы встал на колени и попросил, чтобы все грехи человеческие отдали ему одному, только чтобы с Юнги никогда этого не происходило, чтобы... чтобы...
— Юнги, — Чон встает с кровати, облизывая засохшие губы, собираясь с мыслями, даже и не обращает внимания на то, как Мин вдруг отходит от него, как ошпаренный, — все... все... все обязательно наладится, — шмыгает носом, тоже держится от пианиста на расстоянии, — мы обязательно что-нибудь придумаем, мы...
— Нет, — он сухо прерывает, — ты... не должен участвовать в этом, — прикрывает глаза рукой, — это... не твое дело. Не знаю, как ты узнал... но все бы отдал, чтобы этого не случилось.
— Но как же? — не понимает, — это... это не может продолжаться, это должно закончиться, Юнги, это...
— Что — это? — вскидывает руками, издавая почти стон, — грех? Что это? Мерзко? Ужасно? Ты думаешь, я сам... не понимаю, что это? Ты думаешь, я сам...?
— Вот поэтому мы обязательно все исправим... — пожимает плечами, — обязательно...!
— Да что за «мы», какие еще «мы»? Я... нет никаких «мы»...! Тебе... нужно держаться подальше от всего этого! — трясет головой, защитно выставляя руку перед собой, — от этой... ситуации, от пастора, от... от меня!
— Да как я могу держаться подальше от тебя, ты что? — нижняя губа дрожит, и он подступает ближе, — ты думаешь... это отвернет меня от тебя?
Юнги стоит уже у самой кровати отсутствующего Сокджина, стараясь держаться от Хосока как можно дальше; Чон почти не шевелится: видит, что тот скован, испуган... он видит, что Юнги не желает, чтобы он приближался.
— Я же... я же... Юнги, — сглатывает, изо всех сил кусая губу изнутри, — как... именно ты договорился с Дондуком обо мне? — дышит тяжело, не давая слезам соскочить с глаз, — что конкретно...
— Хосок! — прерывает.
— Юнги! — тоже повышает голос, поднимает голову, — это и меня касается! Это из-за меня ты...!
Юнги закрывается окончательно, прячет лицо за ладошками, скукоживается...
Хосок предпринимает попытку приблизиться — больше всего на свете Юнги сейчас требуются самые обычные объятия, но пианист опасливо отступает за кровать, к противоположной стене, потрясываясь, выставляя руки перед собой, не позволяя шагнуть Хосоку так, будто он прокаженный.
— Я пошел на это... — сухо говорит Юнги, глядя в пол, — потому что... мне уже нечего было терять.
«Потому что я не хотел терять тебя».
— Я ведь и так... — дышит тяжело, а язык отказывается произносить это слово вслух, — делал это... пастору... — шмыгает носом, — почти никакой разницы.
— Юнги...
У боли вдруг появилось новое имя — имя Мин Юнги.
Это звуки темной низкой контр-октавы, в которой режущими издевающимися нотами слышатся сменяющие друг друга соль и рэ; эти звуки давят, тащат вниз за собой, им не воспротивиться — боль сейчас определенно сильнее.
— Юнги, я... — он выдыхает, все же приближаясь, — больше всего на свете я просто хочу сейчас, — вздыхает с трепетом, чувствуя, что еще немного и посыпется, — я хочу помочь тебе...
— Помочь? — он прислоняется спиной к холодной стене, ощущая как катятся слезы по щеке, — мне уже ничем не помочь...
— Не говори так, — Чон застывает в нерешимости перед парнем, чуть приподнимая руку перед собой — она, уже почти чувствуя тепло его тела, вдруг замирает, как замерла бы, если бы сейчас перед ним был испуганный уличный кот, — не говори так, потому что...
— Во мне нет надежды... — скатывает с губ.
— Я тебе ее дам! — умоляет.
— Во мне нет ничего хорошего...!
— Это неправда...!
— Я — плохой человек...
— Юнги, ты... Позволь... позволь мне... помочь тебе.
Трепет душевный становится физическим — его буквально можно почувствовать на кончиках пальцев... Хосок осторожно кладет свою руку на запястье пианиста, делает это почти неощутимо, мягко... плавно, будто аккуратно пробуя на вкус горячий-горячий бульон... Юнги не обжигает, не отгоняет, и Хосок аккуратно сжимает свои пальцы на его тонком запястье, делая еще один шаг навстречу.
Больно невыносимо, но он готов забрать его боль, готов забыть про себя, готов на все, если это подарит Юнги хотя бы одну спокойную ночь.
— Хосок... — Юнги смотрит перед собой, шмыгая заложенным носом. Плакать он перестал, но красные дорожки слез все еще сидят на его бледном лице, — я... если хочешь помочь мне, — прикусывает губу, размышляя, — тогда...
— Я сделаю все, — уверенно кивает головой.
— Тогда... забудь, — шлепает пощечиной, — забудь... все. Все, что узнал... и то... то, что было... в часовне, — задерживает дыхание, запрещая себе вновь плакать, — это была... ошибка. Мы... не должны были, мы не можем...
— Но...
— Ты же сказал, что сделаешь все, — Хосок чувствует холодные ледышки Юнги на своем запястье, — забудь.
— Я не смогу, — качает головой, почти вымаливая.
— Постарайся, — пальцы Юнги обхватывают руку Хосока и... и с силой отстраняют ее подальше от себя, — мне легче всегда думать о том, что этого никогда не было, — он отдаляется, затем ныряет за его плечо, быстро приближается к дверям комнаты, хватается за ручку, — это здорово помогает...
— Юнги... но ты... — сопротивляется, оставаясь на месте, — нет, давай... давай иначе, давай поговорим...!
Пианист открывает двери комнаты, избегает горячего слезливого взгляда парня на себе, но думает лишь о том, чтобы поскорее закрыть за ним двери, запереть их, а потом... схватиться за ножик с тупым лезвием, который уже плавится от одного желания Юнги поскорее схватить его и прислонить к своей коже и оставить его красные следы на себе.
— Хосок... — жмурит глаза, — тебе лучше... уйти. Правда. Уйди. Пожалуйста. Я... Уйди.
Невидимая рука пихает хориста в плечо прочь — во рту горько и сухо, он даже посмотреть на Юнги не может на прощание... может, даже не хочет.
Может, ему и правда лучше уйти. Забыть? Оставить все, как есть?
Может, так и правда будет лучше?
Но когда двери за его спиной с хлопком закрываются, а горячие слезы прыскают из глаз и начинают катиться по щекам, Чон Хосок уже не так уверен, что он сможет забыть все, что было.
Он совершенно уверен в том, что не сможет забыть, что влюблен в Мин Юнги.